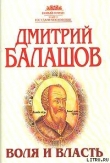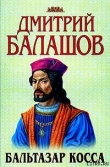Текст книги "Юрий (незаконченный роман)"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
На ночлег часто останавливались в поле, разоставляя шатры. В монастырях останавливались, строго расспросив: не болеет ли кто – или не болел ли «черной»? Безжалостная, не дающая надежды на излечение хворь была страшна всем.
Давно остались позади Русские земли, подчиненные Москве, миновали земли, захваченные Литвой, миновали Смоленск. Близились Троки.
Глава 14
Праздничный шум большого лагеря слышен был уже издали, когда подъезжали к Трокам. Уже на подъезде дорога загустела повозками крестьян и дворовой челяди. Везли красные ободранные туши зубров и вепрей, везли бочки пива, связки сушеной рыбы, кади с различной овощью, бочки соленых сельдей, сигов. Скоро, за очередным поворотом, показался стан, ряды палаток с гербами, со штандартами над ними, рядом с которыми, наводя порядок, разъезжали закованные в сталь рыцари. Ржание коней, шум толпы, многоязычная речь, яркие одежды татарской конной сторожи, бунчуки и знамена, кольчуги и брони, атлас, бархат и шелк парадных одежд – не поймешь: то ли войско собралось, готовое выступить в поход, то ли и верно гигантское празднество затеяно здесь, в Троках, и русское, зело не скудное посольство как-то враз умалилось, потонуло в этом роящемся множестве, в реве верблюдов, доставленных нарочито из далеких степей, в звуках труб и цимбалов, в горловом долгом крике-пении крымских караимов[14]14
Караимы – народ, живущий небольшими группами в Крыму и в Литве. Караимский язык относится к тюркской семье языков.
[Закрыть], поселенных Витовтом под Троками, которые сейчас, принаряженные, разъезжали верхами, соперничая блеском одежд с немецкими рыцарями. У самого главного моста к замку пришлось буквально пробиваться сквозь разноликую толпу, и русская конная сторожа уже заспорила с гордыми польскими панами, заступившими было им дорогу к замку. Но вот кто-то проскакал оттуда-сюда, но вот явились ощетиненные копьями Витовтовы ратники в позолоченных шлемах – личная гвардия хозяина Трок, и путь был расчищен. Юный русский князь Василий, весь красный от недавнего гнева, гордо задирая подбородок, первым проехал по гулкому под копытами коней настилу моста.
Витовт встретил дочь на ступенях замка уже во внутреннем дворе. Обнял ее, обнял Василия, примолвив: – Подрос!
По-русски Витовт говорил почти без акцента (как, впрочем, и по-немецки, и по-польски). Одцако долго не задерживал ни Софью, ни внука – махнул рукой, указуя: «Проводят!» И уже подходил к Фотию, принимая благословение русского митрополита под ревнивыми взглядами двух польских ксендзов-францисканцев, неведомо как оказавшихся рядом с князем. Замок был набит – мало сказать – набит, – переполнен народом. Приехавшие еще до Софьи великий тверской князь Борис, новгородские посадники и рязанские посланцы своего князя были размещены за городом. Впрочем, и мейстер[15]15
Мейстер – часть сложных слов, названий должностей или званий с первоначальным значением «мастер», «специалист» (например, гроссмейстер).
[Закрыть] прусский тоже находился вне замка, как и мазовспанский князь. Замковые помещения были отданы помимо литовских бояр польским панам, прибывшим с Ягайлой (потому-то русское посольство с Софьей и пытались ляхи не пропустить в замок!).
Роскошь одежд, гонор и спесь, лезущие из каждого слова, жеста, даже поворота головы польских шляхтичей лезли в глаза, и Софья, слегка обиженная краткостью встречи, поспешила уединиться в представленных ей покоях с видом на озеро, где было относительно тихо и можно было умыться (кувшин с теплой водой и таз ей подали сразу) и отдохнуть. Василий долго пропадал где-то там в шуме и многолюдстве, верно, устраивая своих дворян и кметей, и Софья уже начала беспокоиться, когда он явился разгоряченный, сияя ликом.
– Поляки с немцами чуть не передрались давеча! – вымолвил с торжеством. – Ливонцы забыть не могут давешний разгром! – И, не давая матери раскрыть рта, сообщил: – Дедушка вечером зайдет к нам, просил подождать с трапезой!
Видимо, это и было главное, что должен был сообщить сын. И Софья вся подобралась, понимая, что предстоит важный неприлюдный разговор о русских делах, ежели отец сам хочет зайти. Она с беспокойством глянула на служанок, своих и местных литвинок, приставленных к ней.
– А сейчас нас всех созывают на пир! – докончил Василий торжественно. – В главную палату, туда, где трон! – пояснил он, сверкая глазами, в упоении от многолюдства, роскоши и дедовых щедрот.
Отправились. Зала, когда-то казавшаяся очень большой, нынче как бы уменьшилась – такое количество разряженной знати переполняло ее сейчас. Софья впервые узрела так близко от себя польского короля Ягайлу – вислые тонкие усы, бегающие черные глаза, легкая, то пропадающая, то вспыхивающая улыбка. Он казался моложе Витовта и одет был очень просто – по сравнению с хозяином Трок в алом и золотом – как и ожидала Софья – своем наряде. Они сидели бок о бок, два брата, скрепленных ненавистью и странною любовью, в странном окружении русских и литовских князей, греческого митрополита Фотия, католических патеров, ливонского магистра и разнаряженных польских панов. Тут была собрана вся знать, те, кто попроще, угощались в молодечной и поварне, а то и прямо на дворе, за расставленными столами. Здесь, в зале, столы ломились от яств и питий русских и иноземных. Внесли устрашающих размеров осетра, внесли серебряные котлы с ухой, мясной и рыбной. Золото, серебро и хрусталь дорогих кубков и чаш начали наполняться вином. А Софья вспоминала далекий, потонувший в прежних годах пир в Краковскском замке, который сейчас, по миновению лет, казался ей и тоньше, и значительней того, что устраивал сейчас её отец. Впрочем, вошли музыканты. В перерывах меж сменою блюд привели медведя на серебряной цепи, который показывал различные фокусы – стоял на голове, подкорчив косматые задние лапы, и даже брал в лапы канклес[16]16
Канклес – гусли.
[Закрыть], царапая когтями струны. Были и литовские жонглеры, и все казалось, однако, Софье, что здешние торжества грубее, проще, хоть, может быть, и пышнее. Отец явно хотел поразить воображение гостей изобилием, навалами печеного и жареного мяса, разнообразием вин и медов. Ляхи, напившись, пробовали петь. Магистр поглядывал на польскую знать чуть надменно, а те на него – заносчиво; какой-то ордынский бек, затесненный толпой, взглядывал воровато, явно никому не доверяя. А отец в своем распашном красном облачении был бел ликом и хмур рядом с улыбающимся барственно и вальяжно раскинувшимся в кресле Ягайлой. И Софья чуяла, догадывала, что Ягайла вновь таит какую-то пакость, припасенную для двоюродника (много позже выяснилось, что пока он тут изъяснялся во всяческой дружбе, корону, везомую из Рима, по его прямому приказу задержали в Кракове, тем самым сорвав ожидаемую коронацию Витовта). Знала! Догадывалась! И ничего не могла содеять!
…Впрочем, когда усталый Витовт сидел, сгорбившись за столом в тесных хоромах дочери, Софья пыталась начать разговор с ним об Ягайле, осторожно предупредить. Но Витовт только махнул рукою: – Что я могу содеять теперь? Полонить брата и тем вызвать войну с поляками и орденом? Да и королевского звания мне тогда уже не видать никогда!
– Он же захватывал тебя, – начала было Софья.
– Другие времена! – возразил Витовт. – Ладно, не надобно об этом. Чаю, там, в Вильне, куда мы все переезжаем на днях, польская знать не станет возражать против моей коронации. – Верил ли Витовт в успех, когда говорил это? По-видимому, все-таки верил, иначе не собирал бы этого съезда, где были буквально все – и подвластные ему, и союзные с ним володетели. Надеялся. Да и ждать больше не мог. А что корону ему везут, об этом сообщил Сигизмундов посол на днях приехавший в Троки.
– Поговорим лучше о русских делах!
Выслушал, покивал головою, подытожил:
– Значит, надобно заранее уговорить хана дать шапку Мономаха Василию! Это я, пожалуй, смогу! – Опять не улыбнулся, мрачно сказал. И Софья, волнуясь за сына, неразобрала, не поняла, что отец сдерживает усталость и боль, что он нет-нет да прикладывает руку к левой стороне груди и словно бы сжимает что-то. А ежели бы поняла – ужаснулась: ведь нынешние торжества – только начало, будет еще продолжение там, в Вильне! Но Витовт так долго жил и так твердо правил своей огромной волостью, что многие почти всерьез считали его бессмертным, во всяком случае, не думали о возможной смерти своего повелителя.
– Мне надобно подчинить своей власти Новгород и Плесков! – высказал он. – Рязань и Тверь, почитай, уже в моей власти! Поляки – вот главная печаль моя, – устало домолвил он.
– Ягайло? – догадалась Софья. Витовт кивнул, промолчав.
Юный Василий, доселе молчавший, тут осмелился подать голос: – А ты, дедушка, не можешь его захватить или как-то задержать, чтобы он…
Витовт улыбнулся вымученно, протянув руку, взъерошил волосы внука.
– Ты многого еще не понимаешь! – молвил. – Не все можно творить, что бы нам хотелось!
– Но во время бракосочетания Ядвиги Ягайло ведь задержал тебя в Кракове, и ежели бы не война со смоленским князем…
– Вот именно – ежели бы! А мне приходится помнить о том, что подумает император Сигизмунд, и о том, что решат в Риме, и об отношениях с орденом и Ордой. Мне сейчас невозможно тронуть Ягайлу, и он это отлично знает, иначе бы не приехал в Троки! И корону он мне сам обещал! В Луцке! А потом и взял обещание назад, мол, польские паны не позволили! Будто в иных случаях он просил у кого-либо разрешения!
– Он боится тебя! – пояснила Софья, отрезая крылышко куропатки (есть после обильной дневной трапезы не хотелось вовсе).
Витовт начал расспрашивать Софью о русских боярах, о князьях Андрее с Константином. Вдруг поднял тяжелый взгляд старческих пронзительных глаз: – Примут они меня?
– Отец… – затруднилась ответить Софья (щадя родителя, ничего не сказала о православии, но Витовт понял).
– Я же не закрываю церквей! – сказал отрывисто. – И Фотию передал власть в западных епархиях!
– У нас на Руси… – Софья наконец, опустив очи в тарелку, решилась высказать главное. – …на Руси верят, что власть от Бога, и потому правитель должен быть православным и соблюдать все обряды, молитвы, посты, не пренебрегать службой.
– И ты?
– Я всё это делаю! И Василька воспитываю в строгом православии, иначе великим князем владимирским ему не быть.
Витовт задумчиво жевал, глядя в стену, так ничего и не ответив дочери, пробурчал только спустя время:
– Я ведь крещен дважды, и первый раз – по православному обряду!
Дочь не стала ему говорить, что вторичное католическое крещение содеяло Витовта изменником в глазах православных. Не стоило обижать старого отца!
– Даже когда я стану королем? – вновь спросил Витовт.
– Не ведаю! – молвила Софья, не желая спорить с отцом. Да и не стоило спорить пока… до выборов! – успех которых почему-то совсем не казался ей несомненным.
Уйдя от больного вопроса о вере, долго говорили, перебирая бояр и князей, одного за другим. Отца более всего интересовали выходцы из Литвы – Юрий Патрикеевич и другие. Об Иване Всеволожском выслушал молча, пренебрежительно раздул ноздри, когда узнал об оплошке под Нижним.
– А кто этот Федор Пестрый? – спросил. И опять покивал головой не то Софье, не то чему-то своему. Софье бросилось в глаза, что отец часто – от устали, что ли? – начиная говорить, не заканчивает мысль, позабывает, перескакивая на другое. Раньше этого не было. Память у Витовта всегда была замечательной. Он, впрочем, по-прежнему почти не пил вина и, исключая пиры и торжественные приемы, был очень скромен в пище. Женщины, по-видимому, нынче его не интересовали вовсе. Окончило, прокатило. (Да и пора, на восьмидесятом-то году!)
Софья, проводив отца, вздохнула: не понравился ей нынче родитель, и едва ли не впервой подумалось с легким раздражением: «И что ему эта корона? Лишняя зависимость от Ягайлы и польских панов!»
Когда укладывались спать и уже погасили ночник (остался лишь огонек лампады), и служанки уже улеглись на ордынских полосатых матрацах на полу горницы, сын, доселе молчавший (держала Василия при себе, боясь, что ратные увлекут его в пиршественный загул), спросил, лежа уже в полной темноте:
– А когда дедушка станет королем, он у нас станет королем тоже?
Софья долго молчала, огорошенная вопросом сына. Потом молвила, глядя в темень:
– Не ведаю. Спи! – И еще погодя, чуя, что сын не спит, домолвила: – Дедушка очень стар, Василек! – И торопливо, боясь иных вопросов: – Ты спи, спи! – А сама долго не спала, думала, впервые думала об отце разно от себя самой. В самом деле, что будет, когда отец станет наконец королем?..
Через два дня долгий поезд хозяев и гостей, князей, бояр, рыцарей, попов, шляхтичей, духовных, кметей и многочисленной челяди потянулся по дороге из Трок в Вильну. Там намечались основные торжества, туда должны были доставить корону и там избрать Витовта на совместном русско-литовско-польском сейме королем.
Вильна встретила княжеский поезд радостными кликами и толпами горожан, стремившихся не упустить редкого зрелища, в толпе узнавая и показывали пальцами:
– Вон Ягайло! А вот – прусский магистр! А этот-то? Русский князь Борис! А тот-то мальчик – внук нашего князя, Василий! А знаешь, сколько туров забито, чтобы кормить гостей? Тысячу шестьсот! Одних туров!
Лаяли псы, ржали кони. Жители встречали своего князя хлебом-солью, подаваемым на вышитом рушнике.
В Вильне начались новые пиры, новые празднества, приезжую знать дарили конями, дорогой сбруей, узорным восточным оружием и посудой, камнями и бархатами, жупанами и охабнями, дорогими мехами соболей, бобров, рысей и выдр. Но короны все не было, а польские паны никак не хотели без нее провозгласить литвина королем. Сейм зашел в тупик, и становилось ясно, что королевское звание вновь отодвинулось от Витовта и что надо заново слать к императору в Рим, дарить дары и уговаривать упрямых ляхов каждого порознь. Подступал октябрь, начинались упорные осенние дожди – и ждать было уже нечего. Ягайло тоже хотел уехать, с неизменными улыбками обещая брату, что то, что он говорил в Луцке, будет исполнено, обязательно исполнено… Потом! И глядел, сосредоточив бегающий взгляд, почти честно, почти взаправду, не понимая, как это так ничего не получилось из нынешнего съезда? Ягайло лукавил всю жизнь, и сейчас тоже – это уж было его коренным свойством! Словно позабыл, что сам же и велел задержать корону Витовта в Кракове! А на случай, ежели двоюродник вызнает о деле, готовился все свалить на непокорную польскую шляхту, которая не захотела, не позволила, не послушалась его, короля! В первых числах октября начался разъезд гостей. Уехала и Софья. Начали разъезжаться ляхи. И без их гербов, плащей, узорных полон, крылатых шеломов все как-то попростело, уменьшилось. Уезжала Софья, в последний момент кинувшаяся на шею отца, обливая слезами его расшитый самоцветами плащ, будто чуяла, будто понимала, что больше не узрит родителя.
Василий, которого дед на прощание крепко обнял и расцеловал, примолвив: – В Орде сделаю, что смогу! – тоже едва не расплакался, но не из предчувствий каких, а попросту потому, что окончилась сказка. Сказка о величии и гордости, о власти и красоте иноземной, и потому тем паче волнующей. Василий по малолетству еще нигде не бывал, а такого пышного съезда вятшей господы и представить себе не мог. Уехали. Уехал и Борис Тверской. Пустела Вильна. Измученный Витовт оставил у себя Фотия и, изгнав всех католических прелатов, заперся сним. Похоже, он начал что-то понимать в конце концов. Во всяком случае, Фотий, быв у Витовта после съезда одиннадцать дней, получил все, что хотел: всезападные епархии были вновь подчинены ему. О Григории Цамблаке и вообще об идее особого митрополита для русского населения Литвы было забыто, права Православной церкви были подтверждены и утверждены вновь, к вятшему неудовлетворению и даже ярости католиков. Думал ли Витовт, теперь, после неуспеха своего венчания, перекинуться к православию? Или затаивал очередную игру, дабы, угрожая своим переходом в православие, вырвать-таки корону из рук папского Рима? Этого мы никогда не узнаем.
Фотий, расставшись с Витовтом, успел лишь доехать до Новгородка Литовского (а Василий с матерью, Софьей, были еще в Вязьме), когда пришла весть, что Витовт умер в Вильне 27 октября. Сдало, не выдержало старое сердце повелителя Литвы. Умер, открыв дорогу затяжной борьбе двух претендентов на престол – православного Свидригайлы Ольгердовича и Сигизмунда Кейстутьевича. Сигизмунд был, кажется, порядочнее Свидригайлы – «Швидригайлы», как говорили на Руси, но и оба они вместе не стоили одного пальца покойного Витовта. А Софья так до конца дней и не могла простить себе, что не дождала в Вильне, что не встретила последние часы и не закрыла глаза отцу.
Глава 15
Как все меняется в мире, когда умирает великий человек!
Ведь живут и здравствуют тысячи людей, остаются сподвижники покойного? Но как будто бы тот, живой, что-то сдерживал, выдвигал наперед, даже своим бытием в мире обуздывал страсти, которые с его смертью, словно джинн из бутылки, вырываются на волю, разрушая и переиначивая видимый мир!
Не единожды свергаемый, Улу-Мухаммед забирает власть в Орде, татары нападают на Литву, те самые, которые еще недавно ходили в воле Витовта, а Свидригайло (родич и побратим Юрия Звенигородского), частью в отместье покойному Витовту, девять лет продержавшему его в заточении, становится тотчас союзником Юрия, который, таким образом, получает возможность, уже не боясь Литвы, вновь начать борьбу со своим, уже подросшим племянником.
Впрочем, «союз» Юрия со Свидригайло был недолог и обрушился под натиском католической экспансии.
Беда была еще и в том, что «Швидригайло» по причине своего буйного нрава не устраивал многих, а его православие привлекало к нему лишь издали. Все это учел Сигизмунд Кейстутьевич, поднявший, опираясь на католическую Польшу, восстание против Свидригайло.
В ночь с 31 августа на 1 сентября 1432 года Сигизмунд, совместно с князем Александром (Олельком) Владимировичем, выступил в Ошмянах против Свидригайло. Тот бежал в Полоцк. Сигизмунд возобновил 15 октября 1432 года унию с Польшей. Свидригайло двинулся на Ошмяны, но 9 декабря был разбит.
События эти избавили Русь, хотя бы на время, от угрозы западной интервенции и развязали руки Юрию Звенигородскому.
И в 1431 году сразу же совершается несколько важных актов и событий. Ягайло со Свидригайлом, дядей своим, наследником Витовта, упрочивая литовские дела, являются в Новгородец Литовский, где Фотий, получив известие о смерти Витовта, в тревоге ждет дальнейших событий, успокаивают митрополита, утвердив за ним полученные от Витовта льготы и права.
Тем же летом ордынский князь Айдар совершает набег на Литву, обманом, через клятву, захватывает воеводу Григория Протасьева, которого, впрочем, Улу-Мехмет, «поругася Айдару», тотчас выпускает с почетом.
И в то же самое лето Юрий Дмитриевич «разверже мир с великим князем Васильем Васильевичем».
Борьба за престол началась вновь. Впрочем, «развержение» это было зимой, и прямых военных действий за собою не повлекло.
Во всяком случае у правительства Софьи была возможнось в том же году весною послать князя Федора Пестрого с ратью на Волжскую Болгарию. «Он же шед, взя их, цел землю их плени. Того же лета явишася на небеси три столпы огненны», – сообщает летописец, что явно предвещало засуху, голод и пожары. Горели торфяники и леса. Москву всю заволакивало горьким дымом.
Поход, по-видимому, совершали сразу после ледохода, весной, а в середине лета, второго июля, в Москве преставился митрополит всея Руси Фотий, положенный в церкви Пречистой Богородицы, рядом с гробом митрополита Киприана.
В конце июля инок Симеон Федоров посетил деревню двоюродника под Рузой, прослышав, что Лутоня, патриарх всей семьи, плох и собирается умирать. Ехал тлеющими борами на лошади, что фыркала, ржала и то и дело пятилась от подступающего к дороге огня, и благодарил себя, что отказался от возка или телеги – а поехал верхом. С запряженной лошадью было бы, пожалуй, и не совладать.
Лутоню он застал уже на столе, обряженным, и Прохор, ковыляя по избе, заполненной всполошенными родичами, ладил гроб-колоду из большого осинового ствола. Приезду Симеона все обрадовались несказанно, ибо отпала тяжкая необходимость ехать куда-то сквозь горящие леса за попом. Мотя, разом постаревшая, сморщившаяся – совсем старуха! – кинулась целовать ему руки. Растерянная, она металась между детьми и внуками, уже не хозяйка и не госпожа – со смертью Лутони тут все грозило распасться… Симеон, как мог, успокаивал родичей. Лутонино тело было положено наконец в колоду, и Симеон по памяти исполнил весь чин заупокойной службы. Потом колоду с телом отнесли на маленькое кладбище, постояли жалкою кучкой, овеиваемые жаром недельных лесных пожаров. Сиротливое гнездо, потерявшее своего строгого вожака. Женщины плакали. Открыли в последний раз колоду. Симеон посыпал тело сверх савана крестообразно землей, прошептал неуставные горькие слова о быстроте жизни и невознаградимости утрат. Даже в эти годы, наполненные смертями, смерть Лутони – не от мора, от старости! – казалась невосполнимою потерей. Татарчонок Филимон с Сашей, сыном покойного Ивана, примчались верхами уже к поминкам. Тоже сперва сходили, не заходя в дом, на погост, постояли над свежею могилой пращура. И тоже казалось, не в последний ли раз собирается вся большая служилая, и крестьянская, семья? Семья, которая грозила распасться уже давно, семья, которую скрепляла Наталья Никитишна, а потом Иван Никитич, а после Лутоня, Но уже те все в могиле, и как будет, и что будет впредь? Симеон полагал в сердце своем не допустить распада этой семьи, хотя бы при жизни своей, хотя бы пока не пройдет беда лихолетий и княжеских раздоров! Ибо на него, а никак не на хромого Прохора, лег теперь по справедливости нелегкий крест.
На поминках много пили (мед был свой, из Лутониных запасов), ели свежатину, мужики завалили нынче обгорелого медведя, выбежавшего из леса прямо к избам, и сейчас переговаривали о том, что зверь просил его пожалеть, помочь как-то, и не по-хорошему было брать его, обожженного, на рогатину! Ругали нынешний год – ни хлеба, ни сена не заготовили вдоволь, опять придется скотину по весне прутьем кормить! Спрашивали о смерти Витовта, о том, что творится на Москве, о Фотии, о том, что не стало бы войны между своими? Сидко, Юрьев дружинник, нарочито размахивал руками, бахвалился. Скворец с Глухарем, сходившие в тот пустопорожний поход до Суры поганой, нерешительно поддакивали ему, поглядывая на Симеона – что-то скажет секретарь покойного Фотия? Филимон горячился, защищая Василья Васильича.
– Ну и что ж, что вьюнош! Дети растут! Не остановишь. И неча вашему Юрию выступать. Взяли обычай смерды судить о княжеских делах!
Пора было уже вмешиваться. Трезво и спокойно Симеон высказал, что, во-первых, негоже спорить у могилы прародителя своего, только-только снесенного на погост, а во-вторых, негоже говорить с презрением о своих родичах. Неважно, смерды они или нет. Он, Симеон, тоже за то, чтобы на столе Владимирском оставался Василий, однако дело решится в Орде, по ханскому слову, а не нашими взаимными ссорами, от которых умаление всему русскому племени!
Сказал – утишил. Бабы загомонили враз, виня зарвавшихся мужиков, но Симеон чуял, что только заставил смолкнугь, но никак не уговорил спорщиков, не «свел в любовь». Тяжкое это дело, когда царство разделится. И в святых книгах о том говорится как о первой беде, от коей может пропасть весь народ! Молодые молчали. Синий шевелил бровями, переваривал сказанное Симеоном, начинал было вопрошать: – Как же тогда? – Поднимал взор и вновь опускал. Он, как и братья, был за Юрия, но ссориться ни с кем не хотел, даже с татарчонком Филимоном. А Саша, сын московской калачницы, молчал, он и о-сю пору ощущал себя чужим, севшим не в свои сани, и только когда его спросили, тихо вымолвил, что московские купцы вроде бы за Юрия, а великие господа держатся Софьи и ее сына. Сказал и вновь смолк, тупив очи. Дела у него в Островом шли ни шатко ни валко. Не чуял он себя господином, и на – поди! Но хоть нынче не галились над ним, напротив того, вроде бы даже жалели. Мгновениями он задумывался, вдруг: да полно, Федоров ли он? От Ивана ли Иваныча принесла его мать? Почто он никак не может набраться того господского духа, той удали, что с избытком были у Филимона-Збыслава, всегдашнего защитника своего?
Прохор тоже подал свой голос:
– Как грешит земля, так и будет! – И неясно было, кого он подразумевает под «землей» – смердов, посад или великих бояр? Как-то доселе не разделяли бояр и народ. Бояре были свои и не свои, но за каждым шли преданные «зависимые» от него люди. И шли, не спрашивая, прав ли их боярин али нет? Такого, как теперь, не было допрежь на Москве!
Вмешался Услюм, названный так по деду, ударил кулаком по столу:
– Тихо, мужики! В своей семье нас задирать негоже! Позовут – пойдем, не те, так другие, а все одно – родни забывать не след! Вспомните, как нашего батю покойная Наталья Никитишна приняла и пригрела, а и допрежь того! Прадед вон, никак, друга своего из затвора выпустил, так то, братья! А вы готовы и не на рати, а дома очи друг другу выцарапать!
Проняло пуще Симеоновых наставлений. Бабы загомонили вновь. Забава с Лукерьей, на правах старших, даже и прикрикнули на спорщиков. И снова пили, заедая медвежатиной. И вновь поминали покойного, главу ихней крестьянской семьи. Сашок молча утирал глаза, тоже вспоминал, как его приняли в доме по слову Лутони, а старущка Мотя, так даже погладила парня по плечам, молча ободряя. Филимон, покрасневший было, нахохлившийся, отошел и уже гуторил о своем, домашнем, другим вослед, а Забава с Лукерьей в два голоса начали уговаривать его жениться.
– Да и Сашка надобно окрутить! – примолвила Танюха, зыркнув глазом на заалевшего островского барина.
– Да женку ему потверже надо! – поддержала Фекла. – Чтобы госпожой была!
Саша, весь красный, выскочил из-за стола, выбежал в сени.
– В хлевах где-то прячется! – вымолвил Игнатий. – Со мною тоже такое бывало, задразнят когда.
Симеон молча встал и вышел следом сразу, на дворе глянувши вдаль – не ушел бы мужик дуром куда! Затем, отстранив двоих ребят Лукерьи, выбежавших следом, пошел на конюшню. Сашок, давясь слезами, как он и думал, седлал своего коня. Твердо отстранив мужика, Симеон снял седло с лошади, повесил на спицу, разнуздал коня, потом крепко взял за плечи Александра, забившегося лицом в сено, встряхнул, вымолвив негромко:
– Пошли отсель! – И повел, не выпуская, на зады, подале от любопытных глаз. – А жениться тебе и верно пора, паря! Это бабы правильно говорят, и обижаться на них не след!
Нашлись два чурака на задах, где и уселся Симеон, усадив Сашу прямь себя. Долго молчал, сожидая, дабы успокоился парень. Потом велел ему вслух вместе с собою читать «Отче наш», заговорил медленно и веско:
– Почто ты вскипел, ведаю! Не задалась служба твоя? Ослабы хочешь? А родичей хочешь иметь? Отца, деда, прадеда? Думаешь, им всем легко было? Вестимо, калачами кто не горазд торговать! Дак почто тогда ты пришел на двор своего отца? Почто просился – молчи, не прекословь! Не ты – старуха, что тебя привела, – дак все одно! Тебя приняли, дали то, что дороже добра, – власть! К власти привыкнуть должно! Вора убили у тя, баешь? А сколь невиновных ни в чем убивают, считал? А когда тати на эту деревню напали и сколь порешили народу, ведашь? – Симеон нарочно говорил по-народному, сокращая слова, не растягивая слогов, так было и убедительней и яснее. – Ты, кроме меня, един остался из Федоровых! Твоего пращура тверская княжна любила, сережки подарила ему золотые, чуешь? А что другой твой пращур грамоту в Переслав князю Даниле привез и с того Москва начала сильнеть, ведашь? у тебя, паря, не уменья не хватает, а гордости! Гордости родом своим! По земле ты теперь и воин, «сын боярский», чуешь? И тебе подлежит продолжить наш род, не уронить имени Федоровых! Знатного имени! Поболе знатного, чем у иного боярина! Я к тебе обязательно приеду, погляжу, как там и что, а ты – учись! И книги чти, коли есть свободное время. «Часослов», помню, у вас был в Островом, Псалтирь, Евангелие. Добро ли помнишь жизнь Исуса Христа? То-то! И «Мерило праведное» со временем надлежит прочесть, и «Хронограф»! То книги нужные, надобные книги! По ним бояре и князья постигают законы власти! Ну а не сможешь – тогда и скажем, что не своего отца ты сын! Али сможешь? – Симеон встал, подошел к парню и стиснул его за плечи. – Ну дак как?
– Смогу! – тихо молвил Сашок.
– Вот и лады! А теперича поплескай водой, вон хоть из той кади, лик свой умой, да пошли в избу! Нехорошо от поминального стола уходить!
В избе, куда Александр вступил с некоторым страхом, его затормошили, затискали, потащили, усадили за стол. И первый диковатый девичий взгляд, который он встретил, подняв очи, был взгляд Прилепы, Лукерьиной, уже слегка заневестившейся дочери (девушке было уже двадцать лет). Девушка робко улыбнулась ему (много позже сказала сама: «Пожалела я тебя в ту пору!»). Русское слово «жалеть» многозначно, оно означает и жалость, и заботу, и дружбу, и любовь, и еще много сходных чувств и понятий. За шумом застолья, за молвью разве Прилепина мать Лукерья почуяла что, подняла бровь. Впрочем, родство уже было достаточно далеким. По первости все забылось, а вспомнилось потом, когда Сашок зачастил в деревню, раз за разом, а Прилепа отвергла выгодного, с точки зрения матери, жениха, но было это уже после многих иных событий. После возвращения князей из Орды, после вокняжения Василия Васильича, в те дни, когда и не чаялось уже никем, что Юрий Звенигородский когда-нибудь достигнет вышней власти…
Пока же все сидят тесной семьею и на опустевшем Лутонином месте стоит налитая чарка, прикрытая коркой хлеба. Сидят, пьют, едят, и разговор вновь от горестных бед сегодняшних восходит к истокам власти, к тому, кто же теперь станет, после Фотия, митрополитом на Руси? Да и о том вопрошают, ведал ли Фотий о своей кончине? Как ведали обычно все святые люди.
– Ведал! – твердо отвечает Симеон и притихнувшей родне повествует о видении, постигшем Фотия за год до смерти. Сам он об этом знал только по рассказам духовных, а самого Фотия стеснялся спросить, ибо жизнь торжествует всегда, в особенности же рядом со смертью. Бывши в ложнице своей по утрени, после того как обычно молитву совершив, прилег Фотий на одре своем отдохнуть и заснул, и внезапно воссиял свет в ложнице пречуден: муж к нему входит, светлоокий, с посохом, власы златы у него, и венец царский на главе, и одежда струится, яко река самоцветная, и стал пред ним. Фотий к нему: – Кто ты? Как дерзнул войти ко мне, понеже двери мои заключены суть? Не тать ли ты?
А тот: – Всуе плохое мыслишь, не тать я и не от земных человек, могу пройти и сквозь каменную стену, и сквозь вороты железные. Аз есьм Божий ангел. Послан к тебе от самого Господа сказать тебе срок жизни твоей, дабы устроил дела свои земные!