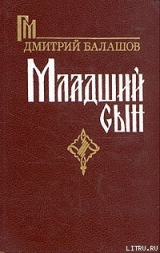
Текст книги "Младший сын"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Глава 111
Федор получил нынче несудимую грамоту на землю. Теперь, если бы даже Окинф Великий воротился, он бы не смог сделать ему большого зла: Федор отвечал по суду только перед самим князем, как любой боярин-вотчинник. Впрочем, вся вотчина его была пока что – два крестьянских надела да холоп Яшка. И жили они не землей, а службой Федора, получавшего месячину от князя зерном, мясом и рыбой. В серебре Иван нуждался так, что не мог платить иначе, как натурой, даже ближайшим слугам из боярчат и вольных ратников – вроде Федора. И, конечно, умри князь Иван да вернись Окинф, Федору все равно пришлось бы плохо. Впрочем, плохо пришлось бы не ему одному. Передавали, что Окинф продолжает подбивать великого князя Андрея пойти походом на Переяславль, забрать город себе, а Окинфу воротить его вотчину. Но Андрей застрял в делах новгородских и ордынских и пока, слава Богу, не трогал князя Ивана.
В дом взяли соседскую девку в работницы, в помощь матери с Феней. Четыре лошади, корова с телком, два десятка овец требовали нешуточного ухода. Одной воды потаскаешь. Мать все прихварывала, жаловалась на боли в боку, становилась забывчива. Засунув куда-нибудь мутовку или веретено, долго искала, жалуясь, что утянули соседи… Сын зубрил грамоту, бегал туда же, куда и отец, в Никитский монастырь. Только к другому наставнику. Старый учитель умер, и Федору все казалось, что новый учит хуже, небрежнее. Сын, когда спрашивал: «Чево она сдалась, грамота?» – получал затрещины, как и сам Федор когда-то от старшего брата. Ничего, помогало. Читал бегло, и Псалтирь одолел уже полностью. Сын начинал тянуться в рост, голос становился хрипловат, в драках не уступал и не жаловался. Федор косился порой на широковатый распухший нос сына, разбойные, широко расставленные глаза. Иногда казалось, что сын и косит, как Феня. Он уже начинал пахать, хоть и не всегда справлялся с сохой, лихо ездил верхом. Грикша в очередной свой приезд долго разглядывал племянника, потребовал почитать ему вслух, прикрикнув на заупрямившегося парня. Тот поглядел воровато на отца, понял, что пощады не будет, покорился. Грикша слушал, собрав лоб в морщины, думал, утупив очи в пол. Отослал мальчишку, сказал Федору:
– Может, пошлешь ко мне? Можно пристроить к монастырскому делу альбо на княжой двор, к Даниле Лексанычу…
– Пущай подрастет… – ответил тогда Федор.
Вскоре после свадьбы княжича Юрия, отпраздновав Пасху, мать слегла. Она лежала небывало тихая, почти не делала замечаний Фене, не гоняла девку, и Федор встревожился. Он даже хотел позвать лекаря с княжого двора, мать замахала рукой:
– И не думай! Отлежусь! – Подумав, сказала однако: – Бабку Ознобиху созови!
Мать и парили, и натирали. Ознобиха шептала над ней, жаловалась, что зубы выпали, сила у ней уже не та, без зубов и наговор не крепок.
– Болит что, мамо? – спрашивал Федор с тревогой.
– Ничо не болит. Отлежусь, – отвечала мать.
Она лежала в избе; когда потеплело, ее перевели в клеть. Заходила Олена, подолгу сидела с подругой. Как-то Федор зашел к матери и в полумраке клети сразу не понял, но почуял, что что-то изменилось. Мать тяжело дышала. Лицо было в поту, заострился нос.
– Простыла я! – сказала она и трудно закашлялась. – К лежачему-то всякая хворь пуще пристанет…
К вечеру у нее начался легкий жар. Она заговорила сбивчиво. Вдруг спросила:
– Что Прохор-то не заходит?
Федору стало страшно. Как-то все меньше замечал мать последние годы, а как подумал, что без нее совсем – и испугался до холодного ужаса. Мать казалась вечной, как земля, как небо. И не думалось, что все отдаляется и отдаляется она, уходит… И скоро уйдет. С поздним раскаянием вспомнил, как привычно небрежничал с нею, как отмахивался от ее настырных расспросов, как раздражался, когда она вновь и вновь заговаривала о сестре, стыдился смешной гордости материной, когда она при нем начинала хвалиться его службою на княжом дворе. И только тут пожалел, что князь Данил не нашел поры заглянуть к нему, почтить мать. Прежде, наоборот, радовался: не в его, мол, дымной избе князя чествовать. А матери это было так нужно! Вспомнил, как она сидела и пряла, зорко глядя, чтобы братья учили грамоту. Без нее бы, быть может, так и остался в мужиках…
Федор сидел у постели матери, задумавшись. Не заметил, как она открыла глаза, вздрогнул, когда сказала негромко:
– Сединой-то тя поволочило!
Мать смотрела ясным взглядом, но словно откуда-то издалека. Он взял ее руки – руки были чуть теплые и такие легкие, почти ничего не весили.
– Умру, – сказала мать после долгого молчания. – Ежели Параська воротится, от дому не гони, прими уж ее к себе, Феденька! Ты у меня жалимой, тоскливой, Грикша-то, может, и не захочет ее принять, убогую-то…
– Что ты, матушка! – выдохнул Федор. Он ткнулся матери в грудь лицом, чуя, как горячо защипало в глазах, и, ощутив знакомый с детства материн запах, заплакал. Мать с усилием выпростала из тряпья легкую невесомую руку и погладила его по голове. Она и тут, напоследях, сама умирая, утешала своего почти сорокалетнего младшего сына, жалея, что оставляет его одного в холодном и трудном мире на чужих нежалимых людей…
Мать схоронили на погосте, в отчем месте, как она и просила, близ родителей. Когда обряжали в гроб, плакали все. Феня ревела в голос, плакал Ойнас, девка тоже шмыгала носом. Плакали соседки, собравшиеся проводить покойницу.
На погосте, когда засыпали могилу и утвердили крест, бабка Олена завела высоким чистым голосом похоронную причеть. Вопила-пересказывала всю Верину жизнь, и беды, и разоренья, и вдовство, и пожары. Другая соседка подголашивала ей. Когда бабы смолкли, звонко и радостно защебетала какая-то птичка, и все подняли головы и прислушались. Кончив, разделили кутью, съели, высыпали на могилу для птиц. Когда-нибудь и мать обернется птичкой, прилетит поглядеть на хоромное строеньице, на природную кровинушку, на своих внучат-правнуков…
Негустая толпа княжевецких сельчан с погоста отправилась к Федору помянуть покойницу. Вспоминали о ней только доброе. Быстро захмелевший дед Никанор (он уже с трудом ходил, но тут выполз и на кладбище был со всеми) кричал:
– Веруха! Ты, Федька, гордись, твоя матка… Эх!
Ему не хватало слов, он мотал головой и, сникая, ронял старческие слезы. Бабы успокаивали старика, подливали пива. И Федору, сквозь рвущую боль в груди, было радостно, что поминают неложно, добром, что и верно, не делала его мать никогда и никакого зла людям.
Грикша, предупрежденный через монастырских, приехал из Москвы на сороковины. Он был уже совсем седой, как-то Федор увидел это только теперь.
Наследство они поделили без спора, да и делить-то было нечего. Нынешний двор Федор ставил сам, без помощи брата. Он отдал Грикше одного коня, за прочее заплатил серебром. Землю делить не стали, Грикше все одно пришлось бы ее запустошить. Поспорили малость только о кое-каких старинных вещах, что хранились в материной укладке. Обоим они были дороги как память об отце. Грикша скоро уехал к себе, в Москву, а Федор с Ойнасом начали готовиться к жатве. Уже поспевал хлеб.
Глава 112
Этой зимой на Руси было спокойно. Орде хватало своих забот. Великому князю Андрею тоже пока было не до Переяславля. Хан Тохта в первом сражении с Ногаем, на Дону, был разбит и отступил, однако с помощью русских войск вновь начинал теснить своего врага. Монгольские эмиры покидали Ногая, и уже ясно стало, что тому долго не продержаться. После разорения Кафы, резни в Крыму и убийства родичей, учиненного сыновьями Ногая, от него отвернулись все, кроме половцев и алан – недавних врагов Орды.
Зима была малоснежной, и весна наступила быстро. Данил Лексаныч о Рождестве гостил в Переяславле у племянника, у которого этою зимой умерла мать, вдова великого князя Дмитрия, ездил в Тверь, сына Юрия начинал приучать к хозяйству, поручая ему то одно, то другое, сам же все чаще бывал в Даниловом монастыре, отстаивал службу, почасту и трапезовал с братией да ставил и ставил новые села.
Когда паводок согнал снега, Юрий отправился вместо отца объезжать волости. Возвращался веселый. Скидывая чапан, заляпанный грязью, разливая густой запах конского пота, хвастал:
– Зеленя хороши! Скрозь проскакали от Красного до Рузы. Мужики пашут вовсю. Сады смотрел. Надоть баб послать порыхлить под яблонями, да зайцы кой-где погрызли, пообрезать тоже нать. Дневали в Звенигороде, уху хлебали из икряных ершей – хорошо! Купцов скоро ждать новгорочких надоть!
– Пристаня чинят?
– Минич смотрел… Гляну ввечеру.
– То-то! Анбары кой-где перекрыть, с зимы прохудились.
– Росчисти смотрел за Истрой, рязанских убеглых дворов с полста тамо можно поставить.
– Мужиков одних пошли. Преже пущай подымут целину, в шатрах поживут, ничо! Скажи Афоньке: месячину дать им из нашего. А бабы тут на дворе да на огородах до поры, до хором. Приглядишь тамо, чтоб сорому не было от ратных. Народ ить молодой и в грех не возьмут! А мужикам лишней обиды тоже не нать.
Данил слушал сына довольный. Юрий, кажись, не шутя начал вникать в хозяйство. Выслушав, остерег:
– Не посохло бы только. Вода нынче низко стоит.
– Да, старики баяли… – рассеянно отмолвил Юрий.
– Старики, они знают! – возразил Данил. – Им от дедов-прадедов знатьё пришло. Стариками не гребуй… Наказывай там, пущай поболе в низинах, под лесом, пашут, где самая мокрядь. Нынче ничо не вымокнет, не того бояться нать.
Год, и верно, выдался тяжелый для всех. Первое несчастье произошло в Твери, где чуть не сгорел князь Михайло. Пожар в тереме занялся невестимо как в ночь субботнего дня на Святой неделе. Сени были полны боярчат, слуг, а не слышал никто. Михаил выскочил в чем был, сам вытаскивал княгиню из пламени. Сгорела казна, порты, обилие, ничего не успели вымчать из огня. Михаил долго болел, и Данил ездил в Тверь, помогал союзнику.
Уже в июне начали сохнуть огороды. Боры стояли горячие, истекая смолой. На лугах вяли травы, склоняя метелки соцветий, даже в болотах высокие сочные стебли бессильно свешивали головки едва распустившихся, с дурманящим запахом, цветов. Хлеб был редок, уродило только в самых низинках. Данил и тут оказался прав. Петровым постом начали загораться боры. Синий дым вставал вдали, над лесами, по всему окоему. Князь рассылал слуг, холопов, дружинников, окапывать и тушить леса. Все было напрасно. Огонь пробирался по иссохшему валежнику, горели мхи, свечами бледного призрачного огня вспыхивали стволы и, обгорая, с треском рушились, вздымая облака искр и душного дыма. Лоси, лисы, зайцы, барсуки бежали от огня в город. На Великой улице поймали медведя. Косолапый, обгорев на пожаре, бестолково тыкался, скулил. Хотели убить, потом, пожалев, поили водой. Зверя, привязав на цепь, свели на княжой двор.
Солнце бледно светило сквозь сизый морок. Горели моховые болота. Едкий дым полз по земле, разъедая и слепя. Вспыхивало и тлело тут и там. Вдруг целые острова с деревами проваливались куда-то внутрь. Гибли люди. Жители лесных деревень, бросив свои избы на съедение огню, спасались со скотом и пожитками в город. Душный чад горящего мха заволакивал Москву, першил в носу, разъедал горло. В тяжком дыму было трудно дышать. Данил отправил княгинь с малыми в село на Воробьевы горы. Сторожа следила за кострами и кровлями посада. Уже не тушили, только оборонялись от огня. Боялись, что загорится Москва. Река мелела, там, где была текучая вода, вылезли островки и мели.
В июле мимо Москвы, через горящие леса, валила рать ярославского князя. Федор Черный заехал к Даниле Московскому. Кашляя, отплевываясь, пил холодный квас. Юрий поглядывал то на злое, морщинистое лицо недавнего их супротивника, то на отца. Данил хлебосольно потчевал Федора Черного, неторопливо беседовал, только лишь иногда с легкой усмешечкой на лице.
Ярославский князь шел походом на Смоленск, на отложившегося племянника своего, Александра Глебовича. Сидя за столом, хвастал, что сотрет племянника в порошок. Данил кивал, поддакивал. Провожая Федора Черного, вышел на крыльцо.
Юрий не утерпел спросить. Тут же стояли Борис с Александром. Все трое уже спорили давеча, без отца, о ярославском князе. Данил поглядел на сыновой:
– Думашь, почто принимаю? А и не принять как? Князь! Не принять, не угостить нельзя. Нищих, убогих принимаем, не гребуем. – Он еще подумал: – Возьмет ли Смоленск? Навряд. Смольняне упреждены. Ждут. Отобьются! Кому он надобен там… И у нас-то никому не надобен.
Сыновья смотрели на отца. Александр проговорил сердито:
– Он ить Переяславль сжег! Его бы вовсе не примать!
– Нельзя, – строго отмолвил отец. – Гость!
Федор Черный, и верно, не взял Смоленска. Постоял под городом, приступал несколько раз к стенам, но был отбит и с соромом отступил. Вскоре потрепанные ярославские рати валили назад сквозь дымные, затянутые горьким чадом леса, и вновь Данила принимал Федора Черного, несчастного, злобного, задыхающегося от кашля и обиды.
– У тебя, князь, Ярославль. Детям есть что оставить! – говорил Данил примирительно. – А Смоленск оставь. Земля не восхощет, что сделашь! Да и годы твои преклонные, о душе подумать пора.
И Федор настороженно косился на спокойное, с прищуром, раздобревшее лицо московского князя. Ворчал:
– Смерды! Песья кровь. Падаль…
Выпяченная нижняя губа его судорожно подавалась вперед. Он злился на московского князя, подозревал, что тот чем ни то помог смольнянам, но толком так ничего и не узнал и вынужден был покорно терпеть спокойные, чуть насмешливые утешения хозяина.
Княжичи тоже сидели за столом, глядели во все глаза то на Федора Черного и его нахохленных воевод, то на батюшку и готовы были прыснуть в кулаки.
Проводив ярославского князя и опять остановясь на крыльце, Данил, дождавшись, когда последние всадники отъехали, оборотился к детям:
– Ну вот! И нету больше Федора на смоленском столе!
– Батюшка, ты сам упреждал смольнян? – не вытерпел и на этот раз Юрий. Данил захохотал, торнул сына в затылок:
– Думашь, сами не знали?!
Отсмеявшись, прибавил:
– Упредить – невелик труд. Земля отвергла его, вот что! Да тут, – приодержавшись, добавил Данил, – что племянник, что дядя – друг друга стоят. Ставил его Ростиславич, чуял, что по духу свой: таков же подлец. Ан он свой и обвел! Подлец завсегда в людях ошибется – по себе судит дак! Людей себе ищут, думашь, по уму? По сердцу, как на сердце ляжет! Сам хорош, хороших и найдешь, и служить будут верно. А сам как Федор Черный, и холопы твои будут таковы же, и служить станут до часу, пока не споткнулся. Так-то, сын!
Лесные пожары утихли, только когда пошли наконец осенние дожди. Но и когда уже выпал снег, на моховых болотах нет-нет да и протаивало, курилось упорным едким дымом, пока уже метели с морозами не укрыли все вдосталь, до конца.
Федор Черный умер в следующем году, посхимившись, у себя, на Ярославле. При жизни он всем мешал, и о нем постарались забыть, вернее, забыть то, чем он был на деле. В памяти и преданиях он остался родоначальником ярославских князей, и его потомки, вкупе с монахом-летописцем, много потрудились, чтобы в житии Федора Черного придать своему предку черты благолепия и святости.
Год этот, предпоследний год тринадцатого столетия, начался грозным солнечным знамением, предвещавшим, как толковали старики, новую рать. Всколыхнулось на западной окраине страны. Немцы в силе тяжкой пришли под Псков, и князь Довмонт, выйдя навстречу, разбил их в кровавой, небывалой доднесь сече на берегу Великой, в виду псковских стен. Это был последний подвиг знаменитого псковского князя. Тою же весной, двадцатого мая, Довмонт умер, с почетом и скорбью быв положен в соборе Святой Троицы. Да будет память его нерушима в Псковской земле!
На далекой южной окраине, в степи, в гигантском сражении был разгромлен Ногай. Сыновья его бежали, чтобы, в свой черед, бесславно погибнуть в чужих землях. Сам же он был настигнут и убит русским ратником, поднесшим отрубленную голову Ногая хану Тохте.
Тохта долго смотрел на голову старика, серую от пыли, с жалко торчащими пучками седых бровей «столь густых и длинных, что они, при жизни, закрывали глаза его». Спросил, как воин узнал, что перед ним именно Ногай? Выслушав, что всесильный темник, будучи схвачен, сам назвал себя и просил отвести к Тохте, кивнул головой и, помолчав, приказал казнить ратника: «ибо не подобает простому воину самому убивать сдавшегося ему столь великого мужа».
Так закончился раскол Золотой Орды, дорого обошедшийся Орде и еще дороже многострадальному «русскому улусу».
Волны от разгрома Ногая пошли по всей земле. Зашевелились, потекли, разоряя города и веси, разбойные отряды разбитых и победителей. Южная Русь, некогда силой привязанная к Орде Ногая, погибала теперь вместе с ним.
Этою зимой от татарского насилия разбежался весь Киев, и митрополит Максим со всем клиром и двором переехал во Владимир. В апреле он сел на волостях владимирского епископа, переведя владыку Симеона в Ростов.
В Рязани тою порой умер князь Ярослав Романович, и на рязанский стол сел Константин Романович, набравший конную рать из разбежавшихся ногаевых татар и сразу рассорившийся с племянниками, пронскими князьями, а заодно с Данилом Московским из-за рязанских мужиков и порубежных сел.
Тверь собирала силы. Ждали, что после разгрома Ногая Андрей опять обратит свои взоры на Переяславль. Михаил, оставя жену (Анна была на сносях) на попечение матери, поехал в Переяславль договариваться с Иваном. А беглецы из южных разоряемых княжеств все шли и шли, пробираясь дорогами и лесами в спасительные заокские и заволжские леса, и за ними тянулись бояре с послужильцами, и даже мелкие князья снимались с мест, чтобы поискать счастья на севере.
Глава 113
Юрий нынче, воротясь из Переяславля, застал отца в хлопотах.
– Ко мне большой боярин просится с Волыни, Нестер Рябец с сыном Родионом. Тысячи полторы людей с има!
Юрий присвистнул:
– Сила!
– То-то! – отозвался отец. – Сила силой, а хватило бы запасу прокормить!
– Ну, до осени дотянем.
– До осени не хитро дотянуть. У твово родителя, Юрий, хлеба было засыпано на три годы вперед! А только засуха подъела.
– Где посадим?
– Подумаю с боярами! На Сходне у нас земли пустые еще.
Волыняне подходили весь следующий день и располагались станом за Москвою-рекой. Бояре, старый Нестор Рябец и Родион, трапезовали у князя.
К вечеру, когда утихла суета на торгу и начал успокаиваться посад, Данил с Федором Бяконтом отправились осматривать стан. Волынский табор протянулся аж до Данилова монастыря. Горят костры. Плачет ребенок. «Долго ли еще брести?» – спрашивает кто-то от шатра. Кони под коврами чутко дремлют, изредка встряхивая гривами. Звяк оружия, и вновь тихая южная речь. Люди истомились в дороге.
Встречу князю шел хромающий Нестер – тоже обходил свой стан – и сын Родион, на голову выше отца, красавец, непривычно бритый. Долгие усы свисают ниже щек. Соколиные, холодные глаза. Поздоровались. Спешились, пошли рядом. Данил озирал измученные лица, котлы и то, как истово приезжие хлебают кашу (каша – его дар, значит, уже успели сварить). Где и разместить такую орду? А принять нужно!
Волынские бояре ступают следом. Где-то там остались Холм, Галич, Владимир Волынский, королевские приемы и блеск, и снова, как в древнем Киеве, кочевье, костры, и кажется – на века назад отброшены они к седым легендарным временам Всеслава и вещего Олега…
Женщины с запавшими глазами оглядывают московского князя, когда он проходит мимо. Переговариваются меж собой. Кормят детей. В сумраке весенней ночи скрипят возы. Сквозь речную сырость доносит дух свежего печеного хлеба, что везут из Кремника.
– Сколь у него кованой рати? – спросил Бяконт, когда они, возвращаясь, переехали мост.
– Да немало, неколико сот.
– С этою силой Коломну-то бы и отобрать! – сурово сказал Бяконт, глядя перед собой. – Князь Константин, слышь, наши дворы в Коломне под себя забирает! – Он уже знал, что Данила опять отмолвит отказом. Но князь промолчал. Сзади них цокали по доскам моста копыта дружинников. «Добро бы вовсе не воевать! – думал Данил, вздыхая. – Дак ить с им добром-то не сговоришь!»
Данил не сказал ничего. Он ехал и думал. Москва была мала. Затерянный в лесах деревянный городок. И речка, что вьется под холмом, – не Ока и не Клязьма, маленькая речка Москва. Там, на устье… Да, Коломна была нужна. Они поднялись к воротам. Не оборачиваясь, Данил спросил:
– Что твой ентот… рязанской…
– Опять приезжал! – с готовностью отозвался Бяконт.
– Ежель ратиться… – все так же, на глядя, проговорил Данил, – рязане – оны к бою привычны… Сорому б не было!
– У меня он, могу завтра ж и привести! – молвил Бяконт. Данил тут повернул свой большой нос, скосил глаза на Бяконта:
– Ладно, приводи, погляжу! Торопиться все ж не будем. Преже надо с Андреем и с ханом Тохтою урядить.




