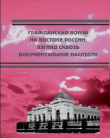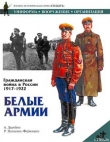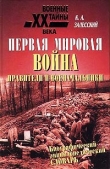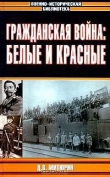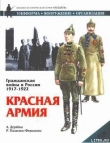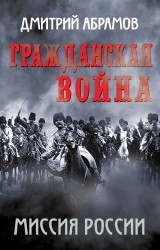
Текст книги "Гражданская война. Миссия России"
Автор книги: Дмитрий Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«А и убьють, – думал Пашка, – велика ль беда!? Матушка узнаеть, поплачеть. У церкви отпоють. А вот пущай Вербниковская зазноба посохнеть. А земля без хозяина не останется. Брат молодший Яшка вспашеть. Ужо-т ему шешнадцать годов. Подыметь…»
Разрывы снарядов взрыли землю и осыпали комьями и снежной пылью. Шаг – другой – третий, пули секут все вокруг.
«Ниче, – думал Павел, – как-нито дойдем!»
Знал ли он, что через четверть часа, «когда ноги утопли в снегу, и силов нету иттить», в этой заснеженной степи, «за энтим логом», сойдутся они, «орловские робяты» – красные бойцы штык к штыку с такими же православными бородатыми молодыми русскими, только казаками пластунского батальона с далекого Терека. И все – и те, и другие, озверев от холода и боли, будут бросать гранаты, поднимая снежную пыль, калеча друг друга разрывами тола и осколками металла. И будут сходиться ближе и ближе, стрелять один в другого, почти в упор. А потом, когда уже не будет времени и мочи вставить снаряженный магазин в винтовку, в исступлении пойдут в рукопашную и будут колоть друг друга длинными трехгранными штыками, бить прикладами наотмашь, «в дышло», в лицо, вышибая зубы и глаза, выхватывать кинжалы, засапожные ножи и разить в живот, колоть в грудь, резать глотки…
В том бою, застрелив первого, словно выросшего из снега казака, но нарвавшись на матерого урядника, получив удар прикладом в грудь и штыком в ребра, Павел потеряет сознание и очнется в полевом лазарете в Касторной только на третьи сутки…
Направление эвакуации было изменено. Эшелоны белых отправлялись по железной дороге Касторная – Оскол. Первый эшелон со снаряжением, имуществом, боеприпасами подошел к станции Суковкино. Но здесь уже был подорван мост, и вся материальная часть с эшелоном, а за ними и бронепоезда сделались добычей красной конницы. Кто бы знал, как терские пластунские батальоны дрались в степи. Отступили они только тогда, когда в Касторную ворвались конные части 6-й дивизии. К исходу 16 ноября остатки разгромленных белогвардейских войск вырвались из окружения в Касторной и были отброшены на юго-запад.
Новое направление движения Конного корпуса Буденного определилось 17 и 19 ноября, когда командующий Южным фронтом отдал две директивы. Армиям фронта и Конному корпусу указывались задачи по организации преследования белогвардейских войск. Основная цель определялась как разгром Добровольческой армии. 19 ноября в интересах усиления темпов наступления Реввоенсовет Южного фронта отдал приказ о создании на базе Конного корпуса Буденного Первой Конной армии.
В ходе Воронежско-Касторненской операции войска Красной армии и их противника прошли с боями до 250 верст. Красные нанесли большой урон основным силам белогвардейской конницы и, угрожая правому флангу и тылу Добровольческой армии, способствовали ее поражению в Орловско-Курской операции. В ходе Гражданской войны то был первый пример массированного использования крупных конных и кавалерийских соединений в тесном взаимодействии с пехотой для решения оперативных задач.
* * *
Генерал Юденич собрал силы в кулак и готовился к штурму Петрограда. Тем временем советское правительство обратилось к рабочим и красноармейцам с призывом защищать город на Неве от белогвардейцев, белоэстонцев и интервентов до последней капли крови. Под Петроград были отправлены значительные подкрепления. В городе и на его ближайших подступах были сооружены три линии обороны, которые прикрывали боевые корабли Балтийского флота, введенные в Неву. К 20 октября войска белых были остановлены, а 21 октября силы Западного фронта численностью около 80 тысяч штыков и сабель при 1300 пулеметах, 570 орудиях перешли в контрнаступление. Армии Западного фронта были превосходно оснащены и имели 6 бронепоездов и 23 аэроплана. Уже через два дня красные выбили части Юденича из Павловска и из Детского села. Затем их войска потеснили противника и взяли Царское село. В ноябре они повели упорные бои за Гдов и Ямбург. Угроза революционной столице России отступила.
* * *
Последними наступательными операциями Восточного фронта стало освобождение городов Челябинска и Троицка. Тем самым 5-я армия Тухачевского рассекла колчаковский фронт на две изолированные группировки, из которых одна отступала в Сибирь, а другая – в Туркестан. Так завершилась борьба за Урал.
Уже в августе 1919 года красного командарма Михаила Фрунзе назначили командующим Туркестанским фронтом. Фронт был создан на территории Самарской, Астраханской, Оренбургской губерний и Уральской области в результате переименования Южной группы Восточного фронта. Фрунзе подчинялись также все части красных в отрезанном белогвардейцами Туркестане. Первоначально фронт провел Актюбинскую наступательную операцию по разгрому Южной армии белых под командованием генерала Белова. Затем удар был нанесен по Уральскому казачеству. Казаки, кто как мог, порой всеми семьями оставляли родные земли и уходили на восток, в сухие бесплодные степи. После взятия нефтеносного района около Эмбы штаб Фрунзе переехал из Самары в Ташкент.
* * *
Успехи под Орлом и Воронежем позволили Главному командованию Красной армии уже 27 октября отдать приказ войскам Южного фронта об энергичном развитии наступления с одновременным уничтожением белых, отходивших от Дмитровска и Орла в направлении Курска. Целью было не дать противнику возможности закрепиться и оказать организованное сопротивление.
Тем временем генерал Деникин, решив усилить Добровольческую армию, приказал корпусу талантливого генерала Я. А. Слащева завершить разгром отрядов Махно, еще весной выступивших против белых, и двигаться на соединение с добровольцами. Однако корпус Слащева, выбив махновцев из Екатеринослава, был втянут в затяжные бои с ними до конца декабря. Оказать помощь главным силам добровольческой армии в нужный момент он не смог. Так батька Махно помог большевикам.
Кровавые схватки 13-й и 14-й армий красных с корниловской и остатками дроздовской дивизии на Курском направлении продолжались. Брошенная в рейд кавгруппа Примакова прорвалась в тыл дроздовцев и корниловцев и 15 ноября захватила важный железнодорожный узел Льгов. Испытывая удары превосходящих сил противника, офицерские добровольческие части продолжали ожесточенно сопротивляться, неоднократно переходя в контратаки. 17 ноября части 13-й и 14-й армий подошли к Курску. Добровольцы оказались окруженными с трех сторон. В ночь на 18 ноября после ожесточенного боя части 9-й стрелковой и Эстонской дивизий овладели Курском. Офицерские части Добровольческой армии вырвались из смыкающегося кольца окружения, понеся огромные потери.
Успеху Южного фронта в значительной степени способствовали войска Юго-Восточного фронта, сковавшие своими активными действиями крупные силы Донской и Кавказской армий. Они не позволили генералу Деникину организовать переброску войск на курское направление. В конце ноября войска этого фронта потеснили белоказаков за Хопер. Контрнаступление сил Южного и Юго-Восточного фронтов переросло в их общее наступление. Стратегическая инициатива на юге России полностью перешла к Красной Армии. 17 ноября Главное Командование РККА поставило войскам Южного фронта задачу разбить Добровольческую армию, овладеть Донецким бассейном и начать наступление на Ростов. Для содействия войскам Южного фронта из района Царицына в направлении на Новочеркасск переходила в наступление 9-я армия Юго-Восточного фронта, усиленная конно-сводным корпусом Б. М. Думенко.
Этим силам противостоял 3-й Донской корпус. Донцы предпринимали все меры, чтобы вывести свои части из железной подковы красных, сжимавшей их полки на левом берегу Дона. Фронтовое командование красных усиленно указывало на полнейшую необходимость выдвижения конных масс 9-й армии в район Павловск – Бутурлиновка, что предоставляло полную возможность окружения и уничтожения частей 3-го Донского корпуса. Но движение правофланговых частей 9-й армии носило крайне медленный характер, несмотря на настойчивое требование командования прижать группу белых к реке и уничтожить ее. Задача эта, поставленная 31-й дивизии, не была выполнена, ибо слишком поздно выдвинулись на помощь ей конные части 9-й армии. Да и воды Дона к моменту окружения донских казаков перестали быть преградой для отступавших. Река словно уберегла своих сынов и устранила всякую возможность окружения 3-го Донского корпуса. Как весной 1919 года, в период наступления 8-й и 9-й армий, Дон, вскрывшись, разъединил красные части, помог донцам и добровольцам перейти в решительное наступление, так и теперь, поздней осенью, Дон, покрывшись льдом, спас донцов от окружения и уничтожения.
* * *
Легендарная Первая Конная армия Республики Советов! Замысел ее рождения и организации принадлежал Климу Ворошилову, командующему Южным фронтом Александру Егорову, бывшему подполковнику царской армии, и члену РВС Южного фронта И. В. Сталину. Еще и до этого конные соединения РККА были созданы Борисом Думенко. Когда Троцкий вручал ему орден Красного Знамени за номером 5, то назвал Думенко «первой шашкой республики». Орден Красного Знамени за номером 6 получил Семен Буденный. Тогда он стал «второй шашкой» – заместителем Думенко. Но Думенко был ранен еще накануне Воронежско-Касторненской операции и, казалось, не выживет. Когда встал вопрос об организации Конной армии, то командующим был назначен Семен Буденный – уже талантливый военачальник, лихой рубака, воевавший в кавалерии (в драгунском полку) в чине унтер-офицера на Германской войне, имевший серьезный боевой опыт.
«Реввоенсовету Республики.
Реввоенсовет Южфронта в заседании своем от 11 ноября с. г., исходя из условий настоящей обстановки, постановил образовать Конную армию в составе 1-го и 2-го конных корпусов и одной стрелковой бригады (впоследствии добавить и вторую бригаду).
Состав Реввоенсовета Конармии: командарм товарищ Буденный и члены: товарищи Ворошилов и Щаденко.
Справка. Постановление реввоенсовета Южфронта от 11 ноября 1919 г. № 505/а.
Означенное просим утвердить», – гласило постановление.
«Конная армия была создана, несмотря и даже вопреки желанию Центра (вероятно, автор имел в виду Троцкого и его окружение. – Д. А.). Инициатива ее создания принадлежит товарищу Сталину, который совершенно ясно представлял всю необходимость подобной организации. Исторические последствия этого шага хорошо всем известны. К концу ноября, когда Конная армия окончательно закрепила за собой обладание районом Нового Оскола, а фланги соседних армий подтягивались к Новооскольской параллели, силы белых были безнадежно разъединены и дальнейшие попытки их соединиться вновь для организации совместного отпора красным были обречены на гибель», – писал позднее об этих событиях командующий Южным фронтом А. И. Егоров.
Командир артиллерийского дивизиона Конармии Максимов как-то за рюмкой чая сказал молодому, образованному красному командиру из южнорусских евреев Исааку Бабелю: «Что такое наша армия? Это не армия, это – восстание дикой вольницы, это лишь средство, которым пользуется партия!». И в этом была правда. Первая конная – идеальная модель революционной армии. Еще бы: командующий, красный генерал Семен Буденный – из крестьян. Комиссар армии Клим Ворошилов – из рабочих. Член военного совета армии – бывший семинарист, бросивший учебу, с юных лет возглавлявший боевую организацию партии большевиков, уже тогда мудрый Иосиф Сталин (мало кто и ныне-то знает, что Иосиф, записанный сыном сапожника Джугашвили, на самом деле – незаконнорожденный сын одного из грузинских князей, чей род берет начало из рода Давидова с I века н. э.). Первая Конная – плоть от плоти, кровь от крови беднейшей части народа России, готового сражаться до конца. Четверть конармейцев неграмотны, три четверти, за исключением тонкого слоя командиров и политработников, – полуграмотны. Говорить о высокой сознательности не приходилось. Это и пришлось во всех тонкостях отразить Исааку Бабелю, обессмертившему Первую Конную в своем цикле рассказов «Конармия».
* * *
Великими трудами с остатками своей батареи и одним орудием Космин к исходу ноября добрался до поредевшей дроздовской дивизии уже за Курском. Отступали окольными дорогами, вдали от перерезанных красными железных и шоссейных путей. Лошади и люди отощали, выбились из сил. Во всем чувствовался надлом. Итогом тяжелого поражения белых под Воронежем, Касторной, Орлом и Курском стало небольшое стихотворение, написанное им на биваках в холодные и голодные дни и ночи страшного отступления.
Помнишь Воронеж – Касторную?
Крах!?
Вот он – Изюмский проторенный шлях!
В давность здесь сеяли смерть и пожар
Крым и ногайские орды татар.
Помнишь ли день?
Вспыхнул солнечный блик
в лезвиях сабель, на жалах у пик.
Сотни аллюром пошли:
«Марш! Марш! Марш!» —
В схватку, в огонь, в сумасшедший кураж!
Лавой, с «Ура!», под копытную дрожь…
Смерчем в лицо им катилось:
«Даешь!!!»
Клич этот страшный, как судный набат,
звал всех в атаку на рай,
или в ад…
Пули «максимов» стегнули полки,
свистнули жгучей метелью клинки,
степь задрожала под бешеный гук!
Древнюю ль сечу почуяла вдруг?
Сшиблись.
Метелью кружило нас всех?
Тихо кружился октябрьский снег.
Думалось – вихрилось:
«Как же понять,
две ли России сошлись воевать?
Нет, двум на свете не быть и вовек!»
Только… всё русские падали в снег.
Вновь не скрестить им клинки и пути.
Надо России и это пройти.
Кони на юг повернули свой бег.
Кровью в Покров замерзал белый снег.
Кирилл бесконечно читал и перечитывал письмо Жени. Ответить он ей не мог. В круговороте событий, в сумасшедшей сумятице отступления он полностью потерял связь со всеми друзьями, знакомыми, а главное – с Петром Усачевым. Но Кирилл всей душой, умом, всеми нервами знал, понимал, чувствовал, что ему для того, чтобы дальше жить на земле и не сойти с ума, просто необходимо увидеть и обнять свою любимую женщину и родившуюся дочь. Единственное, что мог он предпринять, – это написать рапорт начальству с просьбой дать ему отпуск. Он, конечно, и представить себе не мог, как пересечет фронт и появится на территории, контролируемой Советами, как будет искать Женю и дочь. Он знал одно – нельзя говорить начальству, что жена и дочь находятся по ту сторону линии фронта, надо сказать, что они – в Ростове-на-Дону.
20 ноября его рапорт был вручен командиру артдивизиона (бригады) стрелковой дивизии Дроздовского. Полковник, видимо, недавно принявший часть, не знакомый Кириллу, озабоченный делами, встретил его в крестьянской хате, где располагался на постое.
– Вряд ли, господин подпоручик, смогу удовлетворить вашу просьбу об отпуске. Обстановка не та. Каждый человек на счету, а уж особенно офицеры. Понимаю и ваши семейные обстоятельства. Если вы хотя бы были легко ранены. А то ведь ни царапины, а ведь в такой каше побывали! – высказался полковник.
– Я был ранен в 1917 году во время наступления на Юго-Западном фронте. Тяжелая контузия и перелом левой руки. Толком и не вылечился тогда. После длительной артиллерийской стрельбы голова сильно болит. Почти теряю сознание, – попытался защититься Космин.
– Понимаю, но то – старое ранение. А сейчас мало кто из офицеров хотя бы и легкого не имеет.
– Что ж, господин полковник, прикажете специально подставиться, чтоб ранение получить? – с обидой и издевкой в голосе спросил Космин.
– Избави Боже! Что вы, батенька, несете!? Никто вас и не думал упрекать в слабодушии или, гм-м, излишней осторожности. Мало того, я где-то с неделю тому назад имел честь видеться в лазарете с раненым командиром вашей батареи Лукиным. Он о вас докладывал и отзывался очень высоко. Да, в той каше было непросто! Но одно орудие сохранено, личный состав батареи собран и выведен из окружения! Да ведь вы, батенька, там, под Воронежем, Лукину и жизнь спасли? Не так ли?
– Там, господин полковник, столько случайностей было, что и не упомнить, кто кого спас, – отвечал Космин.
– Ну что ж, подпоручик, ответ, достойный русского офицера, сражающегося за Белое дело. Вам днями светит повышение – очередная звездочка на погоны и награда – крест Георгиевский. Мы с командиром батареи уже обсудили и это. Ждите приказа. А батарею вашу пополним личным составом и орудие еще одно дадим. Ну а в помощь вам направлю молодого прапорщика. Так что воюйте дальше, подпоручик. Не смею задерживать. С Богом!
* * *
Женя вытерла сосок груди мягким полотенцем. Вложила грудь в лиф. Румяная доченька сопела и крепко спала на руках. Евгения недолго покачала ее, а затем со словами:
– А-а-а, баю-бай! – уложила дитя в качалку.
«Боже, сколько счастья и радости быть матерью. И какие красивые дети будут у нас с Кириллом, – думала Женя. – Наташенька, доченька беленькая, глазки синие. Прелесть, да и только».
«Господи! Хоть и не верила в тебя, а окрестила дитя. Если Ты есть, сохрани моего милого. Прошу тебя, Господи», – смотря на дитя, думала она.
«И зачем эта война!? Неужели люди не понимают, что убивать – вопреки человеческой природе. Ведь есть же умные, интеллигентные люди и у белых, и у красных. У белых – Деникин – умнейший, благороднейший человек. У красных – Ленин-Ульянов, из дворян, великолепно образован, талантлив, интеллигентен. Это все в низах проблема. Ведь наверху и те и другие хотят одного и того же! Хотят видеть Россию великой и счастливой», – думала Женя.
«Господи! Кирилл, где же ты? Боже, сохрани его!» – причитала не веровавшая в Творца и в Его Сына – Спасителя мира молодая женщина и мать.
* * *
Последние сполохи страшной, решающей битвы, определявшей, каким путем отныне пойдет Россия, все еще сотрясали и будоражили бескрайнюю, засыпавшую под снегом южнорусскую степь. Когда Касторная была взята, а упорство белых здесь было ликвидировано, фланги белых армий оказались окончательно разъединенными. Красным представлялась полная возможность перейти к преследованию и уничтожению белых – отдельно Добровольческой и Донской армий. Теперь белые направляли все усилия на удержание Курска, сражаясь здесь с тем же ожесточением, как и под Касторной. Город брали 9-я и 3-я дивизии Красной Армии. 15, 16 и 17 ноября характеризуются особенно упорными боями, в результате которых части 9-й дивизии к вечеру 17 ноября ворвались в город Курск. Отбрасывая контратакующего противника, части 3-й дивизии продвинулись к югу и захватили город Тим. С потерей Курска и Тима вся железнодорожная линия Курск – Лиски оказалась в руках красных.
Белогвардейское командование понимало, что отступать далее – смерти подобно. Южнее лежала ровная как стол степь! Возможно ль было найти там рубеж, подходящий для обороны? Белые ухватились за Сейм. Но река эта выше города Сумы мелководна. Даже в летнее время верховые переезжают ее вброд, не замочив сапог. Поэтому решено было не отходить, а вернуть утраченное положение, тем более что у Боброва и Лисок держались еще донцы.
Метели и гололедица связали и сковали степь. С большим трудом удалось белым у Тима собрать отряд генерала Третьякова в составе 1-го Марковского полка, 1-го Алексеевского полка и 1-го батальона 2-го Марковского полка при 12 орудиях. Перейдя в контрнаступление 20 ноября, отряд Третьякова выбил 3-ю дивизию из города Тим и начал продвигаться на север и северо-запад с явным намерением ударить в тыл 9-й и Эстонской дивизиям, чтобы затем вынудить их к отходу от Курска. Удар этот явился полностью неожиданным для 13-й армии. Однако встречными действиями 9-й, 42-й, Эстонской и Латышской дивизий 21 и 22 ноября контрманевр белых был ликвидирован. Тогда 13-я армия вышла на правом фланге в 15 верстах к югу от Курска, а на левом фланге к реке Оскол. А14-я армия к этому времени подошла к реке Сейм, заняла город Рыльск и при содействии группы Примакова – Льгов.
Тимская операция, хоть и была последней, неожиданной и не планируемой красным командованием, но задержала в центре наступательный порыв красных армий, дала белым возможность оторваться от преследования частей Красной армии.
* * *
Космин еле-еле дождался прапорщика, присланного ему в помощь на батарею. Ничего другого он уже не ждал. Звание поручика и Георгиевский крест пришли к нему сами. Его только вызвали в штаб дивизиона, сделали запись в удостоверении о произведении в звание, вручили звезды на погоны, достали крест из коробочки и прикололи ему на грудь. Но Космин даже и не собирался «обмывать» повышение и награду. Да и было ли с кем?
Посвятив молодого человека – студента, недавно мобилизованного и надевшего погоны прапорщика, – во все дела батареи, дав ему самые важные указания, что делать и как вести себя в случае боевых действий, Космин оставил батарею ночью 22 ноября. Заплатив одному из крестьян, чтобы довез его до ближайшего города, он на крестьянских санях отправился окольной дорогой на юг – в сторону Белгорода. Нужно ли долго рассказывать, каких трудов стоило ему добраться до железнодорожного вокзала в Белгороде. И тут Космин понял, что интуиция полностью подвела его. Он слишком давно не был и не вращался в гражданской жизни – в тылу воюющих деникинских армий. Анархия или произвол различных ведомств правительства Юга России, ОСВАГ(а) и контрразведки царили повсюду. У здания вокзала Космина сразу же задержал многочисленный патруль. Проверяли всех людей в военной форме поголовно. И тут Космин пожалел, что заранее не переоделся в гражданское платье. Даже тех военных, у которых были оправдательные документы, патрульные офицеры отпускали не сразу, а после долгих придирчивых расспросов. Тех же, у кого их не было и кто вызывал хоть малейшее подозрение, разоружали и отводили в сторону. Многочисленный конвой, набранный из кадетской молодежи и бывших курсантов военных училищ, с примкнутыми штыками охранял группу офицеров и солдат человек в двадцать. Это были те, кто был задержан патрулем без отпускных или командировочных предписаний. Оказавшись в их числе без удостоверения, шашки и пистолета, Космин решил вести себя спокойно и простоял так почти до вечера. К вечеру группа задержанных увеличилась вдвое. Когда стемнело, их отогнали в какой-то пристанционный барак, заперли на засов и приставили часового.
Переночевав кое-как без хлеба и воды в холодном бараке на нарах, Космин проснулся совершенно замерзший и голодный. С утра начали вызывать и водить людей на «допрос». Лишь в полдень он дождался вызова. С руками, которые велено было держать за спиной, его привели в подвальное помещение массивного и серого каменного здания, расположенного там же, близ вокзала. В сводчатом помещении с зарешеченными окнами, которые располагались довольно высоко, ибо выходили на улицу на уровне цоколя, было сумрачно и тепло. Горела печка-буржуйка, труба которой была выведена прямо в окно, заделанное железным листом. За большим канцелярским столом сидел молодой подпоручик с худым лицом – усы в нитку. У дверей двое часовых с винтовками и фельдфебель-мордоворот, в углу за небольшим столом солдат в очках с ручкой и аккуратно разложенными по столу листами бумаги.
– Кто такой, куда следуете? – прозвучал сухой и жесткий вопрос, и Космин догадался, что он попал в контрразведку.
– Поручик Космин Кирилл Леонидович. Исполняю обязанности командира 2-й батареи артдивизиона дивизии Дроздовского Добровольческой армии, – отвечал Кирилл, прикладывая руку к фуражке с малиновым верхом и как бы указывая этим на свою принадлежность к воинскому соединению.
Офицер-контрразведчик порылся в кипе бумаг и документов, разложенных на столе, нашел удостоверение Космина и стал внимательно читать написанное в документе.
– Куда следуете? Где ваше отпускное или командировочное предписание?
– Следую в Ростов к жене. Она родила и плохо себя чувствует, – солгав и понимая, что иного не примут, отвечал Кирилл.
– Предписание!? – еще жестче и уже раздраженно произнес контрразведчик.
– Понимаете, подпоручик, в тех условиях, в которых сейчас находится дивизия, да и вся армия, практически никаких служебных бумаг не производится. Меня отпустил командир дивизиона под честное слово.
– Слушай! Ты – мерзавец! Сколько будешь испытывать мое терпение?! Заливать станешь в другом месте! В Царстве небесном сказки будешь рассказывать, но не здесь в контрразведке! – вдруг заорал сидевший за столом.
Космин остолбенел и чуть не проглотил язык от удивления и негодования.
– Быстро отвечай, скотина! Где взял форму и удостоверение?
– Подпоручик, потрудитесь вести себя, как подобает офицеру! Вы разговариваете со старшим по званию, – хриплым от волнения голосом произнес Кирилл.
– Я тебе дам, мразь! Старший по званию! Где состряпали тебе документы? В ЧК? В разведке у красных? Почему? Почему, я тебя спрашиваю, ты записан поручиком, а носишь погоны подпоручика? Звездочек на погоны не хватило? Ясно, что там, у красных, путаются в званиях! – орал, приподнявшись за столом, контрразведчик.
Тут Космин к ужасу своему вспомнил, что не посадил по третьей звездочке на погоны шинели и гимнастерки. А ведь в документах у него было уже записано повышение в звании. Это обстоятельство, вероятно, и навело на подозрение патруль при аресте на вокзале. Для него – фронтового офицера – и всех, с кем он плечом к плечу дрался на фронте, это не значило почти ничего. А для этой крысы из контрразведки в погонах подпоручика, что сидела сейчас напротив него за столом, это значило много.
– Ты! Тыловая гнида! – вскипел вдруг Космин, – Я с шестнадцатого года на фронте! И десятки раз видел смерть, как тебя сейчас. А ты – сука, засел здесь в теплом подвале у печки и шерстишь всех подряд. Сам – вошь, и способен видеть только подобных себе! Попал бы ты под мое начало под Воронежем или под Касторной, а еще лучше полтора года назад под Ростовом. Я бы показал тебе, кто такие дроздовцы! – сорвавшись, прокричал Космин.
– Но-но! Не забывайся! Ты – дезертир! По меньшей мере – дезертир! – побелев лицом, понизив голос, прошипел контрразведчик.
– Сам ты – дезертир, крыса тыловая! Засел здесь в тепленьком местечке, спрятался от фронта, от ранений и смерти. А как придут красные – вильнешь хвостиком и был таков! – продолжая кипеть, обличал Космин.
– Я выполняю долг там, куда меня поставило начальство, и не тебе упрекать меня! А за то, что придут красные, будешь отвечать. Занеси это в протокол допроса, – обратился он уже спокойнее к писарю, составлявшему бумагу.
– Крыса протокольная! Свои звезды на погонах в канцелярии заслужил?! А сейчас глумишься над фронтовым офицером, – уже с издевкой продолжал Космин.
– А насчет твоих звезд на погонах мы еще уточним в вашей части. Направим запрос. А вот когда ответят, поговорим! Обыскать его! Снять с него шинель и гимнастерку с погонами! – приказал-прошипел, как змей, контрразведчик.
Часовые, словно выдрессированные псы, схватили и заломили Космину руки за спину. Он попытался скинуть их.
– Фельдфебель! Не церемониться с этим! Есть распоряжение о таких! – приказал контрразведчик.
Фельдфебель умелым и хлестким ударом в челюсть временно выключил сознание Кирилла. Когда Кирилл, быстро приходя в себя, попытался вновь оказать сопротивление, фельдфебель вторично ударил его в челюсть, а потом по затылку. Дроздовская фуражка навсегда слетела с головы поручика Космина. Пенсне упав с глаз, повисло на шнуре.
Шинель и гимнастерка были сорваны с Кирилла.
– Вот, ваше благородие, пистолет при их был спрятан, – сказал фельдфебель, протягивая контрразведчику оружие, подаренное Кириллу Ивашовым в памятные дни боев в Москве.
– Мерзавец, пистолет прятал! Всыпьте ему хорошенько! – приказал офицер.
На Космина посыпались удары. Били в живот, по голове, по лицу. Когда он упал, били ногами по ребрам и ниже пояса.
– Получи! Получи, сволочь дезертирская! – шипел подпоручик, нанося удары носком лощеного сапога.
Все поплыло перед глазами, как в дурном сне…
Пришел в себя Космин на нарах барака. На нем была какая-то драная телогрейка, накинутая поверх нательной сорочки. Видимо, пока он был без сознания, кто-то из арестованных укрыл его, чтобы не замерз. Стены барака подрагивали от артиллерийской канонады. Верно, красные были недалеко. Кирилл сел, огляделся.
– Покурить хошь? – тихо спросил его немолодой усатый солдат, подсаживаясь и протягивая ароматную раскуренную самокрутку с самосадом.
– Нет. Спасибо, братец, – отвечал Космин.
– Здря-а. Не гребуй, дерни, вашбродь. Полегшаеть, согреисси. Другого-то нетути, – вновь предложил солдат.
– Давай-ка, затянусь, – согласился Кирилл.
– О, энто по-нашему! – улыбаясь, произнес солдат.
– О! Спаси тя Христос! – слегка покашливая после затяжки, благодарил Космин.
– Аль из казаков буишь, вашбродь? – поинтересовался солдат.
– Нет. А почему про казацкое происхождение спрашиваешь? Разве похож?
– Благодаришь по-казацки. Так-то их старой веры, стал быть, казаки благодарствують, – отвечал солдат.
– Нет. Не казак я. А как ты определил, что офицер? Ведь нет на мне мундира и погон?
– Э-э, вашбродь! Надысь я табя в погонах видал. А потом и по виду-т не из крестьян ты, хоть и рвань на табя надень. Почитай, из благородных?
– Из них, братец.
– Вот вишь, опять же «братец». Так ведь только благородные кажуть. То есть не «брат», не «браток», а как молодшего, неразумного – «братец». Э-эх вы, господа! Пропили, прогуляли, проспали Рассею и зямлю-т нашу просрали. Отдали яё большакам да инородцам. Ну, да ниче…
– Не упрекай, солдат! Россия и у тебя, и у меня одна. Другой нигде не найдем и эту, видать, не поделим. Так уж Богу угодно.
– Эх, умен ты, вашбродь. И слова правильные говоришь. Вижу, душа болить у тобя. Бога помнишь! Но как же ты при своем-то уме да попалси в энту контрисветку? Неужто ума не хватило?
– Не хватило, видать. Научи, солдат, что делать-то?
– Да, коли тя так уделали, выходить, насолил ты им. И не помилують. Бяжать тобе надоть, барин. Иначе иль енти аспиды, иль большаки придуть да расстреляють. Слышишь, с орудьев бьють. Конец Деникину выходить. Час-другой у них тута суматоха пойдеть. Бяги, пока нито.
– Как бежать то, подскажи, родимый?
– Поди, стучись у дверь, проси за ради Христа, отворят. Извиняйся, подойди к часовому, что постарше. Дядя, дай, мол, подкурить. Прикури. Насыпь и ему самосадику, угости, то есть. Да скажи, что жена, мол, письма от тобя ждеть, детишки голодныя, болеють. Наше-то поколение, постарше, с понятием. Нехай на четверть часа отпустить письмо у вокзалу с пошты отправить. Да и так, куды тобе деваться? Не к красным же бежать. А и то, а?.. Давай-ко, барин, держи мой старый кисет. У меня новый есть. Бог тобе в помощь. Да и мне в бега подаваться надо. Домой пора…
* * *
Женя проснулась в полночь. С тревогой оторвалась от подушки, выпрямилась, села на постели, протерла глаза. Ей почудилось, словно кто-то провел по ее волосам легкой шелковой паволокой или крылом с тончайшим оперением и тихим голосом прошептал ей на ухо: