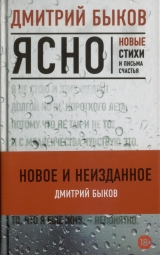
Текст книги "Ясно: новые стихи и письма счастья"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанры:
Стихи
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Птицы, поющие сразу стансы – музыку и слова.
Лука, бамбука, запаха, звука нежные острия.
Фрукты в корзине, а в середине этой картины – я.
В душном шалмане с запахом дряни, в шуме его густом,
Вечно таская ад свой в кармане – кстати сказать, пустом,—
С вечной виною – той ли, иною,– и, наконец, еврей;
Так что, как видишь, рядом со мною ты еще царь зверей.
Видишь, что правда или неправда вас не спасают врозь?
Пара кадавров, абракадабра. Надо, чтоб все слилось.
Бездна бессильна, солнце напрасно греет пустыню вод.
Мало вам счастья – вам для контраста нужно меня.
Ну вот.
Десятая, маршеобразная
Родись я даже между Меккой и Мединой,
в античном Риме – или Греции, скорей,—
в преславной Фракии, тогда еще единой,
или в общине каннибалов-дикарей,
о, будь я даже персианин,
будь я даже марсианин,
пустыни пасынок иль тундры властелин,—
я был бы всюду христианин,
несомненный христианин,
или, церковно говоря, христианИн.
Я был бы выродок, последний из последних,
травимый братьями, а главное – жрецом.
Верховный жрец или иной какой посредник
мне представлялся бы садистом и лжецом.
Я сомневался бы в догматах,
сомневался бы в стигматах,
не трепетал бы под верховною рукой —
я был бы худшим из буддистов,
анимистов, вудуистов,
а каннибал я был бы просто никакой.
Изменчив в частностях, но в главном постоянен,
беглец из перечней, реестров и систем,
я был бы именно и только христиАнин,
Поскольку больше я не мог бы быть никем.
Не став ни бедным, ни богатым,
ни казначеем, ни солдатом,
не умея быть ни выше, ни равней,
я был бы выжат в эту нишу,
о которой вечно слышу,
что предательство гнездится только в ней.
И я бы выучился жить, как надо в нише,
под ником «выродок» и прозвищем «дебил».
Я научился бы сперва держаться тише,
но постепенно бы на это подзабил.
И хоть поверьте, хоть проверьте —
я б перестал бояться смерти,
поскольку досыта наелся остальным,
я б научился усмехаться,
я перестал бы задыхаться —
я был бы лучший, чем сейчас, христианин.
Но так как я воспитан здесь, а не в исламе
и приучился не держаться середин,
то в этом климате и даже в этом сраме
я не последний и покуда не один.
И мой Господь смешлив и странен,
и мой народ не оболванен,
хотя над ним и потрудился коновал.
И я не лучший христианин,
и даже худший христианин —
но это лучше, чем хороший каннибал.
Ронсаровское
Как ребенок мучит кошку,
Кошка – мышку,
Так вы мучили меня —
И внушили понемножку
Мне мыслишку,
Будто я вам не родня.
Пусть из высшей или низшей,
Вещей, нищей —
Но из касты я иной;
Ваши общие законы
Мне знакомы,
Но не властны надо мной.
Утешение изгоя:
Все другое —
От привычек до словец,
Ни родства, ни растворенья,
Ни старенья
И ни смерти наконец.
Только так во всякой травле —
Прав, не прав ли,—
Обретается покой:
Кроме как в сверхчеловеки,
У калеки
Нет дороги никакой.
Но гляжу: седеет волос,
Глохнет голос,
Ломит кости ввечеру,
Проступает милость к падшим,
Злоба к младшим —
Если так пойдет, умру.
Душит участь мировая,
Накрывая,
Как чужая простыня,
И теперь не знаю даже,
На хера же
Вы так мучили меня.
* * *
Без этого могу и без того.
Вползаю в круг неслышащих, незрячих.
Забыл слова, поскольку большинство
Не значит.
Раздерган звук, перезабыт язык,
Распутица и пересортица.
Мир стал полупрозрачен, он сквозит,
Он портится. К зиме он смотрится
Как вырубленный, хилый березняк,
Ползущий вдоль по всполью.
Я вижу: все не так, но что не так —
Не вспомню.
Чем жил – поумножали на нули,
Не внемля ни мольбе, ни мимикрии.
Ненужным объявили. Извели.
Прикрыли.
И вот, смотря – уже и не смотря —
На все, что столько раз предсказано,
Еще я усмехнусь обрывком рта,
Порадуюсь остатком разума,
Когда и вас, и ваши имена,
И ваши сплющенные рыла
Накроет тьма, которая меня
Давно уже накрыла.
* * *
Он клянется, что будет ходить со своим фонарем,
Даже если мы все перемрем,
Он останется лектором, лекарем, поводырем,
Без мяча и ворот вратарем,
Так и будет ходить с фонарем над моим пустырем,
Между знахарем и дикарем,
Новым цирком и бывшим царем,
На окраине мира, пропахшей сплошным ноябрем,
Перегаром и нашатырем,
Черноземом и нетопырем.
Вот уж где я не буду ходить со своим фонарем.
Фонари мы туда не берем.
Там уместнее будет ходить с кистенем, костылем,
Реагировать, как костолом.
Я не буду заглядывать в бельма раздувшихся харь,
Я не буду возделывать гарь и воспитывать тварь,
Причитать, припевать, пришепетывать, как пономарь.
Не для этого мне мой фонарь.
Я выучусь петь, плясать, колотить, кусать
И массе других вещей.
А скоро я буду так хорошо писать,
Что брошу писать вообще.
Турнирная таблица
Второй,
Особо себя не мучая,
Считает все это игрой
Случая.
Банальный случай, простой авось:
Он явно лучший, но не склалось.
Не сжал клешней, не прельстился бойней —
Злато пышней,
Серебро достойней.
К тому ж пока он в силе,
Красавец и герой.
Ему не объяснили,
Что второй – всегда второй.
Третий – немолодой,
Пожилой и тертый,—
Утешается мыслью той,
Что он не четвертый.
Тянет у стойки
Кислый бурбон.
«Все-таки в тройке»,—
Думает он.
Средний горд, что он не последний,
И будет горд до скончанья дней.
Последний держится всех победней,
Хотя и выглядит победней.
«Я затравлен, я изувечен,
Я свят и грешен,
Я помидор среди огуречин,
Вишня среди черешен!»
Первому утешаться нечем.
Он безутешен.
* * *
В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь, рвет поводок, как выжившая Муму. В правом углу с дрожащей улыбкой старец: «Не ругайся, брат, не ругайся», – шепчет ему.
День-то еще какой – синева и золото, все прощайте, жгут листья, слезу вышибает любой пустяк, все как бы молит с дрожащей улыбкою о пощаде, а впрочем, если нельзя, то пускай уж так.
Старость, угрюма будь, непреклонна будь, нелюдима, брызгай слюной, прикидывайся тупой, грози клюкой молодым, проходящим мимо, глумись надо мной, чтоб не плакать мне над тобой.
Осень, слезлива будь, монотонна будь, опасайся цвета, не помни лета, медленно каменей. Не для того ли я сделал и с жизнью моей все это, чтобы, когда позовут, не жалеть о ней?
Учитесь у родины, зла ее и несчастья, белого неба, серого хлеба, черного льда. Но стать таким, чтоб не жалко было прощаться, может лишь то, что не кончится никогда.
Начало зимы
1
Зима приходит вздохом струнных:
«Всему конец».
Она приводит белорунных
Своих овец,
Своих коней, что ждут ударов,
Как наивысшей похвалы,
Своих волков, своих удавов,
И все они белы, белы.
Есть в осени позднеконечной,
В ее кострах,
Какой-то гибельный, предвечный,
Сосущий страх:
Когда душа от неуюта,
От воя бездны за стеной
Дрожит, как утлая каюта
Иль теремок берестяной.
Все мнется, сыплется, и мнится,
Что нам пора,
Что опадут не только листья,
Но и кора,
Дома подломятся в коленях
И лягут грудой кирпичей —
Земля в осколках и поленьях
Предстанет грубой и ничьей.
Но есть и та еще услада
На рубеже,
Что ждать зимы теперь не надо:
Она уже.
Как сладко мне и ей – обоим —
Вливаться в эту колею:
Есть изныванье перед боем
И облегчение в бою.
Свершилось. Все, что обещало
Прийти – пришло.
В конце скрывается начало.
Теперь смешно
Дрожать, как мокрая рубаха,
Глядеть с надеждою во тьму
И нищим подавать из страха —
Не стать бы нищим самому.
Зиме смятенье не пристало.
Ее стезя
Структуры требует, кристалла.
Скулить нельзя,
Но подберемся. Без истерик,
Тверды, как мерзлая земля,
Надвинем шапку, выйдем в скверик:
Какая прелесть! Всё с нуля.
Как все бело, как незнакомо!
И снегири!
Ты говоришь, что это кома?
Не говори.
Здесь тоже жизнь, хоть нам и странен
Застывший, колкий мир зимы,
Как торжествующий крестьянин.
Пусть торжествует. Он – не мы.
Мы никогда не торжествуем,
Но нам мила
Зима. Коснемся поцелуем
Ее чела,
Припрячем нож за голенищем,
Тетрадь забросим под кровать,
Накупим дров и будем нищим
Из милосердья подавать.
2
– Чтобы было, как я люблю, – я тебе говорю, – надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы, и снег оскольчат и ноздреват – то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки, и растлевающий дух весны душит ее полки. Где былая их правота, грозная белизна? Марширующая пята растаптывала, грузна, золотую гниль октября и черную – ноября, недвусмысленно говоря, что все уже не игра. Даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним водружает крест, плавит его, как воск. Зло, пытавшее на излом, само себя перезлив, побеждается только злом, пытающим на разрыв, и уходящая правота вытеснится иной – одну провожает дрожь живота, другую чую спиной.
Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен – время от нас отводило глаз, и этим я был пленен. Я люблю этот дряхлый смех, мокрого блеска резь. Умирающим не до тех, кто остается здесь. Время, шедшее на убой, вязкое, как цемент, было занято лишь собой, и я улучил момент. Жизнь, которую я застал, была кругом неправа – то ли улыбка, то ли оскал полуживого льва. Эти старческие черты, ручьистую болтовню, это отсутствие правоты я ни с чем не сравню. Я наглотался отравы той из мутного хрусталя, я отравлен неправотой позднего февраля.
Но до этого – целый век темноты, мерзлоты. Если б мне любить этот снег, как его любишь ты – ты, ценящая стиль макабр, вскормленная зимой, возвращающаяся в декабрь, словно к себе домой, девочка со звездой во лбу, узница правоты! Даже странно, как я люблю все, что не любишь ты. Но покуда твой звездный час у меня на часах, выколачивает матрас метелица в небесах, и в четыре почти черно, и вовсе черно к пяти, и много, много еще чего должно произойти.
3
Вот девочка-зима из нашего района,
Сводившая с ума меня во время оно.
Соседка по двору с пушистой головой
И в шубке меховой.
Она выходит в сквер, где я ее встречаю,
Выгуливает там собаку чау-чау;
Я медленно брожу от сквера к гаражу,
Но к ней не подхожу.
Я вижу за окном свою Гиперборею,
В стекло уткнувшись лбом, коленом – в батарею,
Гляжу, как на окне кристальные цветы
Растут из темноты.
Мне слышно, как хрустят кристаллы ледяные,
Колючие дворцы и замки нитяные
На лиственных коврах, где прежде завывал
Осенний карнавал.
Мне слышится в ночи шуршанье шуб и шапок
По запертым шкафам, где нафталинный запах;
За створкой наверху подглядывает в щель
Искусственная ель;
Алмазный луч звезды, танцующий на льдине,
Сшивает гладь пруда от края к середине;
Явление зимы мне видно из окна,
И это все она.
Вот комната ее за тюлевою шторой,
На третьем этаже, прохладная, в которой
Средь вышивок, картин, ковров и покрывал
Я сроду не бывал;
Зато внутри гостят ангина и малина,
Качалка, чистота, руина пианино —
И книги, что строчат светлейшие умы
Для чтения зимы.
Когда настанет час – из синих самый синий —
Слияния цветов и размыванъя линий,
Щекотный снегопад кисейным полотном
Повиснет за окном —
Ей в сумерках видны ряды теней крылатых,
То пестрый арлекин, то всадник в острых латах,
Которому другой, спасающий принцесс,
Бежит наперерез.
Тот дом давно снесен, и дряхлый мир, в котором
Мы жили вместе с ней, распался под напором
Подспудных грубых сил, бродивших в глубине
И внятных ей и мне,—
Но девочка-зима, как прежде, ходит в школу
И смотрит на меня сквозь тюлевую штору.
Ту зиму вместе с ней я пробыл на плаву —
И эту проживу.
4. Танго
Когда ненастье, склока его и пря
начнут сменяться кружевом декабря,
иная сука скажет: «Какая скука!» —
но это счастье, в сущности говоря.
Не стало гнили. Всюду звучит: «В ружье!»
Сугробы скрыли лужи, «рено», «пежо».
Снега повисли, словно Господни мысли,
От снежной пыли стало почти свежо.
Когда династья скукожится к ноябрю
и самовластье под крики «Кирдык царю!»
начнет валиться хлебалом в сухие листья,
то это счастье, я тебе говорю!
Я помню это. Гибельный, но азарт
полчасти света съел на моих глазах.
Прошла минута, я понял, что это смута,—
но было круто, надо тебе сказать.
Наутро – здрасьте!– всё превратят в содом,
И сладострастье, владеющее скотом,
затопит пойму, но, Господи, я-то помню:
сначала счастье, а прочее всё потом!
Когда запястье забудет, что значит пульс,
закрою пасть я и накрепко отосплюсь;
смущать, о чадо, этим меня не надо —
всё это счастье, даже и счастье плюс!
Потом, дорогая всадница, как всегда,
Настанет полная задница и беда,
А все же черни пугать нас другим бы чем бы:
Им это черная пятница, нам – среда.
5
Как быстро воскресает навык!
Как просто обретаем мы
Привычный статус черных правок
На белых дистихах зимы.
Вписались в узы узких улиц,
Небес некрашеную жесть…
Как будто мы к тому вернулись,
Что мы и есть.
С какою горькою отрадой
Мы извлекаем пуховик,
А то тулуп широкозадый:
Едва надел – уже привык.
Кому эксцесс, кому расплата,
Обидный крен на пару лет,
А нам – костяк,– писал когда-то
Один поэт.
Как быстро воскресает навык —
Молчи, скрывайся и урчи;
Привычки жучек, мосек, шавок,
Каштанок, взятых в циркачи,
Невнятных встреч, паролей, явок,
Подпольных стычек, тихих драк;
Как быстро воскресает навык
Болезни! Как
По-детски, с жаром незабытым —
Чего-то пишем, всё в уме,—
Сдаешься насморкам, бронхитам,
Конспирологии, чуме,
И что нас выразит другое.
Помимо вечного – «Муму»,
Тюрьма, сума, чума и горе
Ума/уму?
Не так ли воскресает навык
Свиданий с прежнею женой,
Вся память о словах и нравах,
Ажурный морок кружевной:
Душа уныло завывает,
Разрыв провидя наперед,—
Плоть ничего не забывает,
Она не врет.
Смешней всего бояться смерти,
Которой опыт нам знаком,
Как рифма «черти» и «конверте».
Его всосали с молоком.
И после всех земных удавок
Еще заметим ты и я,
Как быстро к нам вернется навык
Небытия.
* * *
Средневозрастный кризис простер надо мной крыло.
Состоит он в том, что
Смотреть вокруг не то чтобы тяжело,
Но тошно.
Утрачивается летучая благодать,
Вкус мира.
Мир цел, как был, но то, что он может дать,—
Все мимо.
Устал драчун, пресытился сибарит,
Румяный Стива.
Вино не греет, водка не веселит,
Не лечит пиво.
Притом вокруг все чаще теперь зима,
Трущобы.
От этого точно можно сойти с ума.
Еще бы.
Хлам стройки, снега февральского абразив,
Пустырь промокший —
Я был бы счастлив, все это преобразив,
И мог же, мог же!
Томили меня закаты над ЖБИ,
Где, воленс ноленс,
Меж труб и башен я прозревал бои
Небесных воинств;
Но шхеры, бухты, контур материка,
Оснастку судна,—
В них можно видеть примерно до сорока,
А дальше трудно.
Теперь я смотрю на то же, и каждый взгляд
Подобен язве.
Того, чем жить, мне больше нигде не взять.
Придумать разве.
Ни лист, ни куст не ласкают моих очес,
Ни пеночка, ни синичка.
Отныне все, что хочется мне прочесть,
Лишь сам могу сочинить я.
Дикарские орды, смыслу наперекор,
Ревут стозевны.
В осажденной крепости объявляется переход
На внутренние резервы.
Так узник шильонской ямы, сырой дыры,
Где даже блох нет,
Выдумывает сверкающие миры,
Пока не сдохнет.
Так бледные дети, томясь в работных домах,
Устав терпеть их,
Себе сочиняют саги в пяти томах
О грозных детях;
Так грек шатался средь бела дня с фонарем,
Пресытясь всеми,—
И даже мир, похоже, был сотворен
По той же схеме.
Не то чтобы он задумывался как месть —
Не в мести сила,—
Но в приступе отвращенья к тому, что есть.
Точней, что было.
Отсюда извечный трепет в его царях —
Седых и юных;
Отсюда же привкус крови в его морях,
В его лагунах,
Двуликость видов, двуличие всех вещей,
Траншеи, щели —
И запах тленья, который всегда слышней,
Где цвет пышнее.
* * *
Я не стою и этих щедрот —
Долгой ночи, короткого лета.
Потому что не так и не тот
И с младенчества чувствую это.
Что начну – обращается вспять.
Что скажу – понимают превратно.
Недосмотром иль милостью звать
То, что я еще жив,– непонятно.
Но и весь этот царственный свод —
Свод небес, перекрытий и правил —
Откровенно не так и не тот.
Я бы многое здесь переставил.
Я едва ли почел бы за честь —
Даже если б встречали радушней —
Принимать эту местность как есть
И еще оставаться в ладу с ней.
Вот о чем твоя вечная дрожь,
Хилый стебель, возросший на камне:
Как бесчувственен мир – и хорош!
Как чувствителен я – но куда мне
До оснеженных этих ветвей
И до влажности их новогодней?
Чем прекраснее вид – тем мертвей.
Чем живучее – тем непригодней.
О, как пышно ликует разлад,
Несовпад, мой единственный идол!
От несчастной любви голосят,
От счастливой – но кто ее видел?
И в единственный месяц в году,
Щедро залитый, скупо прогретый,
Все, что вечно со всем не в ладу,
Зацветает от горечи этой.
Вся округа цветет, голося,—
Зелена, земляна, воробьина.
Лишь об этом – черемуха вся,
И каштан, и сирень, и рябина.
Чуть пойдет ворковать голубок,
Чуть апрельская нега пригреет —
О, как пышно цветет нелюбовь,
О, как реет, и млеет, и блеет.
Нелюбовь – упоительный труд,
И потомство оценит заслугу
Нашей общей негодности тут
И ненужности нашей друг другу.
* * *
В Берлине, в многолюдном кабаке,
Особенно легко себе представить,
Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
Свободных мест нету, воскресенье,
Сияя, входит пара молодая,
Лет по семнадцати, по восемнадцати,
Распространяя запах юной похоти,
Две чистых особи, друг у друга первые,
Любовь, но хорошо и как гимнастика,
Заходят, кабак битком, видят еврея,
Сидит на лучшем месте у окна,
Пьет пиво – опрокидывают пиво,
Выкидывают еврея, садятся сами,
Года два спустя могли убить,
Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.
С каким бы чувством я на них смотрел?
А вот с таким, с каким смотрю на всё:
Понимание и даже любованье,
И окажись со мною пистолет,
Я, кажется, не смог бы их убить:
Жаль разрушать такое совершенство,
Такой набор физических кондиций,
Не омраченных никакой душой.
Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
Фирменная секреция, секрет фирмы,
Вьются бестиальные белокудри,
И главное, их все равно убьют.
Вот так бы я смотрел на них и знал,
Что этот сгинет на восточном фронте,
А эта под бомбежками в тылу:
Такая особь долго не живет.
Пища богов должна быть молодой,
Нежирною и лучше белокурой.
А я еще, возможно, уцелею,
Сбегу, куплю спасенье за коронку,
Успею на последний пароход
И выплыву, когда он подорвется:
Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
Однако никогда не до конца:
То ли еще я в пищу не гожусь,
То ли я, правду сказать, вообще не пища.
Он будет умирать и возрождаться,
Неутомимо на моих глазах,
А я – именно я, такой, как есть,
Не просто еврей, и дело не в еврействе,
Живой осколок самой древней правды,
Душимый всеми, даже и своими,
Сгоняемый со всех привычных мест,
Вечно бегущий из огня в огонь,
Неуязвимый, словно в центре бури,—
Буду смотреть, как и сейчас смотрю:
Не бог, не пища, так, другое дело.
Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.
Песни славянских западников
1. Александрийская песня
Был бы я царь-император,
В прошлом – великий полководец,
Впоследствии – тиран-вседушитель,
Ужасна была бы моя старость.
Придворные в глаза мне смеются,
Провинции ропщут и бунтуют,
Не слушается собственное тело,
Умру – и все пойдет прахом.
Был бы я репортер газетный,
В прошлом – летописец полководца,
В будущем – противник тирана,
Ужасна была бы моя старость.
Ворох желтых бессмысленных обрывков,
А то, что грядет взамен тирану,
Бессильно, зато непобедимо,
Как всякое смертное гниенье.
А мне, ни царю, ни репортеру,
Будет, ты думаешь, прекрасно?
Никому не будет прекрасно,
А мне еще хуже, чем обоим.
Мучительно мне будет оставить
Прекрасные и бедные вещи,
Которых не чувствуют тираны,
Которых не видят репортеры:
Всякие пеночки-собачки,
Всякие лютики-цветочки,
Последние жалкие подачки,
Осенние скучные отсрочки.
Прошел по безжалостному миру,
Следа ни на чем не оставляя,
И не был вдобавок ни тираном,
Ни даже ветераном газетным.
2. О пропорциях
Традиция, ах! А что такое?
Кто видал, как это бывает?
Ты думаешь, это все толпою
По славному следу ломанулись?
А это один на весь выпуск,
Как правило, самый бесталанный,
В то время как у прочих уже дети,
Дачи и собственные школы,—
Такой ничего не понимавший,
Которого для того и терпят,
Чтобы на безропотном примере
Показывать другим, как не надо,—
Ездит к учителю в каморку,
Слушает глупое брюзжанье,
Заброшенной старости капризы
С кристалликами поздних прозрений.
Традиция – не канат смоленый,
А тихая нитка-паутинка:
На одном конце – напрасная мудрость,
На другом – слепое милосердье.
«Прогресс», говоришь? А что такое?
Ты думаешь, он – движенье тысяч?
Вот и нет. Это тысяче навстречу
Выходит один и безоружный.
И сразу становится понятно,
Что тысяча ничего не стоит,
Поскольку из них, вооруженных,
Никто против тысячи не выйдет.
Любовь – это любит нелюбимый,
Вопль – это шепчет одинокий.
Слава – это все тебя топчут,
Победа – это некуда деваться.
Христу повезло, на самом деле.
Обычно пропорция другая:
Двенадцать предали – один остался.
Думаю, что так оно и было.
3
«Зимою холодная могила, летом раскаленная печь;
настоящий ад – Шэол».
Дмитрий Мережковский
Квадрат среди глинистой пустыни
В коросте чешуек обожженных,
Направо – барак для осужденных,
Налево – барак для прокаженных.
Там лето раскаленнее печи,
На смену – оскал зимы бесснежной,
А все, что там осталось от речи,—
Проклятия друг другу и Богу.
Нет там ни зелени, ни тени,
Нет ни просвета, ни покоя,
Ничего, кроме глины и коросты,
Ничего, кроме зноя и гноя.
Но на переломе от мороза
К летней геенне негасимой
Есть скудный двухдневный промежуток,
Вешний, почти переносимый.
Но между днем, уже слепящим,
И ночью, еще немой от стыни,
Есть два часа, а то и меньше,
С рыжеватыми лучами косыми.
И в эти два часа этих суток
Даже верится, что выйдешь отсюда,
Разомкнув квадрат, как эти строфы
Размыкает строчка без рифмы.
И среди толпы озверевшей,
Казнями всеми пораженной,
Вечно есть один прокаженный,
К тому же невинно осужденный,
Который выходит к ограде,
И смотрит сквозь корявые щели,
И возносит Богу молитву
За блаженный мир его прекрасный.
И не знаю, раб ли он последний
Или лучшее дитя твое, Боже,
А страшней всего, что не знаю,
Не одно ли это и то же.
4
В России блистательного века,
Где вертит хвостом Елисавета,
Умирает великий велогонщик,
Не выдумавший велосипеда.
Покидает великий велогонщик
Недозрелую, кислую планету.
Положил бы под язык валидольчик,
Да еще и валидольчика нету.
В Англии шестнадцатого века
Спивается компьютерный гений,
Служащий лорду-графоману
Переписчиком его сочинений,
А рядом – великий оператор,
Этого же лорда стремянный,—
Он снимает сапоги с господина,
А больше ничего не снимает.
Ты говоришь – ты одинока,
А я говорю – не одинока,
Одинок явившийся до срока
Роботехник с исламского Востока.
Выпекает он безвкусное тесто
С детства до самого погоста,
Перепутал он время и место,
Как из каждой сотни – девяносто.
Мой сосед, угрюмо-недалекий,—
По призванию штурман межпланетный:
Лишь за этот жребий недолетный
Я терплю его ремонт многолетний.
Штробит он кирпичную стену
На завтрак, обед и на ужин,
Словно хочет куда-то пробиться,
Где он будет кому-нибудь нужен.
Иногда эти выродки святы,
Иногда – злонравны и настырны:
Так невесте, чей жених не родился,
Все равно – в бордель ли, в монастырь ли.
Иные забиваются в норы
И сидят там, подобно Перельману,
А иные поступают в Малюты,
И, клянусь, я их понимаю.
Я и сам из этой породы.
Подобен я крылатому змею.
Некому из ныне живущих
Оценивать то, что я умею.
Живу, как сверкающий осколок
Чьего-то грядущего единства,
Какому бы мой дар бесполезный
Когда-нибудь потом пригодился:
Способность притягивать немилость,
Искусство отыскивать подобных,
Талант озадачивать безмозглых,
Умение тешить безутешных.
5
Были мы малые боги,
Пришли на нас белые люди,
Поставили крест на нашем месте,
Отнесли нас в глубину леса.
К нам приходят в глубину леса
Захваченные темные люди,
Приносят нам свои приношенья,
Хотя у них самих не хватает.
Захваченные темные люди
Горько плачут с нами в обнимку —
Кто бы в дни нашего величья
Разрешил им такую фамильярность?
– Бедные малые боги,
Боги леса, огня и маниоки,
Ручья, очага и охоты,
Что же вы нас не защитили?
Боги леса, костра и маниоки
Плачут, плачут с ними в обнимку:
Кто бы во дни их величья
Разрешил им такое снисхожденье?
– Простите нас, темные люди,
А мы-то еще на вас сердились,
Карали вас за всякую мелочь
Неумелою отеческой карой!
А теперь запрягли вас в машины,
Погнали в подземные шахты;
Кровь земли выпускают наружу,
Кости дробят и вынимают.
А богов очага и охоты
Отнесли и бросили в чаще;
Вы приносите им приношенья,
А они ничего не могут.
Знаем мы, малые боги,
Боги леса, ручья и маниоки:
Вас погубят белые люди,
А потом перебьют друг друга,
Крест упадет, подломившись,
Шахты зарастут, обезлюдев,
На машинах вырастет плесень,
В жилищах поселятся гиены,
И останутся малые боги
На земле, где всегда они были:
Никто их не выбросил в чащу,
Никто не принесет приношений.
* * *
Не рвусь заканчивать то, что начато.
Живу, подействуя и пасясь.
Сижу, читаю Терри Пратчетта
Или раскладываю пасьянс.
Муза дремлет, а чуть разбудишь ее —
Мямлит вяло, без куражу,
Потому что близкое будущее
Отменит все, что я скажу.
Я бы, может, и рад остаться там —
В прочном прошлом, еще живом,—
Но о семье писать в шестнадцатом?
А о войне – в сороковом?
Сюжет и прочая рутина,
Какую терпели до поры,
Всем сразу сделалась противна —
Как перед цунами мыть полы.
И лишь иногда, родные вы мои,
Кой-как нащупывая ритм,
Я думаю, что если б вымыли…
Как эта мысль меня томит!
Такая льстивая, заманчивая,
Такая мерзостно-моя —
Что, зарифмовывая и заканчивая,
Я кое-как свожу края.
Едет почва, трещит коновязь,
Сам смущаюсь и бешусь.
Пойти немедля сделать что-нибудь.
Хоть эту чушь.
* * *
Вынь из меня все это – и что останется?
Скучная жизнь поэта, брюзга и странница.
Эта строка из Бродского, та из Ибсена —
Что моего тут, собственно? Где я истинный?
Сетью цитат опутанный ум ученого,
Биомодель компьютера, в сеть включенного.
Мерзлый автобус тащится по окраине,
Каждая мелочь плачется о хозяине,
Улиц недвижность идолья, камни, выдолбы…
Если бы их не видел я – что я видел бы?
Двинемся вспять – и что вы там раскопаете,
Кроме желанья спать и культурной памяти?
Снежно-тускла, останется мне за вычетом
Только тоска – такого бы я не вычитал.
Впрочем, ночные земли – и эта самая —
Залиты льдом не тем ли, что и тоска моя?
Что этот вечер, как не пейзаж души моей,
Силою речи на целый квартал расширенный?
Всюду ее отраженья, друзья и сверстники,
Всюду ее продолженье другими средствами.
Звезды, проезд Столетова, тихий пьяница.
Вычесть меня из этого – что останется?
* * *
У бывших есть манера манерная —
Дорисовать последний штрих:
Не у моих – у всех, наверное,—
Но я ручаюсь за моих.
Предлог изыскивается быстренько,
Каким бы хлипким ни казался,
И начинается мини-выставка
Побед народного хозяйства.
Вот наши дети, наши розы,
Ни тени злости и вражды.
Читатель ждет уж рифмы «слезы».
Ты тоже ждешь. Ну ладно, жди.
А тут у нас гараж, как видишь,—
Мужнин джип, моя «рено»…
Ты скажешь ей: отлично выглядишь.
Она в ответ: немудрено.
Тут время взору опуститься,
Чтоб суть была обнажена:
Намек стыдливого бесстыдства,
Покорно-страстная жена.
И тон твой ласков и участлив,
Как безмятежный окоем:
– Надеюсь, ты еще будешь счастлив,
Как я в отсутствии твоем.
Боюсь, в мое последнее лето,
Подведя меня к рубежу,
Мир скажет мне примерно это,
И вот что я ему скажу:
– Да, я и впрямь тебе не годился
И первым это уразумел.
Я нарушал твое единство
И ничего не давал взамен.
Заметь, с объятий твоих настырных
Я все же стряс пристойный стих,
Не меньше сотни строк нестыдных,
Простынных, стылых и простых.
А эти розы и акация,
Свет рябой, прибой голубой —
Вполне пристойная компенсация
За то, что я уже не с тобой.
* * *
Продираясь через эту черствую,
Неподвижную весну,
Кто-то спит во мне, пока я бодрствую,
Бодрствует, пока я сплю.
Вот с улыбкой дерзкою и детскою
Он сидит в своем углу
И бездействует, пока я действую,
И не умрет, когда умру.
Знать, живет во мне и умирание,
Как в полене – головня.
Все, что будет, чувствую заранее,
Сам себе не говоря.
Знает замок про подвал с чудовищем —
Иль сокровищем, Бог весть,—
Что-то в тишине ему готовящим,
Но не видит, что там есть.
Что ж ему неведомое ведомо,
Чтоб мы жили вечно врозь,
Чтоб оно звало меня, как велено,
И вовек не дозвалось?
Верно, если вдруг сольемся в тождество
И устроим торжество —
Или мы взаимно уничтожимся,
Иль не станет ничего.
Так что, методически проламывая
Разделивший нас барьер,
Добиваюсь не того ли самого я —
Хоть сейчас вот, например?
* * *
Прошла моя жизнь.
Подумаешь, дело.
Предавшее тело, походы к врачу.
На вечный вопрос, куда ее дело,
Отвечу: не знаю и знать не хочу.
Дотягивай срок,
Политкаторжанка,
Скрипи кандалами по ржавой стране.
Того, что прошло,
Нисколько не жалко,
А все, что мне надо, осталось при мне.
Вот так и Господь
Не зло и не скорбно
Уставится вниз на пределе времен
И скажет: матчасть
Не жалко нисколько,
А лучшие тексты остались при нем.
* * *
Чтобы заплакать от счастья при виде сиреневого куста,
Хватило бы зимней ночи одной, а было их больше ста.
И когда сирень перевешивается через дедовский палисад,
То к счастью всегда примешивается страшнейшая из досад:
А вдруг ни этого сада, ни нежности, ни стыда
На самом деле не надо, а надо, чтоб как тогда —
Когда без всякой сирени, свирели и вешних вод
По норам своим сидели и думали: «вот-вот-вот»?
Ведь тесную эту норку, погреб или чердак
Так просто принять за норму, когда она долго так.
Цветение длится месяц, одиннадцать длится страх.
В набор любых околесиц поверишь в таких местах.
Чтобы заплакать от счастья при виде тебя, какая ты есть,
Хватило бы тысячи прочих лиц, а их – миллиардов шесть.
И когда окно занавешивается и другие мне не видны —
То к счастью всегда примешивается тоска и чувство вины,
Как будто при виде райского кубка мне кто-то крикнул: «Не пей!»
Ты скажешь, что это острей, голубка, а я считаю – тупей.
На три минуты покинув дом – всегда во имя тщеты,—
Я допускаю уже с трудом, что там меня встретишь ты.
Что за всеобщее торжество, что за железный смех!
Было бы нас хоть двое на сто – а нас ведь двое на всех.
Да и чтобы заплакать от счастья при мысли, что вот она, жизнь моя,
На свете могло быть, честное слово, поменьше небытия,
А то когда я с ним себя сравниваю, вперившись в окоем,
Мне кажется слишком странным настаивать на своем.
* * *
«Запах свежий и тлетворный…»
Нонна Слепакова
Ничего не может быть иначе.
Начинается гроза.
Чувство, будто в детстве, в дождь, на даче:
Делать нечего, гулять нельзя.
У окна стою, как в детстве,
К потному стеклу прижав чело.
Чувствую себя в соседстве
Не могу пока сказать чего.
Лужа от забора до сарая.
Тучи в виде двух квашней.
Зелень ядовитая сырая
Пахнет гуще и душней.
Как по взмаху царственного жезла —
Или царского жезлА —
Дружно нечисть разная полезла,
Закипела, приползла.
Мох на камне, плесень на заборе,








