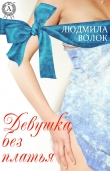Текст книги "Крест в круге"
Автор книги: Дмитрий Герасимов
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
«Что ж, ребята, бойкот – так бойкот. Выпутывайтесь сами. Вспоминайте, сочиняйте… Упрямцы и глупцы».
– Это было… – Ефремов нахмурил лоб, – в начале одиннадцатого…
«Если быть точным, – мысленно поправил его Вадим, – пятнадцать минут одиннадцатого. А ровно в половину одиннадцатого посыльный покинул отель. Я как раз посмотрел на часы и подумал, что мне осталось еще полчаса дежурить на центральном».
Он насмешливо глядел на оператора.
– Да, в начале одиннадцатого, – повторил Ефремов, стараясь не встречаться взглядом с «опальным» Григорьевым. – Можно посмотреть на пленке. Я наблюдал за ним в камеру.
И он кивнул на шахматную доску мигающих квадратиками мониторов.
Оперативник удивленно перевел взгляд с Вадима на оператора и переспросил, словно ослышался:
– Так на центральном входе дежурил только один сотрудник?
Ефремов невозмутимо щелкнул кнопкой на пульте и стряхнул с рукава невидимую пыль:
– Да. Один.
Плешаков промолчал.
Пока оператор отматывал пленку, отыскивая нужную запись, следователь закончил опрашивать женщину.
– Администрация отеля предоставила вам другой номер, – сказал ей Зевкович, – чтобы вы могли отдохнуть.
– Не стоит, – она покачала головой, – я теперь все равно не усну, а утром у меня самолет. Хотя… Какой теперь самолет… Спасибо. Мне нужно побыть одной. И не здесь. – Она медленно и с усилием поднялась со стула.
– Наш сотрудник проводит вас… Вам вызвать такси?
– Да. Благодарю.
Вадим проводил взглядом эту красивую молодую женщину, которую не сломили события чудовищной ночи. Он восхищался ею.
«Она прекрасна. Какая удивительная женщина! Красивая, умная и… беззащитная. Она напоминает мне мою Милу. Мою единственную любовь…»
Дима Мещерский провел ее по длинному коридору, мимо двери комнаты с депозитными сейфами, через тяжелую штору, мимо стойки лобби – через просторный зал reception. Они вышли через распахнутую швейцаром дверь центрального входа, в свежую, наполненную пестрыми огнями осеннюю ночь. Мещерский помог ей сесть на заднее сиденье такси и, захлопнув за ней дверцу машины, шагнул обратно на тротуар. Она посмотрела на него в окно и, чуть наклонившись к шоферу, скомандовала спокойным, деловым голосом:
– В аэропорт. Живо!
Водитель кивнул и щелкнул рычагом передачи.Следователь тем временем усадил напротив себя сотрудника «рум-сервиса». Это был худощавый молодой человек лет двадцати по имени Вианор, с бегающими глазками и подобострастной улыбкой. Он застыл в ожидании вопросов, всем своим видом демонстрируя готовность подробно ответить на каждый.
В операторскую шумно ввалился второй оперативник. Он выглядел раздраженным и усталым. Хождение по этажам не принесло никаких результатов.
– Я отработал жилой сектор, – буркнул он, кидая на стол тощую папку из кожзаменителя. – Иностранцев не трогал. А из наших – никто ничего не видел, никто ничего не слышал… Ни шума, ни хлопков…
Вианор оживился. Его глазки сузились, и он даже приподнялся со стула, словно помогая себе торопливо выдавливать реплики:
– Хлопки… Нет, хлопков я не слышал, но… как будто… Я слышал – «спасите!». Как будто… «Спасите!»
Оперативник бросил на него удивленный взгляд, в котором одинаково читались недоверие и презрение. Следователь поднял голову:
– Вы слышали, как кто-то звал на помощь?
– Как будто…
– Что значит – как будто? – рявкнул уставший оперативник. – Я шляюсь по этажам, пытаюсь достучаться до полоумных и трусливых стариканов, а тут сидит, понимаешь, молодой да резвый, который слышал крики о помощи – и как в рот воды набрал!
– Действительно, – укоризненно произнес следователь, – что же вы молчали-то?
– Так ведь до меня еще очередь не дошла, – почти кокетливо ответил официант. – Я думал: у вас все по порядку… Чего лезть-то?
«Педик», – одновременно решили про себя следователь и опер.
– К тому же, – невозмутимо продолжал Вианор, опять садясь на краешек стула и сложив руки между коленями. – Это совсем не там было…
– Что значит – не там?
– Ну, не в «трех двойках»… В другом номере. Я и значения не придал.
– В каком же номере вы слышали «спасите»? – теряя терпение, процедил следователь.
– Ну, – парень вдруг засмущался, – это, может, и не «спасите» было…
– А где? – начал следователь, но его опередил Груздев. Задевая стоящих сотрудников, он угрожающе наклонился к самому лицу официанта, будто собираясь откусить ему нос, и рявкнул:
– Ты что, идиот?! Или ты думаешь, здесь тебе памятник Героям Плевны? [5] Чего ты задницей-то виляешь?
Следователь аккуратно оттеснил начальника службы безопасности от побелевшего Вианора и спросил как можно миролюбивее:
– А где же вы слышали возглас, который… который, может быть, вовсе и не крик о помощи, а только похож на него?
– Чуть дальше по коридору от «трех двоек», – ответил сотрудник, с опаской поглядывая на тяжело дышащего Груздева. – Я не помню номера… Но дверь показать могу.
Оба оперативника переглянулись.
– Прошу вас, – галантно произнес следователь, – подняться на четвертый этаж с нашим работником и показать ему эту дверь. – Повернувшись к хмурому оперативнику, он добавил: – Саша, сходи еще…
– Я тоже поднимусь с вами, – поспешно сказал Зевкович. – На тот случай, если нужно будет номер карточкой открыть.
Как только за ними закрылась дверь, Ефремов тяжело вздохнул:
– Нет этого парня на пленке. Один только раз его видно издалека, когда он по коридору идет. Полторы секунды – от силы. – Он еще раз отмотал пленку магнитофона и запустил изображение. – Вот этот посыльный с цветами.
На экране появилось неясное, размытое изображение молодого человека, стремительно идущего по коридору.
Все, кто был в операторской, сгрудились у монитора, стараясь рассмотреть предполагаемого убийцу. Вадим тоже подошел поближе.
На экране едва различимый человек прошел по коридору, затем сменился кадр и включился квадрат второй камеры, наблюдающей за сектором этажа перед 222-м номером. Квадрат был пуст.
– А там что, камера не работает? – удивился следователь.
Ефремов замялся:
– Я ее отключил.
Груздев подпрыгнул на стуле.
– Зачем, Коля? Ты что, ненормальный?
Ефремов помедлил с ответом. Ему предстояло признаться в том, что вот уже несколько часов он не решался произнести вслух.
– Я отключил камеру, – сказал он тихо, – потому что меня попросил об этом… убитый.
В операторской повисла гробовая тишина.
Первым пришел в себя следователь.
– Вы хотите сказать, – произнес он с расстановкой, – что были знакомы с убитым?
Ефремов растерянно обвел руками комнату:
– Да мы здесь все были с ним знакомы! Полгода назад он работал в нашей смене.
Следователь перевел взгляд на Груздева. Тот поморгал глазами и неожиданно выпалил:
– Даю слово офицера – я об этом ничего не знал!
Вадим фыркнул.
– Мы работали вместе, – продолжал Ефремов. – Полгода назад он нашел себе работу по специальности и ушел из «Националя». А недавно позвонил и попросил об этой… услуге. Ну, чтобы я отключил камеру.
– А зачем? – полюбопытствовал следователь.
– Видите ли, – Ефремов покачал головой, – он хотел поселиться на пять дней в отеле инкогнито. Чтобы никто ничего не знал. Даже служба безопасности.
– Тому была веская причина? – подмигнул следователь, кивая на дверь, за которой несколько минут назад скрылась заплаканная женщина.
– Конечно, – подтвердил Ефремов. – Она ведь дама… м-м-м… замужняя. Сами понимаете, все такое. А должность у нее не маленькая. Репутация опять же.
– Ты поступил нехорошо, Николай, – назидательно произнес Груздев. – Скрыл от товарищей…
Следователь захлопнул папку.
– Ладно, – сказал он, – изображения подозреваемого у нас нет. Но вы можете хотя бы определить по хронометражу коридорной камеры, сколько времени он пробыл в номере?
Ефремов оживился:
– Конечно, могу! – Он покрутил колесико на пульте и прищурился: – Без малого десять минут.
Следователь удивленно присвистнул:
– Чего-то долго. За это время можно роту расстрелять. – Он вернулся на место за столом и устало провел ладонью по глазам: – Странно все как-то.
Груздев, который уже смертельно хотел спать, пожал плечами:
– Ничего странного. Этот пацан просто непрофессионал. Он, может, десять раз в штаны наложил, прежде чем ствол достать. Потом собрался с духом, и…
На базе громко щелкнул динамик рации, и все, кто был в операторской, разом вздрогнули.
Сквозь шуршание и треск эфира на головы собравшихся в душной комнате людей обрушился низкий голос Зевковича:
– Парни! Здесь все в крови, и еще один труп!.. Номер двести пятнадцать!Часть первая Крест в круге
Глава 1
В 1995 году отель готовился к открытию после длительного ремонта. В марте спешно набирали штат.
Вадиму, который уже больше года перебивался случайными заработками, позвонил университетский приятель Славик Шимунов:
– Вадька, лови шанс! После реставрации открывается «Националь» – первоклассный отель. Есть возможность пристроить тебя туда охранником.
– Кем? – опешил Вадим. – Охранником?
– Не будь снобом, – урезонил его приятель. – Время такое, что не до жиру. Или тебе не нужна работа?
– Работа мне очень нужна, – Вадим замялся, – просто…
– Что просто?
– Просто как-то неожиданно… Охранником.
– Ну, не охранником, – нехотя поправился Шимунов, – там это у них называется «служба безопасности». Сотрудником службы безопасности!
– Да не важно, как это называется, – рассмеялся Вадим. – Ну какая из меня безопасность? Аспирант-костолом?
– Григорьев, не дури. Лучше меня знаешь, что аспиранты нынче торгуют на рынках сигаретами, а профессора подрабатывают частным извозом. Сколько ты сейчас наскребаешь в месяц со всеми своими халтурами?
Вадим промычал в трубку что-то невнятное и со вздохом закончил:
– … рублей.
– Ясно. – Приятель усмехнулся и передразнил: – Тю-тю-тю… рублей. Ты хоть спроси меня, какая зарплата у тебя предвидится в «Национале»!
И, не дожидаясь вопроса, выдохнул торжественно:
– Двадцать раз по «тю-тю-тю»!
Вадим помолчал и вдруг засмеялся.
– Да что я тебя уговариваю?! – возмутился Шимунов. – Не хочешь – не надо! На такое теплое место – только свистни – толпа желающих! А этот сноб еще хихикает!
– Сдаюсь! – миролюбиво отозвался Вадим. – Охранником – так охранником. А смеюсь я совсем по другому поводу. Понимаешь, такое совпадение странное… «Националь»… Я ведь писал об этом отеле. Помнишь мой труд про Шолохова?
– Что-то припоминаю, – промычал приятель. – Жена Ежова и честный мент?
– Сотрудник НКВД, – поправил Вадим.
– Один бес, – рассмеялся тот.
– Но и это еще не все. – Вадим понизил голос. – Ненаписанный роман моего отца назывался «Отель N». И этот роман – про меня…
– Вот видишь, – то ли назидательно, то ли полушутя отреагировал Шимунов. – Эта работа тебе предсказана!
Вадим опять засмеялся:
– Но в романе – печальный финал… Впрочем, все это ерунда, суеверия. А тебе – спасибо, ты меня очень выручил. Честно.
Приятель помедлил, словно обдумывая, как сказать, и с деланой небрежностью закончил разговор:
– Да! И вот еще что. Ну, понимаешь… Рыночные отношения… Туда-сюда… Словом, с тебя – половина твоей первой зарплаты. Мое вознаграждение. О’кей?
Вечером Вадим сообщил новость Матвею Лифанову – «дяде Матвею», который после смерти отца – Бориса Максудовича Григорьева – стал ему самым близким человеком:
– Завтра поеду на собеседование. Буду охранником в отеле «Националь».
– Где? – переспросил тот и почему-то выронил вилку.
– Звонил приятель, – пояснил Вадим. – Сказал, что такое место на дороге не валяется. И заработок приличный.
– Отель N… – в задумчивости произнес Матвей и усмехнулся. – Ну как тут не поверить в пророчества. – Он медленно поднял вилку с пола и бросил ее в раковину. – Скажи, мой мальчик, а ты веришь, что твою жизнь может кто-то за тебя написать? Отец, например, или злая старуха.
Вадим сел за стол, провел ладонью по мятой клеенке, словно собираясь выпрямить ее, разгладить, сделать ровной и без складок. А потом сказал совершенно серьезно:
– Да, я верю, что наша жизнь кем-то написана. Но не старухами и не писателями. Больше того: она написана не до конца . А финал зависит от того, сколько раз в пути мы сделаем выбор. Правильный или неправильный.
– А сейчас? – встрепенулся Матвей. – Сейчас ты сделал правильный выбор?
– Надеюсь, что – да. – Вадим опять задумался. – Как странно… Один звонок может изменить твою жизнь. Прояснить ее…
– Или погубить, – закончил Матвей.
Вадим открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент оба мужчины вздрогнули: прихожую разрезал сухой, продолжительный звонок в дверь…За утратившим от сырости какую бы то ни было прозрачность окном троллейбуса слезливо корчилась Тверская. Реагентное месиво пузырилось грязью под колесами спешащих машин. Мартовские лужи на тротуарах, как в небрежно рисованном мультике, выбрасывали то желтоватую «М», оброненную жизнерадостным «Макдоналдсом», то красную глыбу утренне-радостного здания мэрии, то голубую неоновую абракадабру скромных кафешек и высокомерных бутиков.
Вадим ехал на собеседование к некоему Юрию Груздеву – будущему начальнику службы безопасности «Националя» – в старый особнячок, затерявшийся в многочисленных кривобоких переулках самого центра столицы. Он не знал, радоваться ему или грустить. Ухватившись за поручень, он прижался щекой к холодному металлу и тоскливо-рассеянно наблюдал через мокрое стекло агонию московского утра. Он пытался утешить самого себя.
«Как странно… Почему меня так встревожили эти мистические совпадения? Почему вчера опять прозвучало имя моего отца при таких странных обстоятельствах?
Сначала – «Отель N…», с которым связаны неведомые пророчества… Отец до конца жизни верил, что «написал» мою судьбу, мою «последнюю главу». Потом вдруг – звонок в дверь, и опять звучит его имя! Этот жуткий визит следователя, который сначала хочет видеть умершего, а потом говорит: «Это вы его убили!» И не кому-нибудь, а человеку, заменившему мне его во всем.
А может, действительно, нельзя бороться с предопределенностью? Может, плюнуть сейчас через левое плечо, повернуть в обратную сторону и сидеть дома? Но где гарантия, что таким образом я уберегусь от бед, что они не подкрадутся ко мне совсем с другой стороны и не нанесут сокрушительный удар? Хорош же я буду, если побегу от судьбы! Сам ведь сказал: с судьбой не борются, и от нее не бегают, потому что она пишется не нами. Но приходится каждый день, каждый час, каждую минуту выбирать одну из двух дорог – ту, которая узкая, а не соблазнительно широкая. По большому счету, это и есть выбор между Богом и смертью. И пока ты на узкой дороге, никто никогда не напишет твою последнюю главу…»Вадим сам не заметил, что давно уже вышел из троллейбуса и, зачерпывая ботинками талое месиво, добрел до самого конца кривого переулка, утыканного припаркованными авто. Он остановился возле желтого двухэтажного здания перед черной железной дверью, покрытой, словно сыпью, кнопками домофонов, поискал глазами нужную табличку и, глубоко вздохнув, надавил пуговку звонка. «Все будет хорошо… А пока мне просто… нужна работа. Любая… Видит ли меня сейчас мой отец?»
Глава 2
– Григорьев! Боря! Боря! Ребенка задавили!
Говорят, что человек осознанно помнит свою жизнь, начиная с пяти лет. Но эти ранние воспоминания – лишь фрагменты, вспышки, осколки. Сладковатый запах резины новых галош, лицо матери, протяжная, берущая за душу песня, железистый привкус крови на языке, чья-то липкая, горячая, большая ладонь, соседская девочка с белым бантом, гигантская, сахарная сосулька за окном, страх перед дворовым псом, стыд за проигранный спор, гордость за прыжок с крыши, восторг от синего стеклянного шарика, выменянного на огромный шпингалет от оконной рамы…
Отец Вадима Григорьева был исключением из правил. Он помнил и осознавал всю свою жизнь с самого раннего детства. Его воспоминания изобиловали таким количеством подробностей, деталей, ярких, живых образов, что собственное детство казалось ему увиденной вчера кинокартиной или только что прочитанным романом.
Его жизнь началась с этого истошного женского крика на переполненном перроне в Ташкенте, куда двухлетний Боря Григорьев был эвакуирован вместе с детским домом в начале войны: «Григорьев! Боря! Боря! Ребенка задавили!..»
Он бежал, ухватившись за чье-то пальто, стараясь не потерять из виду воспитателя и нянечку. Огромные чемоданы, пестрые тюки с поклажей, тележки, красные туфли, черные, ободранные башмаки, блестящие сапоги с вздутыми ушами галифе над ними – все смешалось в едином невообразимом водовороте.
Совсем рядом кто-то кричал, но Боря не мог разобрать ни единого слова. Он силился понять, уловить что-то знакомое в этом языке – и не мог. Люди здесь говорили совсем не так, как все, кого он знал в Москве. И ему стало страшно. Он выпустил на мгновение спасительную полу пальто, и в ту же секунду густое шипение заглушило все остальные звуки, пронизало насквозь все его существо и разлилось молочным непроницаемым туманом.
Состав лязгнул колесами и опять зашипел. Боря закричал, выставив вперед ручонки, и его душераздирающий крик утонул в свирепом шипении стального чудовища и в гулкой какофонии взрослых голосов, говорящих на непонятном и чужом языке. Он повернулся назад, стараясь разглядеть хоть кого-нибудь в ужасном тумане.
Чудовищных размеров черный чемодан, как стена, вырос ему навстречу, ударил в грудь и подбородок. Показались на мгновение очертания рук и плащей, но тут же перевернулись, как в неведомой карусели, и раскаленные плиты перрона обожгли щеку. «Григорьев! Боря!»
Он захлебывался в собственном крике и не слышал его. Но это спасительное, до боли знакомое «Григорьев! Боря!» – он услышал и потянулся к нему из последних сил, пока огромный, будто каменный, сапог не опустился на его вцепившуюся в плиты руку.
И все погасло…
– Косточки хрупкие, – произнес чей-то усталый голос. – Срастутся довольно быстро, если восполнить нехватку кальция… Но пианистом он уже не будет.
Боря открыл глаза в незнакомой белой комнате с неровными стенами, похожими на складки халата, в котором чужой и строгий дядя стоял над ним, теребя в руках деревянную палочку. Он взглянул на мальчика поверх очков и повторил твердо, словно читал правила, которые необходимо запомнить:
– Но пианистом уже не будет.
Едва Боря открыл глаза, как почти сразу заплакал. Дядя уже давно ушел, и его место заняла нянечка тетя Рая, потом – другая, со смуглым, красивым лицом, а Боря все плакал и плакал. И вечер, и ночь, и следующий день, и следующий вечер. Наверно, именно тогда он и выплакал все слезы на всю свою оставшуюся жизнь. Потому что последующие катаклизмы, страхи, несчастья и потери, пунктиром прочеркнувшие его отрочество и юность, не смогли выдавить больше ни одной слезинки из его печальных и больших глаз. Сердце покрывалось рубцами и шрамами, душа металась и рыдала, а глаза оставались сухими.Врач оказался прав: кости на левой руке срослись неудачно, и отец Вадима остался инвалидом. Он всегда стеснялся этого своего дефекта, поэтому даже на редких фотографиях, запечатлевших его ташкентское детство и юность, видно, как Боря неловко прячет свою маленькую, корявую, как ветка чинары, кисть руки глубоко в карман.
В течение последующего года детский дом, в котором воспитывались Борис и еще дюжина московских ребятишек, трижды переезжал с места на место. Их селили то в небольшой пристройке к мечети, то в огромном белоснежном шатре, разбитом прямо на улице, то в кургузом глинобитном здании, в котором до войны размещались курсы повышения квалификации хлопкоробов. Но места все равно не хватало. Ташкент принимал сотни, тысячи людей со всех концов страны – эвакуированных, раненых, детей. Вокзал тонул в паровозном тумане – сюда стягивались бесконечные вереницы доверху груженых составов: госпитальные поезда и даже целые заводы, перемещаемые из сердца страны на восток вместе с оборудованием, станками и сырьем. Под госпитали освобождались все пригодные для этого здания и сооружения. Но места для раненых все равно не хватало. Они лежали в коридорах и проходах, иногда даже во дворе на складных койках – молодые парни, без рук, без ног и с застывшей болью в глазах.
Дни тянулись за днями, слипались в недели и месяцы – нескончаемой скорбной вереницей, бесшумным пустынным караваном. А может, это только казалось, что время замедлило ход, потому что дети взрослели очень быстро.
Шел третий год войны.
Маленький Боря Григорьев выглядел не по возрасту серьезным ребенком. Он почти не говорил, мало играл, зато мог часами слушать. Его огромные внимательные глаза жадно сверкали в полутемном углу тесной детской комнаты, когда старшие ребята плели друг другу небылицы, прочитанные, подслушанные или придуманные здесь же, в сиротском доме, эвакуированном за тридевять земель – туда, куда не долетали даже самые мощные самолеты врага, где не было слышно грохота бомбежек и залпов артиллерийских орудий. Он – чуть ли не единственный из всех детей – мог, не отрываясь, слушать книжку, читаемую вслух нянечкой во дворе. Прочие ребята быстро сбегали каждый по своим делам, а Боря сидел, не шевелясь, устремив задумчивый взгляд куда-то поверх тополей и спрятав под мышку свою маленькую, искалеченную ладошку. Когда уставшая и охрипшая нянечка захлопывала книжку и вздыхала примирительно: «Давай сделаем перерыв. Потом дочитаем», – он не протестовал, деловито слезал со скамьи и, не говоря ни слова, шагал прочь. Он был благодарным слушателем; лучшим другом его стал большой черный репродуктор, возле которого он проводил в одиночестве долгие часы.
Маленького Борю Григорьева ребята постарше нередко таскали с собой на прогулки по городу. Оставленные практически без присмотра дети, уставшие от бесконечных переездов, измученные недоеданием, болтались по улицам города, казавшегося им одной большой, сказочной и в то же время полной ужасов страной. Страной, то ли сошедшей с обложки старой книжки про волшебников с седыми бородами и туфлями с задранными носами, то ли созданной их собственным воображением. Страной, где герои восточных сказок соседствовали с героями волнительной картины «Путевка в жизнь».
Здесь поражало все: древние мечети с высоченными минаретами, базары с горами сладких фруктов и чанами, в которых дымилась еда из риса, овощей и бараньего жира, верблюды, равнодушно жующие жвачку, забавные ослики, таскающие тележки с поклажей по узким улочкам, виноградники и фруктовые сады. А среди этой пестрой, наполненной дурманящими ароматами жизни шныряли беспризорники и бродяги, воры и жулики – босота, рожденная всеобщей нищетой и горем. Ташкент задыхался и стонал, пытаясь приютить и накормить тысячи и тысячи людей.
На улицах или на базаре можно было поживиться: стащить с лотка нехитрое лакомство: кусочки застывшей манной каши, смазанные коричневой патокой, или маленький пончик с большой дыркой посередине. На окраинах у оставленных без присмотра коров детдомовцы воровали жмых, рвали недоспелый урюк или виноград, растущий в ухоженных дворах за оградами, сплетенными из камыша.
Нередко дети выступали в госпиталях перед ранеными красноармейцами с неприхотливыми и безыскусными импровизациями: читали стихи, пели жалобные песни, танцевали и разыгрывали забавные сценки. Борю Григорьева припасали «на десерт». Он выходил из-за спин своих товарищей – маленький и серьезный, – обводил окружающих задумчивым взглядом и вдруг выводил высоким и сильным голоском:Я сегодня с утра
Сам не свой!
Мне милка не дала,
И я – злой!
Он удивленно затихал под взрыв хохота. Бойцы забывали про боль и страдания, утирали перебинтованными культями глаза и кричали сквозь смех: «Бис!.. Бис!..» Раненые солдаты любили детей, знали их по именам и щедро одаривали сахаром и вкуснейшим ржаным хлебом. А однажды Борису досталось полбанки всеми позабытого и потому экзотического лакомства – порошка какао. Вечером его ели прямо ложкой, сидя на Бориной кровати, сопя и растирая коричневые слюни по подбородкам.
Каждое утро по городу катилась телега, в которую сваливали умерших за ночь от голода. Леша Смирнов – самый старший (ему исполнилось десять), а потому авторитетный в компании детдомовцев мальчик, подталкивал в спину малышей и тыкал грязным пальцем в сторону скорбной телеги:
– Смотрите! Они умерли! Их убили ночью!
Боря во все глаза смотрел на желтые ступни ног, выглядывающие из-под засаленного брезента, и в ужасе пятился за спины своих приятелей.
– А зачем их… убили? – шепотом спрашивали Лешу ребята.
– Дурачье! – презрительно ухмылялся он. – Вы разве не знаете про пирожки с человечиной ?
В самом деле, город полнился слухами, что из умерших людей кто-то делает пирожки, а потом торгует ими на базаре. Боря слышал, как однажды поздним вечером воспитательница шепталась с нянечкой на кухне.
– Это чистая правда, Раиса, – убеждала она пожилую женщину. – Вчера Корней, наш завхоз, надкусил пирожок, а в нем… человеческий палец! Я сама видела!Как-то ночью Борю разбудил тревожный шепот. Леша Смирнов расталкивал сонных мальчишек:
– Вставайте, пацаны, живее! Я его выследил! Я выследил этого людоеда!
Мальчики таращились в темноте, протирая глаза и ничего толком не соображая из-за недосыпа и урчания в пустых желудках.
– Кого? Что? Что случилось?
– Он торгует на базаре мясом умерших людей! Сам видел! Пошли, пацаны! Мы должны его наказать! Мы должны отомстить!
Они бежали по ночным улицам города вдоль речки Чорсу, беспокойно журчащей в темноте, мимо низкорослых домишек и развесистых чинар. Останавливались передохнуть возле спрятанных среди деревьев хаузов – небольших колодцев, в которых даже в самую невыносимую жару всегда стеклянно дрожала студеная вода.
Боря быстро выбился из сил и чуть не плакал, едва поспевая за своими приятелями. Он дышал широко раскрытым ртом и тихонько постанывал. Ему было страшно идти в темноту враждебного и таинственного города, но еще страшнее было остаться где-нибудь у скрипящего лягушками хауза и навсегда потеряться в зловещей и черной неизвестности. Он не понимал, куда они бегут и зачем. Если что-то делают все – значит, так надо. Он – один из всех. Он делает общее дело. Он – мужчина.
Четырехлетка, он уже знал слово «кровь». Он видел, как белеют скулы и сжимаются руки у людей, произносящих это короткое, но такое грозное слово. Слово, которое знала вся страна.
Но Борис никогда не видел, как льется кровь. В эту холодную, леденящую душу и руки ташкентскую ночь он впервые узнал, как это бывает…
Потом, много позже, он с ужасом понял, что именно это первое убийство, совершенное на его глазах, спустя много лет сделало убийцей и его самого.Семеро разновозрастных мальчишек остановились возле низкорослого, но аккуратного домика, утопающего в черных деревьях ухоженного сада. Ладная камышовая изгородь была настолько низкой, что, казалось, взрослый человек мог ее просто перешагнуть. Ребята не спешили забираться во двор. Они сдерживали дыхание, стараясь не шуметь в темноте, и боязливо ежились, поглядывая на своего вожака.
Леша Смирнов кивнул на белеющую из-за деревьев стену дома:
– Здесь он живет, гад! А по ночам печет пирожки. – Он подергал щербатую калитку и прислушался. – Собаки нет. Ништяк, пацаны!
Он пытался приободрить своих оробевших товарищей, но «пацаны» заметно приуныли. Они в нерешительности переминались с ноги на ногу возле калитки и стучали зубами.
– Обоссались, крохоборы? – Смирнов начинал терять терпение. – Сами захотели на пирожки пойти?
Мальчишки втянули головы в плечи и пристыженно молчали.
– Вы трусы, а не мужики, – не унимался Леша. – Вас любой враг одолеет! Тот, кто боится врага, – сам враг!
На секунду этот аргумент подействовал. Ребята зашевелились и подтянулись вплотную к калитке. Толя Белый, худенький, высокий мальчик лет семи, прошептал едва слышно, стараясь унять дрожь в голосе:
– А где он… это… пирожки делает?
– Там! – Леша уверенно показал рукой куда-то в глубину двора. – В деревянной пристройке. Дым чувствуешь?
Толя повел носом:
– Да, чувствую…
Ребята таращились в темноту двора, стараясь рассмотреть жуткие стены, за которыми хладнокровно жарят людей.
– Мы должны наказать злодея! – Смирнов отступил на шаг и решительно извлек из сапога тряпичный сверток. В темноте на секунду зловеще сверкнуло узкое, длинное жало стальной заточки.
Мальчишки остолбенели.
– Вчера у баркасовских выменял на медицинский жгут, – пояснил Леша, упиваясь всеобщим удивлением и восхищением.
Воспитанники баркасовской коммуны славились на всю округу своим безрассудным хулиганством и неуправляемой жестокостью. Ходили слухи, что они убили двух немцев-переселенцев, забрали у них аккордеон и продали его на рынке, а на вырученные деньги купили медицинский спирт. Пьяные малолетки бродили по городу с заточками и самодельными кистенями, наводя ужас не только на обычных граждан-переселенцев: корейцев, греков, немцев, крымских татар, но и на местную шпану.
– Переселенцы – враги нашей родины, – заявляли баркасовские.
– А вы сами-то кто? – спрашивали их.
– Мы – эвакуированные. Дети трудового народа. А переселенцы – враги народа!
Тот факт, что Смирнову удалось найти общий язык с баркасовскими и даже выменять у них заточку, – почему-то успокоил ребят. Они с уважением поглядывали на сверкающее лезвие и впервые чувствовали себя в безопасности.
– Ну что, пацаны? – задорно подмигнул Леша. – Вперед?
– За Родину! – прошептал Толя Белый и рванул на себя калитку.
Они быстро продвигались к белеющему в темноте дому, прячась за деревьями, пахнущими недоспелыми абрикосами. Глаза постепенно привыкали к ночному сумраку, и вскоре ребята без труда различали все предметы. Прямо в саду одиноко морщилась складками летняя кухня из камышовых стволов – бесхитростная постройка с фанерной крышей. Сам дом вблизи казался выше, потому что порос сверху буйной зеленью – словно водрузил на себя лохматую, облезлую шапку. У стены разместился аккуратно сложенный инструмент: мотыга, несколько тяпок, лопата и большая деревянная тачка.
Толя Белый вытащил мотыгу и закинул ее себе на плечо, как винтовку.
Мальчишки топтались посреди двора, не зная, что делать дальше. Ночь зашила старый город глухими плотными нитками, и даже выглядывающий из-под черных стежков неровный лоскут восточного неба, казалось, впитывал в себя звенящую, тревожную тишину.
И вдруг среди этой напряженной тишины раздался шорох. Потом – еще. Будто кто-то вздыхал и ворочался совсем близко. В двух шагах…
– Это здесь! – пронзительно зашептал Смирнов и отпрянул назад, выбросив перед собой руку с заточкой.
Ребята застыли на месте, напряженно вслушиваясь и таращась на фанерную дверь маленькой пристройки. Действительно, шорохи доносились из-за неё. Кто-то невидимый и таинственный ходил внутри и тяжело, прерывисто дышал.
– Слышишь? Что это? – спросил Толя, опустив мотыгу на землю и приготовившись дать деру. – Это… это он?