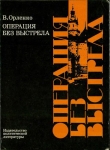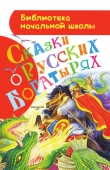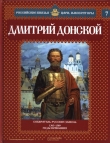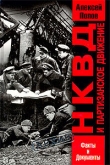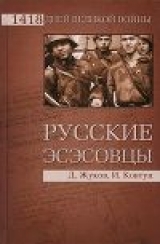
Текст книги "Русские эсэсовцы"
Автор книги: Дмитрий Жуков
Соавторы: Иван Ковтун
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Четвертая глава
Особая группа «К», или полк СС «Варяг»
Еще одной частью, сформированной под эгидой «Цеппелина», стала Особая группа «К», известная также как Особый полк СС «Варяг». Командиром этого формирования стал бывший офицер Российской императорской армии Михаил Александрович Семенов.
Он родился в 1894 году в Петергофе в дворянской семье офицера Русской Императорской армии. После окончания 1-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге Михаил поступил в Императорский Александровский лицей. В 1915 году он поступил в Павловское военное училище и в том же году, получив звание фельдфебеля, был назначен в Егерский полк 1-й гвардейской пехотной дивизии. За отличия в боях Семенов неоднократно награждался, а в июне 1917 года получил первое офицерское звание. После революции он продолжил службу в белой армии на юге России. Участвовал в боевых действиях на территории Таврической, Полтавской и Киевской губерний.
В 1922 году Семенов эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Оставаясь убежденным монархистом, он участвовал в политической жизни русской эмиграции, и, будучи владельцем собственной мебельной фабрики, щедро спонсировал деятельность некоторых организаций.
Германо-югославскую войну 6-17 апреля 1941 года Семенов встретил в Осиеке, под Загребом. Он быстро нашел общий язык с представителями оккупационной администрации, получил статус «фольксдойче» (обнаружив в своем роду германские корни, он смог прибавить к своей фамилии аристократическую приставку «фон» и получить германское подданство) и установил контакт с представителями отдела VI С эсэсовской разведки [426]426
Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова… С. 761.
[Закрыть](персонально, видимо, с В. Курреком).
29 апреля Семенову было поручено создание русского добровольческого батальона под эгидой «Цеппелина» [427]427
HIPO / «Русское дело» (Белград). 1944. 5 марта. С. 4.
[Закрыть]. При этом было объявлено, что подразделение будет задействовано при проведении десантной операции в районе Новороссийска. Семенов получил звание гауптштурмфюрера СС (по некоторым сведениям, он был формально зачислен в 7-ю добровольческую горную дивизию «Принц Евгений» – 7. SS-Freiwilligen-Division «Prinz Eugen» – которая формировалась из воеводинских немцев [428]428
Тимофеев А.Ю. Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945. М., 2010. С. 36.
[Закрыть]) и с помощью русских эмигрантов, офицеров Н.Н. Чухнова, Г.М. Гринева, Э.П. Лаврова, Остермана и других, приступил к пехотной подготовке добровольцев (примерно 400–600 человек). Личный состав был расположен в гвардейских казармах на Баннице в Белграде, а штаб батальона разместился в здании «Палас-отеля» в центе сербской столицы.
Однако подчиненное ему подразделение вместо отправки на Восточный фронт было переформировано в отряд вспомогательной полиции (HIPO, или «хипо»; от «хильфсполицай»). В конце лета эта часть, численностью 600 человек, приступила к несению охранно– караульной службы и операциям против партизан. Подразделения дислоцировались в придунайских городах к востоку от Белграда – в Смедереве и Пожаревце. Позднее из русской молодежи был сформирован отдельный кавалерийский эскадрон, который действовал в придунайских областях Сербии и Баната.
Впрочем, на этом связи Семенова с РСХА и «Цеппелином» не оборвались. Весной 1943 года он был вызван в Берлин, где его принял новый руководитель реферата Z оберштурмбаннфюрер СС Вальтер Куррек (сменил на этой должности X. Грейфе в марте того же года). Последний предложил Семенову непосредственно участвовать в подготовке диверсантов, которых планировалось забросить в советский тыл. В ходе вполне доверительной беседы, по воспоминаниям Николая Чухнова, «Семенов, всегда очень корректный и сдержанный, вдруг неожиданно возбудился и произнес буквально прокурорскую речь, обвиняя Третий рейх и Гитлера во всех их преступлениях… Куррек сказал ему: – Камрад, я вполне согласен с вашими… сентенциями, но будьте осторожны: ведь я по долгу службы должен был бы вас отдать под суд, но я использую вашу речь для своего очередного доклада» [429]429
Цит. по: Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А-А. Власова… С. 764.
[Закрыть]. В конце концов Семенов сформировал в лагере «Цеппелина» Зоннеберг (в районе Эрфурта) две группы парашютистов, одна из которых летом была заброшена на Южный Урал [430]430
Дробязко С.И. Под знаменами врага… С. 143.
[Закрыть].
Осенью 1943 года гауптштурмфюрер СС Семенов приступил к формированию из молодежи русской диаспоры в Югославии и советских военнопленных Особой группы «К» (по имени главы «Цеппелина» В. Куррека), известной также как добровольческий особый полк СС «Варяг» (Freiwilligen SS-Sonderregiment «Warager»). Часть добровольцев была направлена в Германию в сопровождении Семенова для подготовки к разведывательно-диверсионной деятельности на территории СССР. По данным А.В. Окорокова, первая такая группа в составе 36 человек была откомандирована в лагерь Брейтенмарк (Верхняя Силезия). Этому событию посвящена небольшая заметка «НIРО за Родину» (подразделение Семенова, возможно из конспиративных соображений, в прессе продолжало именоваться «хипо»), опубликованная Н. Чухновым в белградской газете «Русское дело» 12 сентября 1943 года:
«Их пятьдесят. С ними их командир капитан Семенов. Двадцать три года ждали они этого дня; двадцать три года таких томительных и долгих с точки зрения продолжительности человеческой жизни и таких мгновенных в исторической перспективе.
Они едут на Родину для дальнейшей борьбы с растлителями Русского народа. Они едут на войну, войну желанную, войну священную.
Я убежден, что многие из них запишут свои имена в скрижали доблести. Я верю, что много подвигов совершат они. Я знаю, что они победят.
Горят тремя национальными цветами нарукавные нашивки. Глаза сияют счастьем. Учащенно бьются Русские сердца под серыми мундирами.
Трогается поезд. Приветливо машут платками их остающиеся друзья и родные.
Прощай, Белград! Прощай навсегда, серая эмигрантская обывательщина!
Впереди – подвиг, победа или славная смерть за Родину, за Русский народ» [431]431
Чухнов Н. HIPO. За Родину / «Русское дело» (Белград). 1943. 12 сентября. С. 4.
[Закрыть].
Зимой 1944 года было закончено формирование I батальона полка (командир – гауптштурмфюрер А. Орлов). Батальон формировался в уже упомянутом лагере «Цеппелина» Брейтенмарк. Впоследствии это подразделение было направлено в Словению для участия в борьбе против титовских партизан. Штаб полка был также вскоре переведен в словенскую столицу Лайбах (Любляну).
К началу лета 1944 года были сформированы II и III батальоны «Варяга» (помимо этого, в составе части находились парашютно– диверсионная команда и минометный взвод; общая численность достигала 1500 человек). Эти подразделения были также задействованы в антипартизанских операциях.
В первой половине того же года газета «Русское дело» разместила на своих полосах еще целый ряд статей и заметок под рубрикой «НIРО», в основном за подписью Н. Чухнова, посвященных части М. Семенова и подготовке добровольцев в германских учебных лагерях. Так, в номере оТ 5 марта 1944 года читатели могли ознакомиться с краткой историей отряда Семенова, причем автор статьи подчеркивал, что германское колядование оказало «гауптштурмфюреру СС М.А. Семенову… бывшему Русскому офицеру… исключительное доверие. Это доверие очень скоро удалось оправдать созданием образцовых частей, которые давно уже несут ответственную и почетную службу по охранению общественного порядка в Сербии, активно участвуя в борьбе против коммунистов». При этом «Семенов полагает, что все те, кто находится, независимо от мундира, в составе частей, ведомых германским военным гением, являются братьями по оружию в борьбе против мирового жидовства, коммунизма и англо-американского капитализма. Чины HIPO служат идее Фюрера и как и где будут служить ей дальше – зависит исключительно от их командования». Далее приводились всевозможные примеры эмигрантского коллаборационизма, причем утверждалось, что «Семенов подошел более близко к цели: он поставил себе задачей не только борьбу с коммунизмом, но и сближение с представителями германского народа». В итоге «Германское командование имеет в настоящее время в своем распоряжении известный кадр уже проверенных и надежных людей, способных выполнить в деле установления нового порядка различные ответственные задачи» [432]432
HIPO / «Русское дело» (Белград). 1944. 5 марта. С. 4.
[Закрыть].
За заслуги в боях с партизанами Семенов неоднократно поощрялся германским командованием. В 1944 году он получил чин оберштурмбаннфюрера СС, был награжден Железным крестом I и II класса, знаками отличия для восточных народов. К этому времени полк Семенова насчитывал уже до 2500 человек, большинство из которых было набрано из числа советских военнопленных. 60 процентов командирских должностей также занимали бывшие советские офицеры [433]433
В это время полк включал 3 батальона трехротного состава, минометную, караульную и разведывательную роты, артбатарею, комендантский взвод, саперный взвод, хозяйственную и медицинскую службы. Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования… С. 55.
[Закрыть].
Качество этого контингента Н. Чухнов охарактеризовал следующим образом: «Надо сказать, что полученное нами пополнение, несмотря на свою более или менее длительную службу в РККА, в строевом отношении было ниже всякой критики; большинство людей не умели даже ходить в ногу или поворачиваться через левое плечо, а об обращении с оружием имели самое смутное понятие. Кажется невероятным, как Сталин мог посылать это войско на фронт. Очевидно, расчет был не на качество, а на количество. Но природные военные свойства русского человека в умелой обработке наших унтерфюреров сказались в полной мере и в кратчайшие сроки мы получили часть, годную не только для боя, но даже для смотра» [434]434
Чухнов Н. HIPO. За Родину / «Русское дело» (Белград). 1944. 20 мая. С. 4.
[Закрыть].
В апреле 1945 года полк «Варяг» был формально передан в состав Зальцбургской группы Вооруженных Сил Комитета освобождения народов России генерал-майора А.В. Туркула, хотя часть оставалась на позициях в Словении. В мае Семенов отдал подразделениям полка приказ перейти словенско-итальянскую границу, после чего часть сдалась британцам.
Пленные военнослужащие «Варяга» были размещены в лагере под Таранто. Семенову удалось добиться гарантий для офицеров из числа эмигрантов, однако он не смог предотвратить репатриацию ста пятидесяти чинов – бывших граждан СССР.
В 1947 году он был освобожден из плена и в дальнейшем проживал в Мюнхене, а с 1950 года – в Бразилии [435]435
М.А. Семенов умер от разрыва сердца в Сан-Паулу 4 февраля 1965 года.
[Закрыть].
Приложение 7
Статья Николая Чухнова о подготовке Особой группы «К» в лагере «Цеппелина» Брейтенмарк (май 1944 года)
Прошло всего три недели со дня прибытия в лагерь группы особого назначения, но искусство и жертвенное горение наших командиров сделало свое. Нам удалось в этот короткий срок без особых усилий сбить прекрасную строевую часть.
Надо сказать, что полученное нами пополнение, несмотря на свою более или менее длительную службу в РККА, в строевом отношении было ниже всякой критики; большинство людей не умели даже ходить в ногу или поворачиваться через левое плечо, а об обращении с оружием имели самое смутное понятие.
Кажется невероятным, как Сталин мог посылать это войско на фронт. Очевидно, расчет был не на качество, а на количество.
Но природные военные свойства русского человека в умелой обработке нашихунтерфюреров сказались в полной мере, и в кратчайшие сроки мы получили часть, годную не только для боя, но даже для смотра.
В один прекрасный день, действительно чудный, погожий, осенний день, в лагерь прибыл капитан с представителями германского начальства, и когда они посмотрели нашу часть и поговорили с нашими «цуг– и обервахтмейстерами Hipo», то судьба нашего формирования сразу же определилась…
Каждый военный с недоверием отнесется к сообщению, что в трехнедельный срок была сделана из сырого материала строевая часть, но оказалось, что достичь такого результата по методу капитана действительно можно.
Секрет заключается в том, что сотрудниками нашего капитана являются люди, понимающие его с полуслова. Капитану удалось благодаря своей удивительной способности проникать в человеческую душу подобрать группу командиров, среди которых нет ни одного инакомыслящего. В нашей группе не существует элементов, разлагающих эмиграцию: интриганства, местничества, тщеславия и зависти. Каждый предан идее и во имя ее работает не ради чинов, а ради общего успеха.
По существу, при теперешнем положении вещей каждый наш фельдфебель – готовый майор, но каждый из них предпочитает быть в группе фельдфебелем.
Затем, наш капитан дал точные инструкции в деле обучения наших солдат, которые заключаются в том, чтобы строевая подготовка не превращалась бы для людей в бессмысленную шагистику, а была бы приятным спортивным удовольствием. Постоянное общение командиров с людьми, совместное чтение, интересные лекции и уроки Русской истории и литературы действительно действуют поразительно облагораживающе.
Режим выработал у подсоветских людей совершенно новые свойства характера и особенности. Так, например, они никогда при разговоре не смотрят в глаза друг другу. Наши солдаты свое начальство уже «едят глазами».
Подсоветский человек странен в беседе даже со своим родным братом. На вопросы он не дает точных ответов, сам спрашивает невпопад и не по существу. Вообще, очень трудно уловить логику советского обмена мыслей.
Оказывается, как мне объяснил мой новый приятель, старший лейтенант X., каждый советский гражданин твердо усвоил, что прежде чем произнести какое-либо слово, он должен быстро в уме оценить, какую пакость может за это слово сделать ему собеседник и, в зависимости от размера этой предполагаемой пакости, он слово или заменяет другим или вообще искажает весь смысл речи.
Конечно, понятно, что при таком условии добиться связанности в разговоре очень трудно. Но наши командиры достигли и этого. Просто они внушили своим подчиненным полное к себе доверие, и страх у людей исчез. Русский человек, вчерашний советский раб, находит свою душу…
См.: Чухнов Н. HIPO. За Родину /«Русское дело» (Белград). 1944. 20 мая. С. 4.
Пятая глава
Русские в составе учебного лагеря СС «Травники»
В связи с судебным процессом над Иваном Демьянюком слово «травники» стало известно не только специалистам, но и широким кругам общественности. Ниже мы обратимся к истории этих специфических формирований СС, в которых служили и русские «борцы с евреями и большевизмом».
Следует сказать, что в конце июля 1941 года фюрер СС и полиции дистрикта «Люблин», бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Одило Глобочник обратился к Гиммлеру с прошением о выделении ему непольской вспомогательной силы из бывших приграничных районов Советского Союза, поскольку местное население уже не могло удовлетворить экономические потребности СС [436]436
Browning R. Ch. Ordinary man. Reserve Police Battailon 101 and the Final Solution in Poland. London, 2001. P. 52.
[Закрыть].
Получив 17 июля 1941 года должность «уполномоченного по созданию опорных пунктов СС и полиции в новых восточных областях», Глобочник должен был приложить максимум усилий, чтобы подготовить необходимые условия для больших поселений немецких колонистов, размещения здесь немецких военных строителей, гражданских специалистов по сельскому хозяйству и тяжелой промышленности. Глобочник, кроме того, отвечал за то, чтобы город Люблин и район «Замосць» образовали своеобразный пояс вокруг будущих немецких поселений в Польше, путем возведения положенной инфраструктуры соединились с такими же «опорными пунктами», как в Прибалтике и в Зибенбюргене. Все польское население, проживавшее на территории дистрикта «Люблин», подлежало постепенному переселению далее на восток. Наконец, проведение столь масштабных мероприятий включало в себя решение «еврейского вопроса» [437]437
Блэк П. Одило Глобочник – форпост Гиммлера на Востоке / Тайны «Черного ордена SS». М., 2006. С. 196–198.
[Закрыть].
На первом этапе в обязанности Глобочника входило накопление достаточных трудовых резервов и организация безопасности в округе, исключение какой бы то ни было возможности организованного сопротивления со стороны польских партизан и евреев. На предварительном этапе акции по ликвидации еврейского населения Глобочник приказал создать специальный лагерь для подготовки кадров, предназначенных для этих операций, а также для охраны принудительно-трудовых и концентрационных лагерей. Для этого в 40 км юго-восточнее Люблина, в местечке Травники, на территории сахарного завода было решено открыть учебный лагерь (SS-Ausbildungslager Trawniki) [438]438
Семенов К.К. Дивизии войск СС. История организации, структура, боевое применение. М., 2007. С. 17.
[Закрыть]. Обязанности по его созданию и подбору контингента Глобочник возложил на двух офицеров СС – штурмбаннфюреров Германа Хофле и Карла Штрайбеля. Первый взял на себя вопросы материально-технического обеспечения лагеря, параллельно создавая в Люблине бюро по координации действий в решении «еврейской проблемы». Второй занимался вербовкой и отбором граждан, которым предстояло выполнять охранные и карательные функции.
В августе – сентябре 1941 года штурмбаннфюрер СС Карл Штрайбель колесил по западным областям оккупированной территории СССР. Внимание Штрайбеля привлекли большие стационарные лагеря военнопленных – «шталаги», где он подыскивал нужные кадры. Помимо украинцев, поляков и прибалтов в число будущих травниковцев попали и русские военнопленные.
Советские военнопленные, согласившиеся с предложением Штрайбеля, проходили собеседование, в ходе которого выяснялось их отношение к коммунистам и евреям. Несомненно, причины, толкавшие военнопленных на сотрудничество с немцами, были разными, начиная от обычного желания выжить, не умереть с голоду, и заканчивая возможностью получить определенные выгоды. Присутствовал и специфический «мотив мести»…
Первая группа военнопленных прибыла в Травники в октябре 1941 года. До конца декабря в лагерь было переведено около 1000 человек. Преимущественно они происходили из сельской местности, у большинства было простое школьное образование, многие до войны работали плотниками, водителями, механиками, электриками и поварами. Некоторые из них были призваны в РККА накануне войны. Все они проходили медицинскую комиссию, затем подписывали свидетельство, что не имеют еврейских предков и не состоят в коммунистической партии. В конце анкетирования они расписывались под заявлением со следующими словами: «Мы, военные заключенные, вступаем в германские отряды СС для защиты интересов Великой Германии».
После медосмотра и заполнения анкет военнопленных отправляли на вещевой склад, где им выдавали форму. В большинстве случаев это была униформа черного цвета образца 1932 года, установленная для ношения в подразделениях «общих СС» (Allgemeine-SS). Из-за этого польские евреи, привезенные на принудительные работы в лагерь, называли травниковцев «чернокожими» или «тараканами» [439]439
Schelvis J. Sobibor: a history of a Nazi death camp. Oxford – New-York, 2007. P. 34.
[Закрыть]. Кроме черной формы иногда выдавалась и полевая униформа армейского образца (цвет «фельдграу»), принятая в вермахте и в Войсках СС. По словам бывшего «травника» Николая Малагона, «сначала мы носили нашу собственную одежду, потом нам дали бельгийскую форму, позже нам всем выдали специальную униформу: черный костюм – брюки и китель, черное пальто с серым воротником и манжетами, и черные пилотки. Мы также получили кокарды с черепом и перекрещенными костями».
При исполнении оперативно-служебных задач травниковцы получали оружие – трофейные советские винтовки. Боеприпасы выдавались в ограниченном количестве. В последующем, в зависимости от места службы, травниковцев вооружали пистолетами и кнутами.
Учебный процесс в Травниках был организован на основе программы подготовки, принятой в частях СС «Мертвая голова», откуда приезжали опытные специалисты из самых известных концлагерей Германии (Дахау, Бухенвальда, Заксенхаузена и т. д.). Эти инструкторы добивались того, чтобы травниковцы стали людьми, которые действуют с безоговорочной преданностью и повинуются любому приказу. За относительно короткий срок они сумели подготовить сотни фанатичных охранников. Полугодичный курс обучения включал в себя, помимо огневой, строевой и физической подготовки, отработку различных приемов по конвоированию и охране заключенных, проведению облав [440]440
Залесский К. СС… С. 508.
[Закрыть].
Весь личный состав учебного лагеря был распределен на два батальона. Командовали батальонами унтерштурмфюрер СС Вилли Франц и оберштурмфюрер СС Иоганн Шварценбахер. В каждом батальоне был штаб, от 5 до 8 рот, в каждой роте было по три взвода, во взводе – три отделения по 8-12 человек [441]441
Кудряшов С. Травники. История одного предательства / «Родина» (Москва). 2007. № 12. С. 95.
[Закрыть]. Штрайбель, следивший за тем, как идет подготовка, ввел для учащихся четыре специальных звания:
– вахманн (Wachmann – охранник);
– обервахманн (Oberwachmann – старший охранник);
– группенвахманн (Gruppenwachmann – командир отделения охранников);
– цугвахманн (Zugwachmann – командир взвода охранников)
На командные должности немцы стремились назначать «фольскдойче». Некоторым русским и украинцам иногда присваивали звания старших охранников. Командирами взводов становились преимущественно граждане немецкого происхождения.
С октября 1941 по май 1944 года, когда лагерь Травники прекратил свое существование, в нем было подготовлено около 5082 охранников [442]442
Кудряшов С. Указ. соч. С. 96.
[Закрыть]. Кроме русских и украинцев, здесь обучались караульному делу литовские, латвийские, эстонские, польские, болгарские, словацкие, хорватские и, по некоторым данным, «туркестанские» добровольцы.
Качество отбора значительно снизилось весной 1942 года, в результате в лагерь попало немало пленных, пошедших на сотрудничество с эсэсовцами только потому, чтобы не умереть голодной смертью, и надеявшихся при первой возможности бежать к партизанам. Но, как показали дальнейшие события, осуществить эти планы удалось только единицам. Исследователь С. Кудряшов утверждает, что за время войны из числа травников дезертировало 469 человек, или около 9 процентов [443]443
Там же. С. 97.
[Закрыть]. Эта цифра сильно завышена. Жесткий распорядок, режимные объекты, где травники несли службу, почти исключали возможность дезертирства и самовольных отлучек. Если кому-то из охранников все-таки удавалось дезертировать, то далеко он не уходил. По всей вероятности, число дезертиров не превышает 100 человек [444]444
Pohl D. Die Trawniki-Manner… S. 286–287.
[Закрыть].
Таким образом, к моменту проведения широкомасштабных мероприятий СС в Польше немецкий персонал и личный состав лагеря Травники был готов к выполнению оперативно-служебных задач.
К началу 1942 года в различных гетто на территории бывшей Польши было отобрано 2 284 000 человек, и руководство СС приняло решение о постепенной концентрации этих евреев в специальных лагерях. Одило Глобочник получил приказ Гиммлера организовать несколько таких лагерей. В помощь ему был направлен комиссар криминальной полиции Штутгарта гауптштурмфюрер СС Кристиан Вирт [445]445
Кнопп Г. Холокост. Неизвестные страницы истории. Харьков, 2007. С. 104.
[Закрыть]. Вместе с ним из Рейха прибыли три зондеркоманды (около 450 человек, набранных из охранных полков СС «Мертвая голова» [446]446
Benz W. Der Holocaust / Wolfgang Benz. Orig.-Ausg. 5. Aufl. Munchen, 2001. S. 109.
[Закрыть]). Глобочник, выслушав доклад Вирта о подготовке операции «Рейнгард» (Einsatz Reinhard), приказал ему связаться со Штрайбелем, чтобы подключить личный состав из Травников к строительству и охране концлагерей. Всего предполагалось построить три лагеря.
В начале ноября 1941 года началось строительство концентрационного лагеря недалеко от деревни Бельзец, рядом с железнодорожной веткой Люблин – Лемберг. Примерно через две недели сюда прибыла первая команда из Травников. В ее задачу входило вырубать лес и подготовить маскировку лагеря. Через неделю команду сменили польские строители, которых отпустили на отдых незадолго перед Рождеством. В январе 1942 года основные работы были в целом закончены, хотя еще оставалось оборудовать административную территорию лагеря, где размещались комендант, его аппарат, казармы для охранников [447]447
Pohl D. Die Trawniki-Manner… S. 280.
[Закрыть].
Вторым лагерем был Собибор. Его решили расположить неподалеку от железной дороги, соединявшей Влодаву и Хелм. Строительство Собибора прошло быстро: в феврале 1942 года появились первые бараки, а уже в апреле концлагерь открыл свои двери. Третьим концлагерем, созданным в рамках операции «Рейнгард», была Треблинка (примерно в 80 км на северо-восток от Варшавы) [448]448
Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей: лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний. М., 2003. С. 345.
[Закрыть].
Для обеспечения охраны концлагерей из Травников выделялись команды. В Бельзец, в распоряжение Вирта, отправили 100 охранников, в Собибор, под начало Штангля, – 120 человек, в Треблинку – вначале 20, затем 90 вахманнов. Команды через некоторое время заменялись. Например, в течение 1942 года в Бельзец регулярно направлялись подразделения по 60–80 человек. В общей сложности к лагерю было прикомандировано 200–250 травников. Они работали на кухне, наблюдали за поведением евреев со смотровых вышек, занимались охраной внешнего и внутреннего периметра лагеря, патрулировали наружный участок железной дороги. В обязанности травников также входила охрана и конвоирование «лесных команд» (Waldkommando), заготавливавших дрова.
В то же время не всем травникам нравилось выполнять «особые задания». Эти охранники стремились перевестись на должности, которые меньше всего связаны с выполнением карательных функций. Некоторые из них, не видя выхода, планировали бежать. Но, как уже говорилось, это удавалось сделать немногим. К примеру, на Рождество 1943 года из Собибора бежали пятеро заключенных и два украинских вахманна. Польский крестьянин одной из деревень донес, куда они скрылись, и в ходе погони двое охранников и один заключенный были убиты, а остальные были схвачены.
В секретном отчете, составленном, видимо, в конце декабря 1942 года на имя высшего фюрера СС и полиции на Востоке обер– группенфюрера СС Фридриха Вильгельма Крюгера, говорилось, что в Бельзеце, Собиборе и Треблинке было ликвидировано 1 236 672 человека [449]449
Witte Р, Ту as S. A New Document on the Deportation and Murder of Jews during «Einsatz Reinhardt» 1942 / Holocaust and Genocide Studies. Oxford. 2001, Vol. 15, № 3. P. 470.
[Закрыть]. Ученые до сих пор спорят, сколько евреев было убито в этих трех лагерях. Цифры называются самые разные: в Бельзеце от 435 000 до 600 000 [450]450
Pohl D. Die Trawniki-Manner… S. 278.
[Закрыть], в Собиборе от 200 000 до 250 000 [451]451
Benz W. Der Holocaust… S. 111.
[Закрыть], в Треблинке – от 750 000 до 875 000 [452]452
Котек Ж., Ригуло П. Указ. соч. С. 357. Цифра 875 000 евреев, убитых в Треблинке, впервые «появилась» на процессе бывшего травниковца Ивана Демьянюка в Израиле.
[Закрыть].
Заметим, что представители ревизионистского направления считают Бельзец, Собибор и Треблинку трудовыми лагерями, где смертность евреев была вызвана не самыми лучшими санитарными условиями, нуждой и болезнями, лишениями военного времени и т. д. Эти исследователи называют гораздо меньшее количество еврейских жертв, полагая, что германские оккупационные органы в Польше не могли физически ликвидировать несколько миллионов человек. Дискуссии по этой проблеме между представителями разных направлений современной историографии принимают порой чересчур острый характер.
В депортациях участвовали и травниковцы. Они действовали вместе со 101-м резервным полицейским батальоном. До конца сентября 1942 года эта часть 8 раз привлекалась для карательных операций. В трех из них – депортация евреев из Парчева и Медзыржеца и расстрел в Ломзи – сотрудники полиции «работали» бок о бок с 50 травниковцами. При этом расстрел в Ломзи проводили в основном немецкие полицейские, а вахманны стояли в оцеплении [453]453
Browning R. Ch. Ordinary man… P. 80, 104.
[Закрыть].
Личный состав учебного лагеря Травники также использовался для охраны польских тюрем (например, тюрьмы г. Кельцы, где находились в заключении советские женщины-военнопленные, в гетто Радома, Кракова, Белостока и Ченстохове), а также трудовых лагерей на оккупированной территории СССР, в первую очередь, в Восточной Галиции. Самым крупным из них был лагерь, расположенный на окраине Львова, на улице Яновской. Именно сюда в июне 1942 года прибыла первая команда из Травников. Ее возглавлял польский «фольксдойче» – унтершарфюрер СС Рихард Рокита [454]454
Pohl D. Nazionalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944: Organisation und Durchfuhrung eines staatlichen Massenverbrechens. Munchen, 1997. S. 202.
[Закрыть].
В последующем вахманны, служившие в Яновском лагере, направлялись в Бельзец, Собибор и Треблинку. В самом лагере в 1942–1943 годах произошла серия удачных побегов, что можно объяснить не самой строгой охраной. Так, под руководством охранника И. Хабарова к советским партизанам перешла группа травников (И. Волошин, П. Бровцев, М. Коржиков и Н. Леонтьев), захватившая с собой винтовки, автоматы, гранаты и два пулемета. Все они сражались в составе партизанских отрядов, были даже награждены орденами и медалями, а после войны оказались в советских лагерях. В середине 1950-х годов их реабилитировали [455]455
Токарев М. В замкнутом круге / Неотвратимое возмездие: по материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок. М., 1984. С. 150.
[Закрыть].
Со второй половины 1942 года в округах Генерал-губернаторства произошла активизация польского и еврейского сопротивления. Одним из главных центров, где собирались антинемецкие силы, являлась Варшава. Внутри здешнего гетто были созданы боевая еврейская организация (БЕО), еврейский народный комитет (ЕНК; Zydowski Komitet Narodowy) и еврейский военный союз (ЕВС). Несмотря на идеологические разногласия, они начали подготовку к вооруженной борьбе, стали искать тесных контактов с Армией Крайовой. Параллельно с этим в варшавское гетто тайным путем, через канализацию и подземные ходы, доставлялось оружие (винтовки, пулеметы) и взрывчатка (динамит). В скором времени евреи были распределены на боевые группы, которые начали постоянно нападать на германских офицеров и солдат, сотрудников немецкой полиции и членов польской службы порядка. Уже в 1942 году были организованы налеты на бюро по еврейским вопросам и сожжено несколько заводов и складских помещений, находившихся на окраинах города. Варшавское гестапо пыталось выявить инициаторов этих нападений, но так и не нашло их. Зачистки отдельных районов гетто несколько снизили напряженность, но не привели к захвату руководителей еврейских боевых организаций и их самых активных участников [456]456
Марк Б. Восстание в Варшавском гетто / Черная книга: О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. Вильнюс, 1993. С. 469–471.
[Закрыть].
К апрелю 1943 года обстановка в Варшаве накалилась и стала выходить из-под контроля. Ежедневные нападения на полицейских, поджоги, акты саботажа, забастовки в польской части города усилили желание СС и полиции покончить с гетто. Специальные мероприятия по ликвидации гетто было решено начать накануне еврейского Песаха, 19 апреля. В Варшаве ужесточили пропускной режим, были введены немецкие части полиции и СС (2000 военнослужащих войск СС, 234 сотрудника охранной полиции). В «арийской части» города по тревоге было поднято около 7000 полицейских и эсэсовцев, а в самом округе «Варшава» было приведено в состояние боевой готовности до 15 000 человек. Для подавления еврейского восстания, по распоряжению Глобочника, было также привлечено несколько подразделений из лагеря Травники (по одним сведениям – 200, по другим – 337 вахманнов). Высший фюрер СС и полиции обергруппенфюрер СС и генерал-полковник полиции Фридрих Вильгельм Крюгер поручил командовать операцией срочно вызванному из Лемберга бригадефюреру СС и генерал-майору полиции Юргену Штропу.
Вечером 18 апреля гетто было блокировано польской полицией. В два часа ночи 19 апреля группы блокирования были усилены патрулями немецкой полиции и травниковцами. Утром батальон полиции (850 человек) вступил в северо-восточную часть гетто с целью ликвидации боевиков и захвата скрывавшихся евреев. В авангарде шли травниковцы, гнавшие перед собой членов еврейской полиции. За оказание помощи восставшим и за попытку к бегству этих евреев расстреляли возле здания юденрата. После этого в гетто вошли легкие танки и бронеавтомобили. Через громкоговорители немцы призвали евреев добровольно выйти из укрытий и сдать оружие. Однако боевики из БЕО и ЕВС открыли огонь.
Евреи оказали ожесточенное сопротивление. Из окон домов, с чердаков и крыш на полицейских и эсэсовцев посыпался град пуль. На улицу полетели гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Боевики пытались отрезать травниковцев и полицейских от основных сил. По словам некоторых очевидцев тех событий, евреям удалось завлечь эсэсовцев в ловушку между домами, окружить и уничтожить три роты, взять в плен около 300 полицейских и вахманнов [457]457
Там же. С. 473.
[Закрыть]. Однако эти цифры, насколько видно из отчетов, составленных Штропом, сильно преувеличены. В ходе первого боя его люди потеряли 12 человек (6 немецких солдат СС и 6 травников).