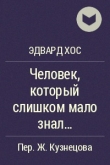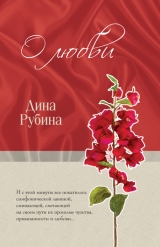
Текст книги "Высокая вода венецианцев"
Автор книги: Дина Рубина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Антоша явился только назавтра к вечеру. Как ни в чем не бывало – привычно раздерганный, упрямый и готовый опять немедленно куда-то умчаться.
А Рита старела в одиночестве, вызванивала их, умоляла приехать... Потом пришла эта беда с Антошей, и он несколько раз таки являлся к Рите ночным из Ленинграда – требовать денег. И под конец обобрал ее до нитки...
Да. Жалко, что Рита не умерла раньше, счастливой, не дождавшись Антошиной гибели.
(И вспоминается-то все такое больное: на ее свадьбе (на которую Антоша не приехал) подвыпившая старенькая Рита, через стол наклонившись к осоловелому жениху, сказала заговорщицки: – Ну что, рыбак, выходил, высидел, подстерег и... подсек, а? Вы-итащил рыбку золотую...)
Вот так оно было всегда: брат – это каникулы, легкость, вздор, обиды, шальные шатания, бранные словеса, крепкие напитки, сигареты, милый сердцу художественный сброд.
Миша: занятия, долг, его благоговейная обреченная любовь, а позже – дом и дочь. И наконец, ее – к нему – благодарное и молчаливое чувство, которое давно уже тоже не что иное, как любовь. Она самая, она самая...
На Сан-Марко какие-то люди споро расставляли мостки, выстраивая дорожку от входа в Собор, вдоль Старых прокураций – в переулки... И это казалось странным, потому что дождь уже перестал, хотя туман сгустился. Ничего, кроме крошечных фонтанчиков, постреливающих из канализационных люков, не указывало на возможное наводнение...
Она достала из кармана карту, выслеживая улочки, по которым можно дойти до гетто, вспоминая, как вчера наклонялся над картой Антонио, почти касаясь ее щеки своей, сутки небритой щекой... Значит, дежурит он завтра, с утра и... до утра, конечно...
Она поднялась на мостик и узкой извилистой Калле дель Форно вышла на людную площадь, всю заставленную деревянными рядами с навесами.
Это был утренний блошиный рынок.
Старинные лампы, кошельки, камеи, ножи и вилки, старое тускловатое венецианское стекло, по большей части темно-красное или синее, пенсне в футляре, наволочка на подушку из старинных грязных и прелестных кружев... прибой времени выбросил все это на площадь, как волна выбрасывает на берег водоросли, ракушки и прочий морской сор... И часа полтора она провела под навесами, переходя от прилавка к прилавку, подолгу застревая возле какой-нибудь стеклянной статуэтки или старинных часов, или зеркала, почти разъеденного проказой времени.
Вообще, это была веселая площадь с лавочками и мастерскими, торгующими венецианским стеклом.
Даже в этот зябкий осенний день вазы, цветы, причудливые рыбы и животные переливались под электрическим светом витрин и горели жарко, как высокий витраж в соборе, в полдень... Будто вода божественной лагуны была разобрана на мельчайшие оттенки.
"В этом доме жил композитор Рихард Вагнер"... – прочла она доску на одном из домов на площади. В этом доме жил композитор Вагнер, подумала она, и правильно делал.
Опять зарядил дождь. Со стороны Сан-Марко торговцы торопливо везли тележки с нераспроданным товаром. Один такой быстро катил свой лоток с наваленными горкой цветными колпаками, платками и дешевыми масками – бежал внаклон, как бы догоняя свою тележку, одновременно пытаясь укрыть голову под ее полосатым навесом...
...В гетто, на площади Джетто Нуово она отыскала мемориальную доску с именами своих погибших соплеменников.
И сразу заплакала.
Человек, чуждый всякому сантименту, она всегда легко и сладостно плакала над судьбой своего народа. Привыкла к этому своему – как считала – генному рефлексу, всегда ощущала упрямую принадлежность, смиренно несла в себе признаки рода и, со свойственной ее народу мнительностью, внимательно вслушивалась в себя, в ревнивый ток неугасимой крови... Сейчас же плакала легко и вдохновенно потому еще, что наткнулась на свою фамилию, достаточно, впрочем, распространенную, в правильном, первоначальном ее написании – Лурия. Франческо Фульвио Лурия, неизвестная, обрубленная веточка разветвленного по странам могучего древнего клана... Наверняка родственник, у них в роду тоже тянулась ниточка имени Вульф. И их с Антошей дед, известный нейрохирург, тот самый, что после смерти молодой жены взял в дом простую русскую женщину, Риту, – и он носил имя Вульф... И если б у тебя был сын... Господи, что ж тут плакать, когда все-все скоро станет понятно, когда совсем скоро ты станешь для всех них своей...
Площадь – даже посреди этой тотальной венецианской обшарпанности выглядела особенно убогой, запущенной и, несмотря на развешанное кое-где под окнами белье, – брошенной людьми... На первом этаже одного из домов она увидела вывеску пиццерии и подошла поближе.
На дверях прикноплен лист бумаги, на котором крупными буквами написано на иврите: "Мы рады тебя обслуживать до тех пор, пока ты уважаешь нас, это место и наши законы..."
На порог вышел молодой человек в черной кипе, оглядел ее, пригласительно махнул рукой: "Прего, синьора!"
Она сказала на иврите:
– Да пошел ты!.. Значит, если за свои деньги я захочу съесть твою вчерашнюю пиццу, то я обязана уважить тебя, твою паршивую забегаловку и всю твою родню по матери!
Он выслушал все это, восторженно приоткрыв губы, – вероятно, ее иврит был гораздо лучше, чем его, – и, таращась в ее, не просохшие от слез глаза, спросил:
– Синьора, ты откуда?
Она пошла прочь, сказала, не оборачиваясь:
– Оттуда. Из самого оттуда...
Где-то неподалеку, очевидно, чистили канал – сюда доносилась вонь застоявшейся воды, перегнивших водорослей и нечистот...
Дождь сегодня рано пригнал ее в отель. По пути она зашла в какую-то закусочную, купила жареного картофеля, булку, граммов двести крупных черных маслин и бутылочку граппы – согреться. Кроссовки основательно промокли, хоть бы высохли до утра на батарее...
На Калле дель Анжело вода уже доходила ей до щиколоток. Прыгая с крыльца одной лавки на крыльцо другой, она, наконец, добралась до своего отеля.
– Синьора совсем не отдыхает, – заметил пожилой портье, отдавая ей ключ.
– А зачем мне отдыхать? – удивилась она.
– Я слышал, как утром синьора кашляла. В такую погоду легко разболеться...
– Ничего, – сказала она, – у меня есть лекарство. – И показала ему бутылку граппы.
И стала подниматься по лестнице, оставляя мокрые следы от кроссовок на драной бордовой дорожке.
Портье сказал ей вслед:
– На Сан-Марко пришла аква альта и, похоже, продержится до завтра!
У себя в номере она налила в стакан немного граппы, выпила залпом, неторопливо переоделась в сухое и, приоткрыв окно, стала ждать ежевечернего колокольного перезвона...
И все-таки первый удар опять застиг ее врасплох – этот вопросительный протяжный стон, высокая долгая нота, истаивающая вверху, в низком сером небе. Опять заговорили жалобно, перебивая друг друга, колокола соседних церквей, им отвечал с Сан-Марко ровный гуд, на фоне которого всплескивали верхние колокола.
...Неотвязная прошлая вина, столь ощутимая в последние два дня, смутная, связанная с гибелью брата, опять сжала сердце. Она хотела объяснить кому-то безжалостному и безграмотному, как переводчик путеводителя, кто привел сюда и кружил ее по этим улицам и каналам, и терзал, и насылал призраков... хотела все объяснить, но сникла, ослабела и только прошептала одними губами:
– Антоша, Антоша, братик, пропащая душа, скоро увидимся...
И длился, длился разговор колоколов, раскачивалась невидимая сеть, опутывая шпили, крыши, купола, каналы...
Зачем, опять смятенно спросила она себя, зачем ее приволокли сюда, мучая этим ускользающим счастьем, и на какой вопрос пытают ответ, и что ж она может знать – до срока?
За эти несколько минут изматывающего, окликающего ее зова колоколов она все поняла:
Этот город, с душой мужественной и женской, был так же обречен, как и она, а разница в сроках – семь месяцев или семьдесят лет – ... такая чепуха для бездушного безграничного времени! И это предощущение нашей общей гибели, общей судьбы – вот, что носится здесь над водой каналов.
Величие Венеции с ее вырастающими из воды прекрасными обшарпанными дворцами, с ее безумными художниками, с этим ее Тинторетто, готовым расписать небо... ее зыбкость, прекрасная обветшалость, погрузившиеся в воду, скользкие и зеленые от водорослей нижние ступени лестниц, ее бесчисленные мосты... И блеск, и радость единственной в мире площади, и лиловый шлейф ее фонарей, и узкие, как турецкие туфли, гондолы, и фанфары старинных печных труб... – все обречено, твердила она себе, обречено, обречено...
И опять, как в первые минуты, ее настиг соблазн – ступить: с причала, с набережной, с подоконника – уйти бесшумно и глубоко в воды лагуны, опуститься на дно, слиться с этим обреченным, как сама она, городом, побрататься с Венецией смертью...
Но вот бой колоколов затих, и в наступившем плеске тишины послышался уже привычный ей крик гондольера: О-и-и! – и выплыла музыка, веселая растяжка аккордеона... Значит, кто-то из безумных туристов, несмотря на дождь, нанял гондолу...
Она плеснула в стакан еще немного граппы, выпила, зажевала черной маслиной и подумала, что завтра увидит, наверное, настоящее наводнение на Сан-Марко.
– Ну что ж, – сказала она, неизвестно к кому обращаясь, – следующим номером вашей программы – "Высокая вода венецианцев". Посмотрим и это, господа-бляди-угодники... Посмотрим и это...
Утром она опять с пристрастным интересом наблюдала, как в сизом дырявом пару тумана катер-мусорка объезжал подъезды, рабочий в дождевике выбрасывал из подъездов в катер мешки с гремящим содержимым, потом появились ремонтные рабочие и повторилась вчерашняя утомительно-кропотливая разгрузка-погрузка.
Навалившись на подоконник, она разговаривала с ними вслух.
– Куда ж ты полез! – восклицала она. – Там доска на соплях держится!
И сердилась, и радовалась, когда в конце концов они все преодолели – все ящики, мешки и доски были внесены, порожняя тара вынесена, погружена в катер, и бригада споро оттарахтела дальше по каналу...
И все время, пока наблюдала рабочую, рассветную жизнь этого уголка Венеции, пока стояла под горячим душем, пока расчесывалась, пока одевалась, она старалась угадать, заступил ли на дежурство Антонио.
Но позже, когда, спустившись в холл, вдруг увидела его в узком коридоре, соединяющем холл гостиницы с рестораном (он о чем-то оживленно спорил с одним из официантов, но, увидев ее, радостно встрепенулся и (показалось?), нетерпеливо кивнув собеседнику, одновременно сделал движение к ней навстречу), она резко толкнула входную дверь и вышла на улицу...
И пока шла по мосткам в сторону Сан-Марко, задыхалась, зло щурилась и обзывала себя немыслимыми, непроизносимо грубыми словами.
Как видно, в этот раз вода поднялась особенно высоко, она заплескивалась даже на деревянные мостки, выстроенные по периметру площади. С высоты колокольни эти мостки, должно быть, напоминали застывшую муравьиную дорожку, бегущую из переулков, огибающую площадь и уводящую в арки собора.
Вся же огромная площадь была залита мутной, подернутой рябью, водой, и это было страшно – как будто уже пришла беда, окончательная, бесповоротная, и вот лагуна заглатывает навеки, пожирает свое бесценное дитя...
Не слишком многочисленные туристы прыгали по мосткам, как воробьи. Закрыв ставни, нахохлившаяся Венеция ежилась под ударами ветра, рассыпающего мелкий холодный дождь, как пригоршни голубиного корма.
Ей вдруг захотелось вернуться в отель, в тепло, увидеть мучительно родное лицо давно умершего брата, встретиться глазами с метким оценивающим взглядом уличной шпаны...
И – что? – спросила она себя жестко, – что потом?
И, чтобы заставить себя опомниться, пошла по направлению к мосту Академии, потом в сторону вокзала и долго бродила как можно дальше от площади, от своего отеля, от могучего образа всеохватного наводнения, погружения, исчезновения города в водах лагуны.
Так, на одной из улочек в Санта-Кроче она наткнулась на витрину магазина масок и карнавальных костюмов. От подобных лавочек эта отличалась тем, что в ней за столом сидел молодой человек, художник, и расписывал готовые белые маски – керамические или из папье-маше. Очевидно, это была его мастерская.
В конце концов, надо же привезти домой хоть какой-то знак моего пребывания здесь, подумала она и вошла в магазин.
Он был просторнее, изысканнее остальных. Кроме уже готовых – повсюду висящих, разложенных на полках и столах – масок, в витрине красовались на безголовых манекенах несколько роскошных костюмов – атласно-кружевных, отделанных парчой и бархатом. Мужские шляпы с плюмажами, дамские шляпки с вуалями и павлиньими перьями, веера, "золотые" высокие гребни с цветными стеклышками, перчатки, трости и сапоги со шпорами... – по-видимому, это был процветающий магазин. И, судя по ценам, перворазрядный.
Художник отложил кисточку, которой раскрашивал наполовину готовую маску с красным клювом, поднялся и, улыбаясь, предложил услуги.
Она выбрала несколько женских масок и стала примерять их перед большим овальным зеркалом в массивной виньеточной раме. Это были бесстрастно улыбающиеся женские лики. У одной надо лбом поднимался веер из голубых перьев. У другой – золотая тесьма выложена змейкой на лбу и вдоль левой щеки, третья разделена вертикальной полосой – лунная и солнечная половины...
Она надевала и снимала эти лики, подолгу всматриваясь в странно оживающее отражение в зеркале, и думала о том, что образ маски цельнее и мощнее образа лица: грозное обобщенное воплощение родовых признаков человеческого облика, когда отсечены все проявления, все знаки жизни, остались только символы: проломы глазниц, скальный хребет носа, окаменелая возвышенность лба, гранитная неподвижность скул и подбородка. Устрашающий тотем веселья...
Венецианская маска, думала она, притягивает и отталкивает своей неподвижностью, фатальной окаменелостью черт. Как бы человек, но не человек, символ человека. Пугающая таинственность неестественной улыбки, застылое удивление. Иллюзия чувств. Иллюзия праздника. Иллюзия счастья.
– Синьоре очень идут все маски, – сказал мягко по-английски художник. Трудно выбрать, я понимаю... Примерьте-ка эту.
Он снял со стены незаметную вначале, с загадочной улыбкой, маску совершенно естественного цвета. Ни рисунка, ни тесьмы, ни цветных стеклышек...
– Какая-то... скучная, нет? – с сомнением спросила она, между тем зачарованно следя за его вкрадчивыми приглашающими руками истинного венецианца и на плывущую к ней, парящую в его руках и одного с руками цвета маску.
– О, не торопитесь, синьора. Тут есть секрет. Примерьте, и вы будете поражены сходством...
– Сходством... с кем? – спросила она недоуменно.
– С вами! – воскликнул он торжествующе. – Эта маска приобретает сходство с лицом любой женщины, которая ее надевает.
Он протянул ей мастерски сработанную из папье-маше застылую улыбку, помог завязать ленточки своими ловкими пальцами, метнулся куда-то в сторону и вдруг набросил ей на плечи темно-синий бархатный плащ...
...Да, это было ее лицо: строение носа, надбровных дуг, скул и подбородка художник скрупулезно воссоздал в маске, даже улыбка – чуть насмешливая принадлежала именно ей, это была ее жесткая – для посторонних – улыбка. Как это ни дико, самыми чужими казались ее собственные, в провалах маски, глаза они глядели потерянно, загнанно, как из темницы. И волосы, неестественно приподнятые маской надо лбом, выглядели, как впопыхах нахлобученный на темя парик.
И анонимный, до пят, бархатный плащ, скрывающий руки и всю фигуру, и анонимная маска прекрасно были приспособлены для карнавала – праздника прятки, праздника исчезновения.
Не двигаясь, она смотрела в зеркало – туда, где на ее месте стояло чужое, поглотившее ее, нечто, аноним... ничто... Она изчезла, ее не было.
Как – меня у ж е нет?!!
О, какой ужас сотряс все ее тело! Она задохнулась в душной личине небытия, закашлялась и, захлебываясь горловыми хрипами, стала срывать страшную маску с лица. Испуганный продавец пришел ей на помощь, и, что-то бормоча под его недоумевающим взглядом, она выбежала из магазина.
И долго сердце ее колотилось...
Бежать, думала она, бежать из этого города, с его призраками, с высокой водой, способной поглотить все своей темной утробой, с его подновленными, но погибающими дворцами, с их треснувшими ребрами, стянутыми корсетом железных скоб... Бежать из этого обреченного города, свою связь с которым она чувствует почти физически.
Она стояла на мостике, навалившись на перила, бурно дыша туманным сырым воздухом, не надевая капюшона, предоставив потокам живого дождя свое живое лицо и растрепавшиеся после примерки множества мертвых личин медно-каштановые, дышащие пряди волос.
...В течение дня она несколько раз еще возвращалась на Сан-Марко, смотрела, как убывает "аква альта", как три подростка, громко перекрикиваясь по-французски, бродят по колено в воде...
На закате дождь иссяк, вода ушла, мостки были мгновенно разобраны, с крыш, портиков, колонн на омытую водой площадь слетелись голуби...
Она забрела в дорогой бар, в арках Старых прокураций, и долго тянула наперсточек кофе за немыслимую цену... Смотрела в огромное окно на божественный Собор, этот сгусток италийского гения.
Несмотря на близкие сумерки, воздух посветлел. Фата-Моргана, укутанная в холодный пар лиловых фонарей, медлила на переходе к ночи...
И так же как с площади ушла вода лагуны, смятение и страх, весь день гнавшие ее по хлипким мосткам с одной улочки на другую, ушли, оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души. И вспоминая застылую улыбку напугавшей ее маски, она думала – а может быть, эта, длящаяся в веках эмоция и есть – победа над забвением?..
...Щенок подстерег ее на Калле Каноника, на ступенях одной, уже запертой к ночи сувенирной лавочки. Ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение: всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов. Юрик, в доме которого прожили счастливую судьбу целых три спасенных ею пса, говорил – "тяжелая собачья печать лежит на твоей творческой биографии". (Возможно, это было пожизненное искупление за мучения несчастных, лысых, лишенных иммунитета мышей.)
Мимо фланировала воспрявшая после спада воды, вечно оживленная публика, людям в голову не приходило бросить взгляд под ноги. Щенок сидел на верхней ступени крыльца и молча дрожал крупной дрожью.
– Да, – сказала она вслух, – вот этого мне здесь и недоставало. Это уже венецианский карнавал по полной программе.
Наклонилась, подняла его, мокрого, и он заискивающе лизнул ей руку, как-то сразу примащиваясь, удобно усаживаясь на сгибе локтя, как ребенок. Помесь ризеншнауцера с терьером, похоже, так. Что же это за падла тебя выкинула, милый? Или сам убежал, заблудился?
– Ну, и что мне с тобой здесь делать? – бормотала она. – Это ж не Иерусалим. Мне завтра уезжать... А? И в отель нас с тобой не пустят.
Она вдруг поняла, что ни разу с тех пор, как вышла из отеля утром, не вспомнила об Антонио. Это был хороший знак, знак освобождения от морока.
– Ладно, рискнем, – сказала она щенку. – У нас с тобой там маленький блат ("потусторонний брат" – добавила себе), авось проскочим... Полезай в куртку, за пазуху, вот так... Увеличим грудь почтенной синьоры номеров на пять.
Но и блата не понадобилось: Антонио спал, сидя за стойкой и положив голову на локоть. Несколько мгновений она смотрела на его курчаво-античный затылок, не зная, как быть, но вдруг вспомнила, что утром не сдала ключ от номера и, значит, может попасть туда незаметно.
Бесшумно поднялась на свой пятый этаж и затем минут двадцать занималась щенком: вытерла его насухо полотенцем, накормила булкой. Он и маслины съел, жадно выхватывая из ее пальцев.
Интересно, проснулся ли тот, внизу... И почему она так упорно избегает ни о чем не подозревающего, учтивого молодого человека?
– Тебе молока бы сейчас немного... – сказала она, глядя на осваивающего комнату щенка... – В ресторане, конечно, есть... но как бы нас с тобой не поперли... Может, попросить у... портье ?
И так, наскоро придумав себе это молоко для щенка, выскочила из номера, словно гналась сама за собой.
Спускаясь по лестнице, еще бормотала – "берегись... берегись..." или что-то вроде этого, но вслушиваясь уже не в голос свой, а в шум закипающей в кончиках пальцев, разносящейся к вискам температурной крови...
Он по-прежнему дремал, опустив голову на сгиб локтя, с края стойки свисала изумительной нервной красоты кисть левой руки... Кисть правой, полуоткрытая, с чуть откатившимся карандашом лежала покойно рядом.
Устал за день, подумала она. Ведь он учится и наверняка много рисует, и...
...вдруг эти большие смуглые кисти рук латинянина, длиннопалые дерзкие руки, так похожие на... – она даже отшатнулась от страшной волны отчаяния, ярости и жалобной тоски. Невыносимое, мучительное желание схватить его руки, вцепиться в них, удержать в своих обрушилось на нее так, как с грохотом и треском обрушивается срубленное дерево в лесу... Она даже зажмурилась, ожидая удара.
И, уже не чувствуя себя, дотронулась до его теплой со сна руки... сжала ее...
От неожиданности он вздрогнул, поднял голову и несколько мгновений ошеломленно смотрел на нее, переводя взгляд на их сплетенные руки.
Она молчала. И он молчал и не отнимал руки, наоборот, конвульсивно стиснул ее ладони.
– Я подобрала щенка... – наконец проговорила она...
– Что?! – хрипло спросил он, не сводя глаз с их, бесстыдно переплетенных, жадно осязающих друг друга пальцев...
– Я... подобрала... щенка, – повторила она вязким языком, уже понимая всю обреченность дальнейшего... – Он там... у меня в номере... и голоден... и я не знаю, что делать...
Выпростала из его судорожных ладоней свою руку, стала подниматься по лестнице и спустя несколько мгновений услышала, как молча и вкрадчиво-легко он взбегает за нею.
...И бесконечно долго длился их изматывающий подъем – эта погоня, этот бег по крутым ступеням, короткие, как ожог, поцелуи, ее бессильная борьба с его торопливыми губами и, наконец, когда – не помнила как – они очутились в номере – это спасение, укрытие в тесно сплетенный жар, в сладко пульсирующий лабиринт их, незнакомых друг другу тел, этот мучительно-истомный мерный бой колокола в лоне тяжелых вод лагуны... – медленный подъем до той парящей, той последней ступени, той обоюдоострой судороги-трели, освобождающей, отпускающей их тела на свободу...
...Первое, что он сделал: проворным движением рук пробежал по ее волосам, вынимая все заколки, вытаскивая шпильки и разворашивая, разбрасывая по подушке медно-темные пряди...
– Что ты делаешь? – она качнула головой, как Медуза-Горгона, в попытке сбросить с головы клубок змей.
– Любуюсь... Я уже три дня, сил нет, мечтаю распустить эту медь...
Лег навзничь, рядом, и рассыпал ее волосы по своему лицу.
– ... если писать их, – бормотал он, чуть ли не деловито перебирая перед глазами прядь за прядью... – что пойдет в дело? охра, английская красная... крон желтый... кадмий оранжевый... Или нет! – сиена жженая, английская красная, охра...
– Такие волосы бывают у ирландок, – сказал он и приподнял густую прядь, приглашая ее саму полюбоваться: – Смотри на лампу: на просвет сквозит пурпурно-золотым... Рубиновые, пунцовые волосы...
Она вспомнила – когда Миша нежничал, он любил вести вслед за расческой ладонью по ее волосам, приговаривая библейское: "Дай мне, дай мне этого красного..." Ее волосы, Мишина гордость...
– Ты никогда их не стригла?
– Никогда в жизни...
– Почему?
В самом деле почему? В детстве Рита не давала, тряслась над ее гривой, как скупой рыцарь над золотом. Потом Миша не позволял стричь...
Она подумала – если струсить и дать себя в руки эскулапам, и позволить проделать с собою все, что проделывают в таких случаях, выигрывая несколько месяцев у смерти, то она, конечно, потеряет свои прекрасные волосы, как Самсон, и так же останется беззащитной.
И вдруг вспомнила, как тем, последним их летом, их последними каникулами, Антоша заглянул в ее комнату – она расчесывалась перед зеркалом – и вдруг метнулся на кухню, вернулся с огромным разделочным ножом и, схватив ее за волосы, намотал на руку, оттянув голову назад, как будто хотел перерезать ей горло.
Крикнул:
– Сейчас обрежу!!
– Пусти, дурак! – завопила она.
Прибежал дядя Сергей, спросил:
– Ты спятил?
– На нее все пялятся из-за этой пакли! – орал Антоша. – Надоело! Выйти на улицу с ней невозможно! Ни один мимо спокойно не проходит!
Дядя Сергей засмеялся, сказал:
– Да, брат, это тяжело.
Отобрал нож и проговорил с тихим, странным, тяжелым значением:
– Оставь ребенка в покое. – Хотя она вовсе не была ребенком, осенью ей исполнялось семнадцать, а через год в эту пору она уже вышла замуж...
...Снизу долетали предупреждающие крики гондольеров и возбужденные возгласы подростков, нанявших вскладчину гондолу. Проплыла растяжечка расхожей мелодии "Домино", и опять все стихло...
Он потянул с нее простыню, медленно, как фокусник стягивает платок с корзины, и таким же круговым, завершающим движением фокусника отшвырнул простыню в сторону.
– Ты белая, белая! – бормотал он по-итальянски. – Какая ты в этом матовом свете белая, золотая! Смотри, я тебя, как святую Инессу, сейчас укрою твоими волосами... Уау! – воскликнул он, едва ли не с благоговейным ужасом, стоя над ней на коленях, – смотри, они достают до бедер!
– Я гораздо старше тебя, – сказала она, задумчиво его разглядывая.
– Замолчи! – воскликнул он. – Ты говоришь так, чтобы сразу прогнать меня из своей жизни...
– У тебя есть семья? – спросил он немного погодя.
– Да, – сказала она. – И я очень их люблю.
– Почему же ты пришла ко мне? – с ревнивой обидой спросил он.
Что ответить ему, этому юноше? Потому, что я умираю? Потому, что великая слабость и малодушие, и истошный страх толкают к чужому, и ты давишься воплем: "спаси меня, держи меня крепче!!" – ибо именно этого нельзя крикнуть единственно любимому человеку, нельзя его испугать, ведь он и так беззащитен, и так не отличит ее смерти от своей...
Она сказала:
– Потому, что ты напомнил мне покойного брата... который, видимо, любил меня... так получается... и не смог справиться с этой любовью...
– Понимаю, – сказал Антонио, быстро переворачиваясь на живот и заглядывая в ее лицо. – И ты решила через меня уплатить старый должок.
Он обиделся, поняла она и погладила его длинное, как серп месяца в окне, густобровое худое лицо.
– Нет, дорогой. Ты очень милый... просто я...
...просто она вспомнила последнюю встречу с Антошей: тот приехал из Ленинграда – уже неизлечимо плохой, с трясущимися руками, невыносимый, грубый. Ломился в дверь, страшно матерясь. Она была на сносях и тяжело носила и все-таки не выдержала, впустила брата. В прихожей он кинулся целовать ей руки, обзывал сукой, требовал денег, которых – вот ей-богу же, не было... (Они с Мишей снимали квартиру и жили на две стипендии.)
Когда брат хватал ее руки, что было нелепо и страшно, она заметила, что у него выбиты два нижних зуба, а на правой руке не хватает фаланги на указательном пальце. И ужаснулась: как же он кисть держит! Какая там кисть, господи... Воровато оглянувшись на дверь комнаты, где в угрюмом бешенстве сидел Миша, она сняла и сунула брату в ладонь единственную фамильную ценность – обручальное кольцо, оставшееся от покойной бабушки. И прижав к пульсирующему животу его покалеченную, такую родную руку, завыла в голос, как никогда в своей жизни не выла – ни до, ни после.
И этого Миша не вынес – выбежал в прихожую и выгнал Антошу. Тот корчился, сгибался пополам, пятился и делал вид, что страшно веселится. Хихикал и говорил Мише: – Ты хозя-аин, хозя-аин, да? – тыча изуродованным пальцем в ее большой живот.
И больше она его не видела. Через три недели, когда Миша с Ритой забирали ее из роддома, Рита вдруг зарыдала и призналась, что Антошу пять дней как схоронили. Миша побагровел и цыкнул на бабку, с которой всегда был церемонно вежлив. Наверное, боялся, что у жены пропадет молоко.
Всю жизнь Миша ненавидел ее брата, еще со школьных лет, когда после годовых экзаменов она на целых три месяца пропадала из его жизни. И даже после свадьбы, и даже после гибели Антоши муж все-таки продолжал ненавидеть его, как живого...
Все это было так давно, господи, и вот, когда ее собственная жизнь истончилась до этих трех дней венецианской обреченной свободы, в этом круге потустороннего света Антоша подстерег ее, всплыл из глубины ее судьбы и, повернувшись на живот, заглядывает в глаза, и на чужом для них обоих языке задает единственный свой вопрос.
– Ты со мной? – услышала она. – Какая ты странная... прекрасная, резкая женщина. Все твои соотечественники – люди резкие.
– Ты имеешь в виду израильтян? – спросила она. – Да нет, они люди, в общем, сердечные. Хотя горластые... А я из России.
– Ты совсем не похожа на русскую, – возразил он.
– А я и не русская.
– Так кто же ты? – рассмеялся он, укладывая голову на ее плече. – Что ты за птица? О, какое дивное оперение...
Она улыбнулась. И они обнялись и долго тихо лежали, обнявшись.
Она думала о том, что за всю свою жизнь не подарила близким ни капли настоящей нежности, той нежности, что от неги, от слезной сладости прикосновений... В этом-то и была ее беда, в природе и сути ее жесткого сильного характера. Нет, никогда она не была сухарем, наоборот – в работе ей часто мешала властная чувственность. Но все диктовалось боязнью "показаться", все было ошкурено ее колкой насмешкой, отстраненной иронией по отношению к друзьям, мужу, дочери...
Да, она была из тех Дебор, Эсфирей и Юдифей, которыми так богата история ее народа, – сильные, слишком сильные женщины без проблеска тайны во взгляде... Потом они стреляли в губернаторов и вождей, взрывали кареты, сидели в лагерях...
Она лежала рядом с этим чужим итальянским мальчиком и чувствовала к нему только ровную сильную нежность, понимая, что это чувство останется с ней до самого конца.
– А я, – вдруг сказал он, – я тут напридумал за эти три дня о тебе кучу разных вещей. Ужасно хотел знать – кто ты, может, актриса... Ты очень независимая, сильная женщина... Почему ты так странно замолчала, когда я сказал, что занимаюсь живописью?
– Потому что живописью занимался мой покойный брат, на которого ты так похож.
– Как его звали?
– Антонио, – сказала она, помолчав.
– Ты меня разыгрываешь! – воскликнул он. – Скажи еще, что и сама ты художница!
– О, нет... У меня вполне прозаическая профессия... Я командую мышами.
Он захохотал, переспросил и опять захохотал. Уселся на постели, скрестив по-турецки ноги.
– С тобой не скучно... И что ты с ними делаешь? Дрессируешь?
– Почти. Два раза в день я колю мышей.
– Зачем? – он вытаращил глаза.