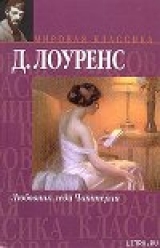
Текст книги "Любовник леди Чаттерли"
Автор книги: Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
7
Конни вошла к себе в спальню, разделась и стала разглядывать себя в огромном зеркале – сколько лет не делала она подобного. Она и сама не знала, что пыталась найти или увидеть в своем отражении, только поставила лампу так, чтобы полностью оказаться на свету.
И ей подумалось – уже в который раз! – сколь хрупко, беззащитно и жалко нагое человеческое тело. Есть в нем какая-то незавершенность.
Говорили, что у нее неплохая фигура, но не по теперешним меркам – слишком округло-женственная, а не новомодная угловато-мальчишечья. Невысокого роста, крепко сбитая, коренастая, как шотландка. Каждое движение исполнено неспешной грации и неги, что часто и принимают за красоту. Кожа с приятной смуглинкой, плечи и бедра округлы и покойны. Наливаться бы этому телу, точно яблоку, ан нет!
Как переспелый плод, теряло оно упругость, кожа – шелковистость. Недостало этому плоду солнца и тепла, оттого и цветом тускл, и соком скуден.
Женственность принесла этому телу лишь разочарование, а мальчишески угловатым, легким, почти прозрачным уже не стать. Вот и потускнело ее тело.
Маленькие неразвитые грудки печально понурились незрелыми грушами. Живот утратил девичью упругую округлость и матовый отлив – с тех пор, как рассталась она со своим немецким другом – уж он-то давал ей любовь плотскую. В ту пору ее молодая плоть жила ожиданием, и неповторима была каждая черточка в облике. Сейчас же живот сделался плоским, дряблым. Бедра, некогда верткие, отливавшие матовой белизной, тоже начали терять женственную округлость, пропала их крутизна: зачем же они ей?
Зачем ей вообще тело? И оно хирело, тускнело – ведь роль ему отводилась самая незначительная. Как горевала, как отчаивалась Конни! И было отчего: в двадцать семь лет она – старуха, и нет ни проблеска, ни лучика надежды. Плоть, ее женскую суть забыли, просто отвергли, да, отвергли. И она состарилась. Тела светских львиц были изящны и хрупки, словно фарфоровые статуэтки, благодаря вниманию мужчин. И неважно, что у этих статуэток пусто внутри. Но ей даже и с ними не сравниться. «Жизнь разума» умертвила ее плоть! И в душе закипела ярость – ее попросту надули!
Она разглядывала в зеркале свою спину, талию, бедра. Да, похудела, и это ее не красит. На пояснице набежала складка, когда Конни выгнулась, чтобы увидеть себя со спины. Как от нудной тяжелой работы. А когда-то там играли веселые ямочки. Ягодицы и долгие выпуклые ляжки утратили шелковистость, отлив и вальяжность. Все в прошлом! Лишь немецкий парень любил ее тело, да и того уж десять лет нет в живых. Да, летит время! Целых десять лет, как его нет, а ей еще всего двадцать семь. Тогда она даже презирала пробуждающуюся грубоватую чувственность здорового мальчишки. А теперь такой не найти. Нынешние мужчины – как Микаэлис: ласки жалкие, скорые, раз-два, и все. Нет у них здоровой человеческой плоти, что зажигает кровь и молодит душу.
Все ж она решила, что самое красивое у нее – бедра: от долгих ляжек до округлых, недвижно-спокойных ягодиц. Как песчаные дюны: зыбко-податливые, круто заворачивающие вниз. Меж ними еще теплилась жизнь, надежда. Но и сама плоть ее, казалось, стала гаснуть, увядать, так и не распустившись.
Зато спереди жалко на себя смотреть. Грудь и живот начали немного обвисать, так она похудела, усохла телом, состарилась, толком и не пожив. Она подумала о ребенке, которого ей, быть может, придется выносить. А может, она уже и для этого не годится.
Она накинула ночную рубашку, юркнула в постель и горько расплакалась. Горючими слезами изошла досада на Клиффорда, на его тщеславное писательство, на его чванливые разговоры. Досадовала и на других мужчин, подобных ему, кто обманом отобрал у женщины плотские радости.
Это нечестно! Нечестно! Зов обманутой плоти занимался огнем в сердце.
А утром… утром все как и прежде: встала в семь часов, спустилась к Клиффорду – ему нужно помочь во всех интимных отправлениях. Мужчины-слуги в доме не было, а от служанки он отказывался. Муж экономки, знавший Клиффорда еще ребенком, помогал поднимать и переносить его, все остальное делала Копни, причем делала охотно. Хоть это и вменялось ей в обязанность, она рада была помочь всем, что в ее силах.
Если она и отлучалась из Рагби, то на день – на два. Ее подменяла экономка миссис Беттс. С течением времени он всякую помощь стал принимать как должное – следствие сколь неизбежное, столь и естественное.
И все же глубоко в душе у Копни все ярче разгоралась обида: с ней поступили нечестно, ее обманули! Обида за свое тело, свою плоть – чувство опасное. Коль скоро оно пробудилось – ему нужен выход, иначе оно жадным пламенем сожрет душу. Бедняга Клиффорд! Он-то ни в чем не виноват. Ему еще горше пришлось в жизни. Участь обоих – лишь частичка всеобщего губительного разлада.
Впрочем, так ли уж он ни в чем не виноват? Он не давал тепла, не давал простого, душевного человеческого общения. Разве нет и этом его вины? Теплоты и задушевности в нем не сыскать, лишь холодная, расчетливая и благовоспитанная рассудочность. Но ведь может мужчина приласкать женщину, даже в родном отце чувствовала Копни мужчину; пусть он эгоист, причем вполне сознательный, по даже он способен утешить женщину, согреть мужским теплом.
Нет, Клиффорд не из таких. Равно и все его друзья – внутренне холодные, каждый сам по себе. Душевное тепло для них признак дурного тона. Нужно научиться обходиться без этого, главное – держаться на высоте. И все пойдет как по маслу, если жить среди тебе подобных. И можно вести себя холодно и обособленно – вас все равно будут ценить и уважать, и притом держаться на высоте – до чего ж приятно это сознавать! Но если вы общественной ступенькой выше или ниже – дело совсем иное. Какой смысл держаться на высоте, зная, что вы принадлежите высшему обществу. Да и есть ли у самых высокородных аристократов эта «высота», и не глупый ли фарс само их кичливое поведение? Какой в этом смысл? Все это – бездушная чепуха.
В душе у Конни вызревал протест. Какая польза от ее жизни? Какая польза от ее жертвенного служения Клиффорду? И чему, собственно, она служит? Холодной мужниной гордыне, не ведающей теплоты человеческих отношений. Клиффорд не менее алчен, чем самый низкопородный ростовщик-еврей, только жаждет он Удачи, мечтает о том, как бы завлечь ее, эту Вертихвостку. Готов, как гончая, высунув язык, мчаться по пятам Удачи, нимало не смущаясь, что самоуверенно, лишь по рассудку, причислил себя к высшему обществу. Право же, у Микаэлиса больше достоинства и он куда более удачлив. Если присмотреться, Клиффорд – настоящий шут гороховый, а это унизительнее, чем нахал и наглец.
Уж если выбирать меж Клиффордом и Микаэлисом, от последнего куда больше пользы. Да и она, Конни, нужна ему больше, чем Клиффорду. За обезножевшим калекой любая сиделка сможет присмотреть! Пусть Микаэлис – крыса, но крыса, способная на самоотверженность. Клиффорд же – глупый, кичливый пудель.
В Рагби порой наведывались гости, и среди них тетка Клиффорда, Ева – леди Беннерли. Худенькая вдовица лет шестидесяти, с красным носом и повадками светской львицы. Она происходила из знатнейшего рода, но держалась скромно. Конни полюбила старушку. Та бывала предельно проста, открыта, когда это не противоречило ее намерениям, и внешне добра. Притом она, как, пожалуй, никто, умела держаться на высоте, да так, что всякий в ее присутствии чувствовал себя чуть ниже. Но ни малейшего снобизма в ее поведении не было, лишь безграничная уверенность в себе. Она преуспела в светской забаве: держалась спокойно и с достоинством, незаметно подчиняя остальных своей воле.
К Конни она благоволила и пыталась отомкнуть тайники молодой женской души своим острым, проницательным великосветским умом.
– По-моему, вы просто кудесница, – восхищенно говорила она Конни. – С Клиффордом вы творите чудеса! На моих глазах распускается, расцветает его великий талант!
Тетушка, будто своим, гордилась успехом Клиффорда. Еще одна славная строка в летописи рода! Сами книги ее совершенно не интересовали. К чему они ей?
– Моей заслуги в этом нет, – ответила Конни.
– А чья ж еще? Ваша, и только ваша. Только, сдается мне, вам-то от этого проку мало.
– То есть?
– Ну, посмотрите, вы живете как затворница. Я Клиффорду говорю: «Если в один прекрасный день девочка взропщет, вини только себя».
– Но Клиффорд никогда мне ни в чем не отказывает.
– Вот что, девочка моя милая, – и леди Беннерли положила тонкую руку на плечо Конни. – Либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо – запоздалые сожаления об упущенном, поверьте мне! – И она в очередной раз приложилась к бокалу с вином. Возможно, именно так она выражала свое раскаяние.
– Но разве я мало получаю от жизни?
– По-моему, очень! Клиффорду свозить бы вас в Лондон, развеетесь. Его круг хорош для него, а вам-то что дают его друзья? Я б на вашем месте с такой жизнью не смирилась. Пройдет молодость, наступит зрелость, потом старость, и ничего кроме запоздалых сожалений у вас не останется. – И ее изрядно выпившая милость замолчала, углубившись в размышления.
Но Конни не хотелось ехать в Лондон, не хотелось, чтобы леди Беннерли выводила ее в свет. Какая она светская дама! Да и скучно все это! А еще чуяла она за добрыми словами мертвящий холодок. Как на полуострове Лабрадор: на земле яркие цветы, а копнешь – вечная мерзлота.
В Рагби приехали Томми Дьюкс и еще один их приятель, Гарри Уинтерслоу, и Джек Стрейнджуэйз с женой Оливией. Болтали о пустяках (ведь только в кругу «закадычных» шел серьезный разговор), плохая погода лишь усугубляла скуку. Можно было лишь поиграть на бильярде, да потанцевать под механическое пианино.
Оливия стала рассказывать о книге про будущее, которую читала. Детей будут выращивать в колбах, и женщин «обезопасят» от беременности.
– Как это замечательно! – восторгалась она. – Женщина, наконец, сможет жить независимо.
Ее муж хотел детей, она же была против.
– И вы бы захотели «обезопаситься»? – неприятно усмехнувшись, спросил Уинтерслоу.
– Меня, судя по всему, и так природа обезопасила, – ответила Оливия. – Во всяком случае, у грядущих поколений будет побольше здравого смысла и женщине не придется опускаться до своего «природного предназначения».
– Тогда, может, стоит их всех вообще поднять за облака, пусть себе летят подальше, – предложил Дьюкс.
– Думается, достаточно развитая цивилизация упразднит многие несовершенства наших организмов, – заговорил Клиффорд. – Взять, к примеру, любовь, это лишь помеха. Думаю, что она отомрет, раз детей в пробирках будут выращивать.
– Ну уж нет! – воскликнула Оливия. – Любовь еще больше радости будет приносить.
– Случись, любовь отомрет, – раздумчиво сказала леди Беннерли, – непременно будет что-то вместо нее. Может, морфием увлекаться начнут. Представьте: вы дышите воздухом с добавкой морфина. Как это взбодрит!
– А по субботам по указу правительства в воздух добавят эфир – для всеобщего веселья в выходной, – вставил Джек. – Все бы ничего, да только вообразите, какими мы будем в среду.
– Пока способен забыть о теле, ты счастлив, – заявила леди Беннерли. – А напомнит оно о себе, и ты несчастнейший из несчастных. Если в цивилизации вообще есть какой-то смысл, она должна помочь нам забыть о теле. И тогда время пролетит незаметно и счастливо.
– Пора нам вообще избавиться от тел, – сказал Уинтерслоу. – Давно уж человеку нужно усовершенствовать себя, особенно физическую оболочку.
– И превратиться в облако, как дымок от сигареты, – улыбнулась Конни.
– Ничего подобного не случится, – заверил их Дьюкс. – Развалится наш балаганчик, только и всего. Цивилизации нашей грозит упадок. И падать ей в бездонную пропасть. Поверьте мне, лишь крепкий фаллос станет мостом к спасению.
– Ах, генерал, докажите! Свершите невозможное! – воскликнула Оливия.
– Погибнет наш мир, – вздохнула тетушка Ева.
– И что же потом? – спросил Клиффорд.
– Понятия не имею, но что-нибудь да будет, – успокоила его старушка.
– Конни предрекает, что люди превратятся в дым, Оливия – что детей станут растить в пробирках, а женщин избавят от тягот, Дьюкс верит, что фаллос станет мостом в будущее. А каким же оно будет на самом деле? – задумчиво проговорил Клиффорд.
– Не ломай голову! С сегодняшним бы днем разобраться! – нетерпеливо бросила Оливия. – Побыстрей бы родильную пробирку изобрели да нас, женщин, избавили.
– А вдруг в новой цивилизации будут жить настоящие мужчины, умные, здоровые телом и духом, и красивые, под стать мужчинам, женщины? – предположил Томми. – Ведь они как небо от земли будут отличаться от нас! Разве мы мужчины? И что в женщинах женского? Мы – лишь примитивные мыслящие устройства, так сказать, механико-интеллектуальные модели. Но ведь придет время и для подлинных мужчин и женщин, которые сменят нас – кучку болванчиков с умственным развитием дошколят. Вот это было бы воистину удивительно, похлеще, чем люди-облака или пробирочные дети.
– Когда речь заходит о настоящих женщинах, я умолкаю, – прощебетала Оливия.
– Да, в нас ничто не может привлекать, разве только крепость души, – обронил Уинтерслоу.
– Верно, крепость привлекает, – пробормотал Джек и допил виски с содовой.
– Только ли души? А я хочу, чтоб вслед за душой обессмертилось и тело! – потребовал Дьюкс. – Так оно и будет со временем. Когда мы хоть чуточку сдвинем с места нашу рассудочность, откажемся от денег и всякой чепухи. И наступит демократия, но не мелкого своекорыстия, а свободного общения.
«Хочу, чтоб обессмертилось и тело!»… «Наступит демократия свободного общения», – вновь и вновь звучало в ушах Конни. Она не понимала толком смысл, но слова эти успокаивали ее душу – так успокаивает журчание воды.
Но до чего ж глупый и нескладный разговор! Конни измаялась от скуки, слушая Клиффорда, тетушку Еву, Оливию и Джека, этого Уинтерслоу. Даже Дьюкс надоел. Слова, слова, слова! Бесконечное и бессмысленное сотрясание воздуха.
Однако проводив гостей, она не почувствовала облегчения. Размеренно и нудно потянулись часы. Но где-то в животе угнездились досада и тоска, и ничем их не вытравить. Из часов складывались дни, каждый давался ей с необъяснимой тягостью, хотя ничего нового он не приносил. Разве что она все больше и больше худела – это заметила даже экономка и спросила, не больна ли. И Томми Дьюкс уверял, что она нездорова; Конни отнекивалась, говорила, что все в порядке. Только вдруг появился страх перед белыми, как привидения, надгробиями. Мраморной отвратительной белизной они напоминали вставные зубы – этими жуткими «зубами» утыкано подножье холма у церкви в Тивершолле. Из парка как на ладони была видна эта пугающая картина. Ощерившийся в жуткой гримасе кладбищенский холм вызывал у Конни суеверный страх. Ей казалось, недалек тот день, когда и ее схоронят там, еще один «зуб» вырастет среди надгробий и памятников в этом прокопченном «сердце Англии».
Она понимала: без помощи не обойтись. И послала коротенькую записку сестре Хильде. «Мне в последнее время нездоровится. Сама не пойму, в чем дело».
Ответ пришел из Шотландии – там теперь «осела» Хильда. А в марте приехала и сама. На юркой двухместной машине. Одолела подъем, проехала аллеей, обогнула луг, на котором высились два огромных бука, и подкатила к усадьбе.
К машине подбежала Конни. Хильда заглушила мотор, вылезла и расцеловалась с сестрой.
– Но что же все-таки случилось? – тут же спросила она.
– Да ничего! – пристыженно ответила Конни, но, взглянув на сестру и сравнив с собой, поняла, что та не изведала и толики ее страданий. Раньше у обеих сестер была золотистая с матовым отливом кожа, шелковистые каштановые волосы, природа наделила обеих крепким и нежным телом. Но сейчас Конни осунулась, лицо сделалось пепельно-серым, кожа на шее, сиротливо выглядывавшей из ворота кофты, пожелтела и пошла морщинами.
– Ты и впрямь нездорова! – Хильда, как и сестра, говорила негромко, чуть с придыханием. Была она почти на два года старше Конни.
– Да нет, здорова; просто, наверное, надоело мне все.
Боевой огонек вспыхнул во взгляде сестры. Она хоть и казалась мягкой и спокойной, в душе была лихой и непокорной мужчинам воительницей.
– Проклятая дыра! – бросила она, оглядывая ненавидящим взором ни в чем неповинную дремлющую старушку-усадьбу.
Неистовая душа жила в ее нежном, налитом, точно зрелый плод, теле. Ныне такие воительницы уже перевелись.
Ничем не выдавая своих чувств, она пошла к Клиффорду. Тот тоже подивился ее красе, но внутренне напрягся. Родные жены, не в пример ему, не отличались изысканной воспитанностью и лоском. Конечно, они люди иного круга, но, приезжая к нему в гости, они почему-то всегда подчиняли его своей воле.
Он сидел в кресле прямо, светлые волосы ухожены, голубые, чуть навыкате глаза бесстрастны. На холеном лице не прочитать ничего, кроме благовоспитанного ожидания. Хильде вид его показался надутым и глупым. Он старался держаться как можно увереннее, но Хильда на это и внимания не обратила. Она приготовилась к бою, и кто перед ней – папа римский или император – ей неважно.
– Конни выглядит просто удручающе, – тихо начала она, обожгла его взглядом своих прекрасных серых глаз и скромно потупилась, совсем как Конни. Но Клиффорд увидел сокрытое до поры твердокаменное, истинно шотландское упрямство.
– Пожалуй, она немного похудела.
– И что же, вы ничего не предприняли?
– А так ли уж это необходимо? – парировал он ее вопрос с учтивостью и непреклонностью, – столь разные качества зачастую уживаются в англичанах.
Хильда не ответила, лишь свирепо зыркнула на него: особой находчивостью в словесной перепалке она не отличалась. Клиффорду же ее взгляд пришелся горше всяких слов.
– Я покажу ее врачу, – наконец заговорила Хильда. – Вы можете порекомендовать кого-либо из местных?
– Сожалею, но не могу.
– Хорошо. Отвезу ее в Лондон, там у нас есть надежный врач.
Клиффорд не проронил ни слова, хотя кипел от злости.
– Надеюсь, мне можно у вас переночевать, – продолжала Хильда, снимая перчатки. – Сестру я увезу завтра утром.
От злости Клиффорд пожелтел, и белки глаз тоже пожелтели – пошаливала печень. Но Хильда по-прежнему являла образец скромности и благочестия.
– Вам нужно завести сиделку, чтоб ухаживала только за вами. А еще лучше мужчину в слуги взять, – сказала Хильда позже, за послеобеденным кофе – к тому времени оба уже успокоились. Говорила она как всегда тихо и вроде бы мягко, но Клиффорд чувствовал, что каждое слово – точно удар дубинкой по голове.
– Вы так полагаете? – сухо спросил он.
– Вне всякого сомнения! Иначе нам с отцом придется увезти Конни на месяц-другой. Так дальше продолжаться не может.
– Что – не может?
– Да вы посмотрите на бедную девочку! – и сама воззрилась на Клиффорда. Он сидел перед ней, точно огромный вареный рак.
– Мы с Конни обсудим ваше предложение.
– Да я уж с ней все обсудила, – подвела черту Хильда.
Клиффорду ненавистны были сиделки – они напрочь лишают возможности побыть наедине с собой, у них на виду все его самое сокровенное. Нет, от них он настрадался, хватит. А мужчина-прислужник и того хуже, он его в доме не потерпит, на худой конец, возьмет женщину. Но пока ему доставало Конни.
Сестры уехали утром. Конни – точно агнец на заклании – съежилась и притихла рядом с сидевшей за рулем Хильдой. Хотя их отец, сэр Малькольм, в отъезде, дом в Кенсингтоне ждал сестер…
Доктор внимательно осмотрел Конни, расспросил о жизни.
– Иногда в газетах мне попадаются ваши с сэром Клиффордом фотографии. Вы теперь – знаменитые люди. Да, вот как вырастают маленькие, тихие девочки! Впрочем, вы и сейчас такая. Не испортила вас слава. Итак, никаких патологических изменений у вас нет, но образ жизни придется изменить. Скажите сэру Клиффорду, пусть отвезет вас в город или за границу. Вам нужно развлечься, просто необходимо! Набраться сил – они у вас на исходе. Сердце начинает пошаливать. Но это невроз, всего лишь невроз. Месяц в Каннах или Биаррице – и все как рукой снимает. Но так дальше жить вам нельзя, просто нельзя! Иначе я не отвечаю за последствия. Вы тратите жизненные силы и ничем их не восполняете. Вам не хватает радости, обычной, здоровой радости. Нельзя так расходовать силы. Всему есть предел! И всякую грусть-тоску – прочь! Это главное.
Хильда лишь стиснула зубы, видно, дело нешуточное.
Микаэлис, прослышав, что они в городе, тотчас примчался с букетом роз.
– Что, что случилось? – воскликнул он. – На тебе лица нет! Ты страшно переменилась, от тебя только тень осталась. Что ж ты ничего мне не сообщила? Я б увез тебя в Ниццу или на Сицилию. Да, поедем со мной на Сицилию. Там сейчас чудесно. Тебе нужно солнце! Тебе нужна жизнь! Поедем со мной! Поедем в Африку! Да брось ты сэра Клиффорда! Забудь о нем и поедем со мной. Я женюсь на тебе, как только он даст развод. Поехали. Ты поймешь, что такое жизнь! Благодать! Да Рагби кого угодно в могилу сведет! Пропащее место! Как трясина! Любого засосет! Поедем же со мной к солнцу! Тебе так не хватает света, тепла – естественной человеческой жизни.
Но при одной только мысли, что придется оставить Клиффорда, прямо сейчас, все бросить, у Конни занимался дух. Нет, не сможет она! Нет… ни за что! Не сможет, и все! Она непременно вернется в Рагби.
Микаэлис выслушал ее с раздражением. Хильда отнюдь не благоволила ему, но все же меж Клиффордом и Микаэлисом выбрала бы последнего. Итак, сестры вернулись в Рагби.
Хильда первым делом отправилась к Клиффорду; желтизна, тронувшая белки его глаз, еще не сошла. Конечно же, и он по-своему волновался и томился. Но внимательно выслушал все, что говорила Хильда, что говорил Хильде доктор (о том, что говорил Микаэлис, Хильда, разумеется, не упомянула). Пока она выставляла Клиффорду одно условие за другим, бедняга сидел молча.
– Вот адрес хорошего слуги. Он ухаживал за одним инвалидом, тот умер в прошлом месяце. Слуга этот – человек надежный и, не сомневаюсь, приедет, если позвать.
– Но я не инвалид, и мне не нужен слуга! – отчаянно отбивался Клиффорд.
– Вот еще адреса двух сиделок. Одну я сама видела, она внушает доверие. Лет пятьдесят, спокойная, крепкая, добродушная, для своего уровня даже воспитанная.
Клиффорд, насупившись, молчал.
– Ну что же. Клиффорд. Если к завтрашнему дню мы ни о чем не договоримся, я даю отцу телеграмму, и мы забираем Конни.
– И Конни готова уехать?
– Ей, конечно, не хочется, но она понимает, что иного выхода нет. Мать у нас умерла от рака, и все на нервной почве. Рисковать еще одной жизнью мы не будем.
Назавтра Клиффорд предложил в сиделки миссис Болтон, приходскую сестру милосердия из Тивершолла. Очевидно, ее порекомендовала Клиффорду экономка. Миссис Болтон собиралась оставить службу и практиковать как частная сестра-сиделка. Клиффорду просто невмоготу было бы довериться чужому человеку, но миссис Болтон ухаживала за ним, когда в детстве он болел скарлатиной.
Конни и Хильда тут же отправились к миссис Болтон. Жила она в добротном особнячке, на «чистой» половине поселка. Миловидная женщина лет под пятьдесят – в белой наколке и переднике, в подобающем сестре милосердия платье, как раз заваривала чай. Гостиная у нее была маленькая, заставленная мебелью.
К гостям она отнеслась с большим вниманием и тактом; в речи лишь изредка проскальзывал местный небрежный говорок, говорила она грамотно, хотя и тяжеловесно. Много лет верховодила она заболевшими шахтерами, исполнилась веры в собственные силы и наилучшего о себе мнения. Одним словом, по деревенским масштабам она тоже представляла высшее местное общество, к тому же весьма уважаемое.
– Да, конечно, леди Чаттерли выглядит не очень-то хорошо! Она, помнится, все время была такой славной пышечкой, и – на тебе! За зиму, поди, так ослабела! Еще бы, ей нелегко приходится. Ах, бедный сэр Клиффорд! Все война проклятая! Кто-то за все ответит?
Миссис Болтон готова ехать в Рагби незамедлительно, лишь бы отпустил доктор Шардлоу. У нее еще полмесяца ночные дежурства, но ведь можно и замену подыскать.
Хильда написала доктору Шардлоу письмо, и уже в воскресенье сиделка и два чемодана в придачу прибыли на извозчике в Рагби. Все переговоры вела Хильда. Миссис Болтон и без повода взялась бы переговорить обо всем на свете. Казалось, молодость еще бьет в ней ключом. Так легко вспыхивали ее белые щеки! А было ей сорок семь.
Мужа, Теда Болтона, она потеряла двадцать два года назад, ровно под Рождество – он погиб на шахте, оставив ее с двумя малыми детьми, младшенькая еще и ходить не умела. Сейчас она уже замужем, за очень приличным молодым человеком, работает на солидную фирму в Шеффилде. Старшенькая учительствует в Честерфилде, приезжает на выходные домой, если не сманят куда-нибудь подружки. Теперь ведь у молодых забав хоть отбавляй, не то что в ее, Айви Болтон, пору.
Тед Болтин погиб при взрыве в забое двадцати восьми лет от роду. Их там четверо было. Штейгер им крикнул: «Ложись!», трое-то успели, а Тед замешкался. Вот и погиб. На следствии товарищи давай начальство выгораживать, дескать, Тед испугался, хотел убежать, приказа ослушался, так что вроде выходит, будто он сам и виноват. И компенсацию заплатили только три сотни фунтов, да и то будто из милости, а не по закону. Так как Тед, видите ли, по своей вине погиб. Да еще и на руки-то всех денег не дали! Она-то хотела лавку открыть. А ей говорят: промотаешь деньги или пропьешь. Так и платили по тридцать шиллингов в неделю. Приходилось каждый понедельник тащиться в контору и по два часа простаивать в очереди. И так почти четыре года. А что ей оставалось – с двумя малышками на руках? Хорошо, мать Теда – добрая душа – помогла. Как девочки ходить научились, она на день их к себе стала забирать, а Айви ездила в Шеффилд на курсы при «Скорой помощи», а на четвертый год даже выучилась на сестру-сиделку и бумагу соответственную получила. Она твердо решила ни от кого не зависеть, самостоятельно воспитывать дочерей. Одно время работала в маленькой больнице, потом ее приметили в тивершолльской Угольной компании, приметил-то сам сэр Джеффри, решил, что опыта у нее уже достаточно, и пригласил работать в приходской больнице, что очень любезно с его стороны. И вообще к ней очень по-доброму начальство относилось, ничего дурного сказать нельзя. Так и работала, только сейчас уже трудно все на своих плечах нести, полегче бы занятие подобрать, а то приходится и в дождь, и в слякоть по всему приходу грязь месить, больных навещать.
– Что верно, то верно, в Компании ко мне по-доброму отнеслись. Но вовек не забуду, как они о Теде отзывались. Таких, как он, бесстрашных да хладнокровных, в шахте и не сыскать. А его чуть не трусом выставили. Ну, а мертвый-то что, ведь за себя слова на замолвит.
Сколь противоречивые чувства обнаружились в этой женщине, пока она рассказывала. К шахтерам она привязалась – столько лет лечила их. Но в то же время она ставила себя много выше. Вроде б и «верхушка», ан нет, к тем, кто «наверху», она исходила ненавистью и презрением. Хозяева! В столкновениях хозяев с рабочими она всегда стояла за трудовой люд. Но стихала борьба, и Айви Болтон снова пыталась доказать свое превосходство, приобщиться к «верхушке». Эти люди завораживали ее, пробуждая в душе исконно английскую тягу к верховодству. Она с трепетом ехала в Рагби, с трепетом беседовала с леди Чаттерли. Ну, о чем речь! С простыми шахтерскими женами ее не сравнить! Это миссис Болтон старалась подчеркнуть, насколько ей хватало красноречия. Однако проглядывало в ней и недовольство высокородным семейством – то было недовольство хозяевами.
– Конечно же, такая работа леди Чаттерли не под силу! Слава Богу, что сестра приехала, выручила. Мужчины, что из благородных, что из простых – все одно, не задумываются, каково женщине, принимают все как должное. Уж сколько раз я шахтерам выговаривала. Сэру Клиффорду, конечно, трудно, что и говорить, обезножел совсем. У них в семье люд гордый, заносчивый даже – ясное дело, аристократы! И вот как судьба их ниспровергла. Леди Чаттерли, бедняжке, тяжело, поди, тяжелее, чем мужу. Что у нее в жизни есть?! Я хоть три года со своим Тедом прожила, но разрази меня гром, пока при нем была, чувствовала, что такое муж, и той поры мне не забыть. Кто бы подумал, что он так погибнет? Мне и сейчас даже не верится. Хоть и своими руками его обмывала, но для меня он и сейчас как живой. Живой, и все тут.
Итак, в Рагби зазвучал новый, непривычный поначалу для Конни, голос. Он обострил ее внутренний слух.
Правда, первую неделю в Рагби миссис Болтон вела себя очень сдержанно. Никакой самоуверенности, никакого верховодства, в новой обстановке она робела. С Клиффордом держалась скромно, молчаливо, даже испуганно. Ему такое обращение пришлось по душе, и он вскоре перестал стесняться, полностью доверившись сиделке, даже не замечал ее.
– Полезный ноль – вот она кто! – сказал он. Конни воззрилась на мужа, но спорить не стала. Столь несхожи впечатления двух несхожих людей.
И скоро вернулись его высокомерные, поистине хозяйские замашки с сиделкой. Она была к этому готова и бессознательно согласилась с отведенной ролью. С какой готовностью принимаем мы обличье, которое от нас ждут. Ее прежние пациенты, шахтеры, вели себя как дети, жаловались, что и где болит, а она перевязывала их, терпеливо ухаживала. В их окружении она чувствовала себя всемогущей, этакой доброй волшебницей, способной врачевать. При Клиффорде она умалилась до простой служанки, безропотно смирилась, постаралась приноровиться к людям высшего общества.
Молчаливо потупив взор, опустив овальное, еще красивое лицо, приступала она к своим обязанностям, всякий раз спрашивая разрешения сделать то или это.
– Нет, это подождет. С этим повременим.
– Прекрасно, сэр.
– Зайдите через полчаса.
– Прекрасно, сэр.
– И унесите, пожалуйста, старые газеты.
– Прекрасно, сэр.
И тихо она исчезала, а через полчаса появлялась вновь. Да, к ней относились не очень уважительно, но она и не возражала. Она жила новыми ощущениями, вращаясь среди «сильных мира сего». К Клиффорду она не питала ни отвращения, ни неприязни. Он был любопытен ей, как часть доселе непонятного и незнакомого явления – жизни аристократов. Куда проще ей было с леди Чаттерли, да к тому же за хозяйкой дома первое слово.
Миссис Болтон укладывала Клиффорда спать, сама же стелила себе в комнате напротив и по звонку хозяина приходила даже ночью. Не обойтись без нее и утром; вскоре миссис Болтон стала просто незаменимой, она даже брила Клиффорда своей легкой женской рукой. Обходительная и толковая, она скоро поняла, как возобладать и над Клиффордом. В конце концов, не столь уж он и отличается от шахтеров – и подбородок ему так же намыливаешь, и щетина у него такая же. А его заносчивость и неискренность ее мало беспокоили. У новой жизни свои законы.








