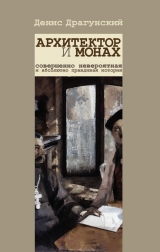
Текст книги "Архитектор и монах "
Автор книги: Денис Драгунский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Не играйте в Шерлока Холмса! – снова повторил кто-то.
– Тогда уж в Ната Пинкертона, – ответили из другого конца комнаты.
– Как это странно! – сказал Дофин и развел руками. – Как это горько. Как неуместно. Убили нашего товарища, а вы шутите…
– Никто не шутит. Это вы не вполне уместны со своим пафосом! – крикнули в ответ. – Вы у нас в кружке не так уж долго состоите, я прошу прощения, конечно, но это факт! Леон – наштоварищ, вы верно изволили заметить. Наш!
– Я могу уйти, конечно же, – сказал Дофин и в самом деле сделал шаг к двери.
Наталья Ивановна продолжала сидеть и плакать.
Дофин подошел к ней, склонил голову, потом стал перед ней на колени. Поцеловал ей руку.
– Я глубоко соболезную вам, сударыня, то есть товарищ Троцкая. Верьте мне, я плачу вместе с вами, – он прижал ее пальцы к своим глазам, давая убедиться, что у него на самом деле текут слезы.
И у него на самом деле потекли слезы, я это увидел. Мне стало как-то странно. Мне было неприятно на это смотреть, особенно потому, что я понимал: Дофин не притворяется. Да и как можно притвориться, что плачешь слезами? Но вместе с тем я чувствовал, что сейчас произойдет нечто очень важное для всех. Для меня, для кружка венских социалистов и вообще для всех. Для всех на свете. Я не знал, что именно должно сейчас произойти, но меня это захватывало.
– Спасибо вам, – прошептала Наталья Ивановна. – Милый мальчик, ты, наверное, и есть Адольф Гитлер?
– Да, – прошептал он в ответ.
– Леон говорил мне о тебе, прости, что я с тобою на «ты»!
– О, товарищ Троцкая! – Дофин еще раз поцеловал ей руку, а она погладила его по голове, перебрала пальцами его челку.
– Леон говорил мне о тебе, – повторила она. – Он знал тебя не так уж долго, он говорил с тобой всего несколько раз, но он полюбил тебя, Адольф. Он сказал мне: «Ох, этот Адольф Гитлер, он еще покажет нам всем!».
Дофин зарыдал и спрятал лицо у нее в коленях.
Потом поднял голову. Поглядел на Наталью Ивановну, в третий раз поцеловал ей руку, встал с колен и сказал:
– Это, – он показал на топорик и газету, – надо непременно отнести в полицию. Я пойду вместе с товарищем Троцкой, я провожу ее. Но, товарищи, давайте запомним, как называется эта газета. – Он громко прочитал: – «Журналь де Женев».
Помолчал и сказал:
– Потому что я убежден: Рамон, если он действительно был убийцей, уже мертв. Больше того, я подозреваю, что Рамон знал, что идет на верную смерть. Его заставили убить Леона. Но он специально взял с собой эту газету. Он хотел дать нам знак! Знак, вы понимаете?!
Я был поражен. Дофин говорил сам, волнуясь, без малейшей подсказки, но мне казалось, что он выполняет некий замысел. Но чей? Дофин играл как по нотам. Мне пришли в голову именно эти слова. «Мой маленький Дофин играет как по нотам». Как будто не я это подумал, а оно само подумалось и сказалось во мне.
Мне показалось, что по комнате медленно покатился шарик.
Я даже не мог сказать, как этот шарик выглядит.
Но я чувствовал, что он есть и он катится по деревянному полу с едва слышным рокотанием. Как оброненный бильярдный шар.
– Рамон хотел нам указать, что преступление задумано в Женеве! – Дофин облизнул губы и прошелся по комнате, заложив руки за спину. – Об этом говорит простая логика. Откуда в Вене взялась старая женевская газета? Это знак, в третий раз повторяю.
– Хорошо, – сказал кто-то. – А допустим, что это никакой не знак. Не будем без особой надобности умножать сущности. Знак – это, конечно, загадочно и увлекательно… Что ж, может быть, потом мы вернемся к этой версии. Но пока давайте рассуждать проще. Что убийца завернул топор в эту газету просто так, потому что она случайно подвернулась.
Кажется, это говорил Гейнц Мюллер, старик, не путать с молодым Виктором Мюллером.
– Тем более! – сказал Дофин. – Тем более значит, что убийца из Женевы.
– А почему он не мог завернуть топор в венскую газету?
– Не знаю! Потому что у него не было венской газеты под рукой. А женевская была! Он мог в нее что-то заворачивать. Например, – прикрыл глаза Дофин, – он купил себе в Женеве что-то съестное. Пирожки с яйцом, например. В Женеве продаются жирные печеные пирожки с яйцом? – вдруг обернулся он ко мне.
– С яйцом? – спросил я. – Почему с яйцом?
– Необязательно с яйцом, впрочем, – сказал Дофин. – Просто жирные печеные пирожки. На растительном масле.
– Почему жирные на масле? – снова спросил я.
– Потому что на газете следы! – сказал Дофин. – Растительного масла! – он нагнулся и понюхал газету. – Да. Именно.
– Значит, продаются, – сказал я. – Не с неба же они упали. Если это, конечно, пирожки.
– Конечно! – воскликнул Дофин. – Он купил пирожки, завернул их в газету, сверток положил в саквояж и сел в поезд…
Разговор приобретал какой-то глупый оборот.
– Черт с ними, с пирожками, – сказал Виктор Мюллер. – Ты о чем, товарищ?
– Не в пирожках дело! – Дофин поднял палец. – Дело в том, что следы ведут в Женеву. Убийца приехал из Женевы. Это если не умножать сущности. А если умножать, если понимать, что не все так просто, что Рамон сам исполнитель и одновременно жертва, то есть исполнитель, которого тоже ликвидируют, то тогда получается – Рамон этой газетой показал нам, что Женева тут неспроста. В любом случае следы ведут в Женеву! – повторил он, обвел всех глазами и спросил: – Но кто в Женеве хотел убить Леона?
– Агенты царской разведки?
– Их и в Вене полно…
– Нет, при чем тут агенты!
– У него были враги в Женеве? – раздались голоса.
– Я полагаю, – сказал Дофин, – что Леона убили не враги, а друзья. Кто-то хотел избавиться от Леона. Леон – один из признанных вождей русской социал-демократии. Кто был его соперником, кто? – он обвел глазами собравшихся. – Товарищи, вы же лучше, чем я, знаете все тонкости… Кто, кто, кто? Кто ненавидел Леона?
– Ленин, – сказала Ада Шумпетер.
Она стояла у окна. Дофин повернулся к ней так резко, что коврик поехал под его ногой и он чуть не упал.
– Кто?
– Ленин, – повторила Ада.
– Откуда вы знаете? Почему вы так считаете? – спросили ее с двух сторон.
– Я знаю, что между ними идет… вернее, шла… нескончаемая борьба за первенство.
– Нет! – вскричала Наталья Ивановна. – Нет!
– Госпожа Троцкая, – сказал Дофин. – Это ужасно, что вам еще придется услышать здесь, и вообще, не надо это слушать. Уйдемте. Я вас провожу, нужно отнести эту вещь в полицию.
Она встала. Положила топорик с газетой в чемоданчик, который перед ней раскрыл Дофин. Это был его чемоданчик, он в нем носил книги и какие-то рисовальные принадлежности.
– Вечером, товарищи, зайдите кто-нибудь ко мне, – сказала Наталья Ивановна.
– Да, да, конечно! – заголосили все.
Дофин подал ей руку бубликом. Она сначала взяла его под руку, потом покачала головой, высвободила руку, грустно улыбнулась, и они вышли из комнаты.
Дверь за ними закрылась. Но тут же открылась снова.
– «Журналь де Женев»! – крикнул Дофин всем нам и громко захлопнул дверь.
Все замолчали.
– Тяжелая утрата, – вздохнул Клопфер.
– Ужасная, ужасная утрата и страшная история, – сказал старый Мюллер и обернулся к Аде Шумпетер. – Но почему вы думаете, что тут замешан наш женевский товарищ?
– Нет, нет, я не говорю, что Ленин тут замешан! – торопливо сказала Ада. – Нет, нет, я вовсе не это хотела сказать!
– А что вы хотели сказать?
– Жена Ленина говорила мне, что Ленин не может простить Леону старых статей, – сказала Ада. – Возможно, Ленин прав, что порвал с ним отношения. Леон очень сильно оскорбил Ленина. Он оскорблял его в своих статьях. Называл его жалким адвокатишкой и барчуком. Вот именно «барчука» Ленин был не в силах простить! Человек, посвятивший жизнь борьбе за рабочий класс! Так говорила его жена.
– Я бы тоже не снес «барчука», – сказал Мюллер.
– И из-за этого нанял бы убийцу с топориком? – сказал второй Мюллер, который постарше.
– Что вы такое говорите! – воскликнула Ада Шумпетер. – Ведь не только в словах причина. Они были соперниками. Серьезными, непримиримыми! Ленин вообще был непримирим! У его жены была школьная подруга, Ленин ее прекрасно знал, она бывала у них дома, но когда она перешла в другую партию, Ленин ее возненавидел. «Когда мы придем к власти, я прикажу повесить ее на фонаре! И чтоб висела три недели!» Ленин всегда был именно такой. Очень фанатичный.
– Да, – сказал Гильфердинг. – Я вспоминаю его замечательную фразу, некоторую в своем роде моральную – вернее, аморальную! – Гильфердинг поднял палец с зеленым перстнем, погрозил неизвестно кому, – да, именно так, аморальную максиму. «Когда я порываю с человеком политически, я порываю с ним лично! Когда я хочу стереть в порошок политического соперника, это значит, я готов растерзать и уничтожить данного конкретного человека!»
– Кому это говорил Ленин? – спросил я.
– Мне! – воскликнул Гильфердинг. – Мне, лично!
– О ком? Кого он имел в виду?
– Не знаю, – сказал он. – Может быть, как раз Леона и имел в виду. Но… Но, впрочем, я никого не хочу обвинять.
Настала тишина на четверть минуты.
– Кстати говоря, я тоже что-то такое помню, – сказала Ада Шумпетер.
– А вы разве встречались с Лениным? – спросил ее кто-то. – Неужели?
– Да! И не раз! – кажется, она обиделась, что ей не верят, и из-за этого воскликнула еще более возбужденно: – Я тоже, как и товарищ Гильфердинг, никого не хочу обвинять, я тоже никого не хочу подозревать, но я знаю точно – перед Лениным нет никаких барьеров! Никаких моральных барьеров, я хочу сказать.
– Да, – сказал Гильфердинг. – «Для победы революции в России я могу взять деньги у германского кайзера! Или у Ротшильда!» – вот как он говорил.
– Кому? – снова спросил я. Мне сделалось немножко смешно.
Но шарик все катился.
– Мне! – снова крикнул Гильфердинг и ткнул себе в грудь пальцем. – Мне говорил!
– Но ведь для победы революции, – возразил я.
– Для таких людей революция – это власть! – сказал Гильфердинг. – Наполеон, кажется, говорил о ста тысячах вакансий…
– При чем тут? – спросил кто-то.
– Для властолюбцев, таких, как Ленин… – сказала Леонтина Ковальская.
– Но Брут его считает властолюбцем, – усмехаясь, перебил ее старший Мюллер.
– Существует одна вакансия – быть вождем! – докончила она.
Шарик докатился до Кукмана и Пановского.
Они сидели и переглядывались. Перемигивались. Они сидели в разных концах комнаты – Кукман совсем близко ко мне, а Пановский по диагонали. Но я хорошо видел обоих, видел, как они хмыкали и корчили друг другу рожи.
И вдруг перестали.
Мне показалось, что это какой-то дурной знак.
Но надо рассказать, кто они такие. Хотя не надо. Потом вы все сами поймете. Но вот, буквально чуть-чуть, чтобы не отвлекаться.
Якобы у Леона Троцкого была своя маленькая гвардия. Маленькая боевая организация, их еще называли «бешеные троцкисты». Старики их так называли. Никто толком не знал, сколько там человек, да и была ли эта гвардия вообще, на самом деле. Может быть, это Кукман и Пановский распускали такие слухи. Когда-то они охраняли Леона – Пановский еще в Москве в пятом году, про Кукмана точно не знаю. На самом деле они просто любили его, боготворили.
– Но почему вы его назвали женевским товарищем? – вдруг спросил Кукман.
– А разве он не в Женеве живет? – откликнулся Мюллер.
– По-моему, да, – сказала Леонтина. – Или жил когда-то. А что такое?
– Ничего, ничего, – сказал Кукман и снова уставился на Пановского, а тот сморщил нос и покачал головой. А Кукман кивнул в ответ.
Странные господа. То есть – товарищи. Опасные товарищи.
Я их побаивался. И не напрасно!
7. Ангел
– Но судьба тебя хранила, – сказал Дофин.
– Бог меня хранил, – сказал я. – Три раза. Самое маленькое, три. Я не говорю о тех разах, в той жизни.
В той жизни Ангел Небесный хранил и защищал меня от полиции и суда всякий раз, как я по молодости вляпывался в какую-нибудь историю. По своей грузинской социал-демократической молодости. Но это так, мелочи. Была для Ангела работа потруднее. Он защищал меня от пуль, когда мы грабили инкассаторов. От засады, когда за нами охотились по всему Кавказу. От жандармов, стражников и осведомителей, когда я был в ссылке. От ледяной воды, от ветра, от смертельной простуды, от грабителей на лесной дороге – они ограбили меня, беглого ссыльного! – ах, где эти сказки о благородных разбойниках? – и если б Ангел не послал гром небесный с грозой и градом, они бы, конечно, убили меня, а так – оставили мокрого и полуголого, а сами уехали на лошадях. На моих.
Хранил от диких русских мужиков в деревне, куда я, мокрый и полуголый, добрел через полдня; от дурной водки и тухлой солонины, от дизентерии и чахотки. От сифилиса, когда я спал с грязными девками, от заражения крови, когда я резал пальцы ржавым сальным ножом. От австрийских чиновников, от совсем уж унизительной и голодной нищеты, от Мартова и Дана, от Аксельрода и Потресова, от старика Плеханова: все они терпеть меня не могли, вернее, едва терпели. Ангел Хранитель только и сумел сделать, чтобы они ненавидели меня по отдельности, поочередно, сначала один, потом другой, а не все вместе сразу, а то бы мне сразу конец пришел.
Ангел хранил меня от самого Ленина! Который благоволил ко мне – или делал вид, что благоволил, – мне передавали, что он называл меня чудесным грузином, – ах, как это мило слышать от главного теоретика партии, но почему «чудесный грузин», а не «чудесный человек», раз уж я такой чудесный? Или на роль чудесного грузина я гожусь, а вот роль чудесного человека не вытягиваю? Дикция не годится? Попробовал бы он про Троцкого сказать: «Есть у нас тут один чудесный еврей»! Товарищи Аксельрод, Каменев и Зиновьев показали бы ему чудеса! Национальный вопрос – самый страшный вопрос в политике, никуда не денешься. Да, Ленин вроде бы ко мне благоволил, но все время меня школил. Ругал, воспитывал. Грозил прогнать, отлучить от партии, отобрать работу.
Ангел хранил меня от тяжелой молчаливой неприязни Леона Троцкого и едва скрытой злобы бешеных троцкистовКукмана и Пановского. Хватило бы одного его намека, чтобы меня потом нашли в пруду под Веной; вон как получилось с Лениным.
Но главное было потом. Когда они все-таки решили со мной расправиться.
– За что? – тут же спросил Дофин.
– Какое-то безумие. Бред сумасшедших. Но по порядку.
По порядку, господин репортер.
Леонтина Ковальская вдруг написала мне письмо – назначила свидание. Мы встретились. Леонтина выглядела, как всегда – в очках и с пучком на затылке, белая кофточка, серая шалька на плечах, черная юбка. Маленькая шляпка с искусственным цветком. Зонтик, сумочка, ботинки. Конторская барышня. Даже не принарядилась. Но так даже лучше. Посидели в кафе, потом погуляли по площади у театра. Потом она попросила проводить ее до дому.
– Поднимемся ко мне, – сказала она, когда мы пришли.
Дом, у которого мы стояли, был большой, вроде бы солидный, но не совсем понятный. Там могли быть буржуазные квартиры в целый этаж, но и студенческие мансарды тоже. Однако я не собирался пить чай в компании ее мамы и папы. Еще меньше мне хотелось оказаться в ее одинокой обители.
– Поднимемся, – повторила она.
Пришлось подняться. На площадке между вторым и третьим этажами она вдруг остановилась.
– Дальше нельзя. У меня хворает мама, а квартира маленькая, хотя я бы с радостью пригласила вас, но, может быть, в другой раз, но другого раза не будет, потому что я теперь, открою вам тайну, теперь я живу с Вацлавом Кукманом, и они вас убьют. Непременно и очень скоро. Они считают, что это вы убили Леона Троцкого. Вы, вы, вы, а не Рамон! Прощайте.
– Это не я! Это ложь! – шепотом закричал я.
Хотя я был поражен, я все же соображал, что мы стоим на лестничной площадке и на нас смотрят двери чужих квартир.
– Господи, как страшно, – шепнула она. – Обнимите меня на прощанье.
Я обнял ее – что было делать: она меня спасала от смерти.
Она прижалась ко мне.
– Глупый, странный, злой человек, – шептала она сквозь слезы. – Зачем ты это сделал, зачем?
– Это ложь! – я с трудом оторвался от нее. – Это Рамон, я тут ни при чем!
– Ты! – сказала она. – Ты нанял Рамона, подлый человек. Если бы я в тебя не была влюблена, я бы сама тебя убила. У меня есть револьвер! Бульдог! – и стала расстегивать свою сумочку.
– Вы сошли с ума, – сказал я и сжал замок ее сумки. Я говорил отчетливо, глядя в ее сияющие безумные глаза. – Вы все с ума посходили. Леона Троцкого убил Рамон Фернандес. Тоже сумасшедший. Полоумный урнинг. Он приревновал его к этому юноше, к Адольфу Гитлеру. Все это безумие и бред. Обдумайте все как следует, и вы все сами поймете. А теперь до свидания.
– Поцелуй меня, – сказала она.
– До свидания, – сказал я и пожал ей руку. – До встречи в следующую среду, товарищ Ковальская… Вы придете на кружок к товарищу Клопферу? Кстати, кто будет читать реферат?
– Сумасшедший! – она захохотала, тыча в меня пальцем.
Повернулась и побежала вверх по лестнице.
Бедлам.
Вена – город безумцев.
Я пошел домой, сторонясь прохожих. Мне казалось, что любой может завизжать, захохотать, вцепиться ногтями мне в щеки.
Спасибо, товарищ Ковальская, за ценные сведения.
Но неужели Кукман и Пановский всерьез считали, что это я нанял Рамона Фернандеса?
Да, у меня были не лучшие отношения с Леоном. Да, мне было обидно, что он переманивает Дофина. У всех были ученики; я хотел иметь своего. Когда мы встретились с Дофином, мне показалось, что вот оно, счастье, – юноша, который будет слушать меня так, как я слушал Ленина. Дофин смотрел на меня во все глаза, ловил каждое мое слово. Но стоило ему увидеть Леона, стоило Леону распустить хвост перед новым молодым социалистом – я мог поставить все свои мечты на полку. Туда, где стоят брошюрки моих старших товарищей. Честно говоря, я не знаю, был ли Леон умней меня. Скромность повелевает тут же сказать – да, да, конечно! Кто он и кто я? Но честность заставляет помолчать и подумать. Главное в другом. У Леона была харизма. Слыхали такое новомодное слово? Для нас, церковников, это слово очень старое, византийское, а вот политики только что про него вспомнили. Харизма – означает благодать. Излучение силы, симпатии, увлечения. У Ленина тоже была харизма. А у меня не было. Не дал Бог.
Но те, кому Бог не дал, они тоже люди. Они умеют любить и ненавидеть не слабее тех, кому Бог дал.
Мне было очень обидно видеть, как у Дофина туманятся глаза и щеки краснеют при виде Леона. Мне было очень обидно чувствовать, что моя квартира перестала быть для Дофина пусть временным, но все-таки домом, а стала чем-то вроде гостиницы. Это стало видно – по всему. Он стал по-другому вешать полотенце на крючок. Раньше он вешал его за петельку, а теперь просто набрасывал сверху, а иногда оставлял мокрое полотенце на табурете. И еще много таких вот мелочей: когда живешь в одной квартире, они сразу чувствуются.
Мне было очень обидно, что все это произошло так быстро – буквально за две недели. Из моего юного друга и будущего ученика Дофин превратился в поклонника Леона Троцкого.
Еще обиднее мне было, что Леону это очень нравилось. Какая-то неутолимая жажда быть вождем, идолом, жажда видеть влюбленные глаза… Харизма, сами понимаете, штука двойственная. С одной стороны, все бегут к обладателю харизмы. С другой стороны, неугомонная харизма заставляет этого, как бы сказать, харизматического человека– все время соблазнять людей собою…
Кто бы мог подумать, что полоумный Рамон Фернандес непристойно влюбится в Дофина и приревнует его к Леону? Тем более что никаких реальных оснований для этого не было. Они – сотый, тысячный, миллионный раз повторяю – нормальные здоровые мужчины. Но воображаемые причины – да, наверное, были. Особенно для человека с больным воображением. Потому что все это видел не только я, видели все. Даже Наталья Ивановна, жена Леона, в тот страшный день сказала: «Леон любил тебя».
В тот день, когда Дофин сказал: «Смотрите, убийца завернул топорик в женевскую газету! Убийца из Женевы».
И все почему-то подумали на Ленина.
Ленин, кстати, жил тогда вовсе не в Женеве. Хотя Мюллер и Ада Шумпетер называли его «нашим старым женевским товарищем». Это была какая-то ошибка – Ленин тогда жил в Кракове. Я был у него в Кракове, и пирожки в дорогу он мне заворачивал именно краковские, с творогом. Его кухарка испекла. В какую газету заворачивал? Скорее всего, в краковскую. Или в венскую. Но, вполне возможно, и в женевскую. Потому что «Журналь де Женев» можно было купить и в Кракове. Я видел, как он ее иногда покупал и читал. Но и в Вене тоже продается «Журналь де Женев». Больше того, и в Вене, и в Кракове можно подписаться на эту газету и получать ее всего с дневным опозданием: железные дороги опоясали Европу, и почтовые поезда весело катятся по рельсам, мир становится все теснее, а круг нашего общения – все шире. Да? Так? Я верно говорю, дорогой господин Клопфер? Или вы все-таки не Клопфер?
– Клопфер, не Клопфер, – сказал репортер. – Какая разница?
– Никакой разницы, – сказал я. – Никакой разницы, поэтому я буду называть вас «глубокоуважаемый господин репортер высокоуважаемой газеты «Wiener Beobachter», а для краткости просто – «господин репортер». Ладно?
– Ладно.
– Ну, если ладно, то я продолжу вспоминать наш разговор с Дофином.
Ангел хранил меня в тот поздний вечер, когда я подошел к окну и посмотрел наружу. Наша улочка была пуста. Вдруг показались две фигуры.
Впрочем, дорогой Дофин, мой Ангел хранил и тебя.
Потому что до этого ты уже уехал в Мюнхен поступать в мюнхенскую Архитектурную школу с рекомендациями от Клопфера. Ректор был старый социалист, верный товарищ. Ты успел написать мне письмо. Ты писал, что у тебя все в порядке. Твои рисунки произвели впечатление, и ректор обещает стипендию. Но вообще твое письмо было печальным.
Ты писал, что судьба Леона Троцкого и Владимира Ленина произвела на тебя самое тяжелое впечатление. Ты сказал, что пришел в кружок Клопфера с верой в идеалы, в социализм, в дружную работу интеллигенции во имя трудящегося класса. Но увидел нечто ужасное, живую картинку из романа Достоевского «Бесы». Особенно страшно, – писал ты мне…
– «Особенно страшно, – писал я тебе, – сказал Дофин, – что бесами оказались хорошие добрые люди. И Клопфер, который дал мне рекомендательное письмо, и оба Мюллера, и Ада Шумпетер, и Леонтина, и особенно ты, мой любимый Джузеппе. Ведь именно ты сначала накормил меня булочками, потом дал мне жилье, привел меня к Клопферу, который написал ректору в Мюнхен, и моя судьба была решена…» Так было написано?
– Почти дословно, – сказал я.
– Да? Вообще-то у меня так себе память, – сказал Дофин. – Однако важные вещи я запоминаю. Тут все было на разрыв: я очень был тебе благодарен за Клопфера, и я страшно на тебя злился за то, что разлюбил социализм. И я по-настоящему струсил, когда узнал, что убили Ленина.
– А когда убили Троцкого – нет? – удивился я.
– Разные вещи, – сказал он. – Когда убили Леона, мне стало просто страшно. А когда в отместку за Леона убили Ленина, я понял, что у ваших социалистов – вроде сицилийской мафии. Я даже переменил квартиру. У меня натурально коленки дрожали и в животе плохо было.
– Раз так, то ты меня поймешь, – сказал я.
Поймешь, что я почувствовал, когда выглянул в окно и увидел двух человек. Я знал, что они за мной. Я знал, что ничего им не смогу объяснить… Я не смогу объяснить, уговорить, убедить, оправдаться. Тем более я не смогу отбиться – оружия у меня не было.
Я услышал, как они быстрым движением чего-то тяжелого и острого вскрыли запертую входную дверь и остановились почему-то. Чиркнула спичка. Должно быть, они искали номер квартиры. Значит, я не ошибся. Значит, это ко мне. Значит, они нашли Рамона Фернандеса, и он указал на меня, оговорил меня. Возможно, они его пытали. Когда человека пытают, он может сказать что угодно, лишь бы прекратилась боль, хоть на минуту.
Минута в лучшем случае оставалась и у меня – пока они доберутся по темной лестнице до второго этажа, разыщут мою дверь и выломают замок. Я раскрыл окно. На столе лежала стопка бумаги. Паспорта и деньги были у меня в кармане пиджака. Я размашисто написал красным карандашом: «Никого не винить! Сталин» – погасил свет и вылез в окно. Окно выходило в сад, дальше шел парк, похожий более на лес. Я бежал быстро и бесшумно. Стало совсем темно. Я сначала хотел было найти в лесу какой-нибудь прудик, положить на его берегу смятую рубашку и паспорт – один из паспортов! – и потом пойти дальше, но решил, что это явно лишнее.
Я остановился, потому что устал бежать. Я много раз убегал и прятался, но это всегда было на Кавказе или в России – в Европе я прятаться не умел. Наоборот, русские революционеры приезжали в Европу именно за тем, чтобы жить, не прячась! Я огляделся. Было темно, половинная луна едва светила из-за облаков. Кто мне поможет?
Вдруг, совершенно внезапно – да, Дофин, именно так, вдруг и внезапно, как удар веткой по глазам в темном саду, как тяжелый и гулкий стук сердца посредине ночи – вдруг я почувствовал: мне поможет Бог.
В этот самый момент, в венском лесу – смешно звучит, правда? Звучит каким-то вальсом, но я другую музыку слышал тогда – в темном лесу, убегая от убийц, я вдруг понял, что Бог есть. И что Он не Мировой Дух, и не Великое Нечто – а что Он живой и истинный, и что Он сильнее и громадней всех, и что Он именно таков, каким Его воображают художники – мощный седовласый старик, сидящий на небесном троне. Я запрокинул голову. Луна едва пробивалась сквозь облака и листву. Мне вдруг показалось, что я вижу Его. Нет, не Его самого, а уходящее в небесную вышину подножие Его трона. Я вышел из-под дерева на небольшую прогалину. Ветки не заслоняли небо. По небу катились облака, сбоку светила луна, но в разрывы облаков я видел как бы могучие резные столпы, которые опираются на края земли.
Да, я их узрел. И я понял, что мне делать дальше.
Я встал с колен – оказывается, я стоял на коленях, запрокинув голову вверх – я встал с колен, отер слезы и перевел дыхание.
Прошел по этому парку еще полверсты, вышел на тихую незнакомую мне улочку, отряхнулся, почистил брюки, пригладил волосы и сообразил, как выйти к Линцерштрассе. А там уже нанял извозчика, потому что до Яуресгассе, где была русская церковь, было далеко. Не меньше семи верст.
Ангел мой хранитель сотворил новое чудо: в Свято-Николаевском соборе служили полунощницу. По древнему монастырскому уставу. В храме никого не было. Я перекрестился и вошел неслышно. Монах в черной ризе негромко читал сто восемнадцатый псалом. « Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя». Я повторил эти слова шепотом, по-русски: «Умножилась на мне неправда гордых». То есть – «гордые оболгали меня». Голос монаха был чистый и сильный, как будто бы знакомый. Что это? Тон его голоса, выговор – Боже! Это был грузин, вот еще одно чудо Ангела моего, хранителя небесного. Я дождался конца псалма, позвал его тихо по-грузински – он обернулся, я пал на колени перед ним. Он возложил ладонь на бедную голову мою и благословил меня по-грузински, я поцеловал его руку и заплакал, и покаялся во всем.
Утром этот монах, отец Амфилохий, отправил меня со всеми письмами в Румынию, в Путненский монастырь, к отцу Стефану; там я принял постриг, имя же мне дали Иосиф, ибо паспорт у меня был совсем на другое имя.
Я попросил, чтобы меня в пострижении нарекли Иосифом, в память одного из двух великих Иосифов. В память обручника Богородицы и Приснодевы Марии, который держал на руках, нянчил и баюкал Спасителя нашего, Сына Божия или в честь тайного ученика Христа, святого Иосифа Аримафейского – того, который упросил римлян, чтобы ему отдали тело Спасителя. Иосиф, который первым встретил Христа в его земной жизни, и Иосиф, который последним его проводил – из земной жизни, разумеется. Это дерзость была – просить о таком имени. И еще, конечно, хотелось вернуться к своему имени, которым меня назвали при крещении. Мне тридцать три – и я уже лет пятнадцать ношу чужие имена. Думаю, Бог мне простил. Я тайно покаялся, и Он простил.
– Откуда ты знаешь? – спросил Дофин.
Он отщипывал кусочки от салфетки, скатывал из них крохотные шарики и щелчком сбивал со стола. Кельнер хмуро глядел на него из-за стойки.
– Я это точно знаю, – сказал я. – Потому что ангелам своим Он заповедал обо мне, чтоб они охраняли меня на всех путях моих.
– И как? – усмехнулся Дофин. – Получилось?
– Еще как! Ангелы несли меня на руках, и я ни разу не преткнулся о камень.
Получилось.
Все прекрасно получилось. Из Румынии я поехал в Грецию, в Солунь, или в Фессалоники, если угодно. Оттуда через пару месяцев на полугрузовом пароходе «Неаполь» я поплыл в объезд Европы, в Гельсингфорс, где оказался в июне четырнадцатого года, за два месяца до Великой войны.
Долгими тошнотворными днями морского путешествия я жевал, и пережевывал, и в конце концов проглотил одну важнейшую мысль: социализма больше нет. Русский революционный социализм воплощался в двух людях – во Владимире Ленине и Леоне Троцком. Великий стратег революции, и ее великий воин. Остальные – кордебалет, эпизодические роли. Я был готов играть в эпизодах этой великой мировой драмы. Но если сказать совсем уж искренне, то конечно: я хотел быть третьим. Я не мог сравняться ни с Лениным, ни с Троцким. Но я мог бы стать главным делопроизводителем революции, ее счетоводом и инженером. Ассенизатором и мусорщиком, да! Да! Делать каждодневную работу – трудную, однообразную, иногда грязную и жестокую. Я бы сумел. Это был бы великий революционный триумвират – Ленин, Троцкий и Сталин. Но вышло так, что остался я один. А один я ничего не смогу. И уже не хочу. И никто не виноват. Разве что я – потому что привел Дофина в кружок Клопфера, Дофину понравился Леон, а Рамону – Дофин. Но тут нет моего злого умысла, поэтому нет и вины. И вообще – какая кровавая безвкусица. Фу! Непристойная мелодрама. Однако это жизнь. История случается дважды. В виде трагедии и в виде фарса. Но самая ужасная трагедия в том, что фарс – гораздо проворнее. Он корчит рожи, приплясывает и поет свои песенки еще до того, как герои наденут трагические маски.
Леон говорил, что все мы – хоть и стыдимся того – мечтаем о большой крови. О волнах народного гнева, о бунтах, погромах и казнях. Нам мерещатся горы трупов. Такой вот революционный Вавилон – башня из трупов высотой до небес; и сделаем себе имя. В результате получилось два трупа. Леон с пробитой головой и утопленный в пруду Ленин. Вот вам и весь Вавилон, все.
В Финляндии я жил при русском храме в Таммерфорсе; некий знаменитый греческий схимник дал мне письмо к настоятелю сего храма. Меня приняли, дали мне крышу и стол, но не полюбили. Впрочем, и я сам не очень-то стремился набиться в друзья тамошним клирикам. Что я делал почти три года? Буквальным образом ничего. Если не считать нечастой помощи в службах. Я молился в храме, а в другое время сидел в келье или, если погода располагала, на скамье во дворе, и читал Священное Писание и сочинения святых отцов. И это было прекрасно. Я, стыдно сказать, даже не заметил войны.








