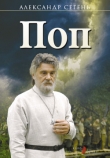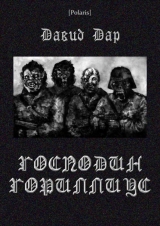
Текст книги "Господин Гориллиус"
Автор книги: Давид Дар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Глава четвертая. МЫ ГОРИЛЛЫ! МЫ ГОРИЛЛЫ!
«Моя душка, крошка Кэт! Я не могу найти таких слов, которые смогли бы передать тебе всю страсть и пламень охватившей меня любви. Я понимаю, что тебе очень трудно будет представить свою всегда такую благоразумную и выдержанную Элизабет в роли восторженной влюбленной. Но что делать, дорогая? Любовь не подвластна нашей воле. И молодая вдова может иметь душу девственной девушки.
Ты спросишь: кто он? О, душка Кэт, как трудно мне ответить тебе на этот вопрос. Он настоящий мужчина, идеал мужчины. Без сантиментов. Без размышлений. Он воюет и любит. Других дел он не знает. И с какой страстью он делает оба эти дела!.. Ах, Кэт!..»
Так писала Элизабет своей задушевной подруге.
«Уважаемая госпожа Хрупп! Примите поклон и благорасположение бедной, неутешной вдовы, оплакивающей своего незабвенного отважного супруга, отдавшего жизнь свою ради науки.
Я была бы счастлива, если бы увидела вас среди своих гостей, которые почтят меня своим присутствием на скромном рауте, имеющем быть в четверг, в пять часов вечера. Будут только свои, очень узкий и избранный круг.
Кроме того, не скрою от вас, будет один господин, недавно приехавший из Нижней Гвинеи и уже успевший завоевать в нашей стране очень большую известность. Я ничего не буду писать вам о нем, ибо что я ни написала бы, это будет настолько бледнее оригинала, что вы сочтете меня бездарной. Не сомневаюсь, что его приглашением я доставлю вам колоссальное удовольствие.
Итак, жду вас, дорогая госпожа Хрупп, вместе с вашим уважаемым супругом».
Так писала Элизабет самой знатной и влиятельной даме столицы.
А в это время в дымном зале маленького бара за грязными столиками сидела большая компания. Были здесь и студенты Брюнхенского университета из числа тех, которым учение никак не давалось, были и друзья отчаянного Фрица по прежним его похождениям – торговцы кокаином, принципиальные сутенеры и члены клуба самоубийц. Сегодня угощали малютка Ганс и отчаянный Фриц.
– Теперь нам деньги совсем не нужны, – хвастался малютка Ганс, – теперь мне уж не придется клянчить у папаши, пусть папаня поклянчит у меня на свои сосиски и сардельки…
– Жизнь – это драка, – философствовал отчаянный Фриц. – Тот, кто рассуждает да выдумывает себе всяческие жизненные преграды да условности, тот червь. Надо жить так: что хочу да что могу, то и делаю. Вот в чем мудрость. А на других наплевать. Другие пусть сами за себя думают. А вообще думают только черви. Гориллы не думают. Надо жить, не думая. Пусть за меня думают мои кулаки.
– Папочка спрашивает меня: «Что это ты такую моду выдумал носить коричневую рубашку?» – весело рассказывал малютка Ганс. – И так, говорит, обезьяна, а в этой рубашке совсем, говорит, обезьянище. Ха-ха! А я ему и отвечаю: «Не хочу больше быть человеком, а хочу стать обезьяной. Что хочу да что могу, то и делаю…»
Окружающие с удовольствием пили их пиво, с интересом слушали их странные речи и с любопытством щупали их коричневые рубашки цвета горилльей шерсти.
– В нас течет обезьянья кровь, – в упоении философствовал отчаянный Фриц, – и всякую человеческую кровь, которая течет в иных жилах, мы выпустим к чортовой матери. Эй вы, кто не хочет думать, кто не хочет считаться с другими, кто хочет жить, как живут звери, – идите за нашим учителем, за нашим вожаком, господином Гориллиусом!. Я поднимаю кружку за горилл, за Гориллиуса, за зверей!… Хох-хох-хох!..
В четверг состоялся раут у Элизабет Пиккеринг. Усиленный отряд полиции охранял квартал. Одна за другой к ярко освещенному подъезду особняка подкатывали машины, и из них выходили мужчины и дамы. Здесь был весь цвет нации. Министры, фабриканты, банкиры, политические вожди, дипломаты и несколько представителей науки и искусства.
Свет хрустальных люстр множился в лысинах, в блестящей мишуре военных и белоснежном белье штатских. Дамы сияли бриллиантами, соперничая своим ослепительным сиянием с люстрами. Одна лишь добродетельная Элизабет была одета в платье с высоким воротником и длинными рукавами.
Она была приветливой и гостеприимной хозяйкой. Каждой гостье она шептала:
– Скоро придет господин Гориллиус, о, вы влюбитесь в него, я уж знаю…
Уже собрались все. Приехали господин Хрупп с супругой, министры, посланники и артисты. Ждали только господина Гориллиуса.
Никто в высшем обществе Гориллиуса еще не видел. Но имя его было известно многим. Благодаря малютке Гансу и отчаянному Фрицу слава господина Гориллиуса быстро распространилась по всем пивным, барам и низкопошибным ресторанчикам. Боксеры передавали друг другу новый прием: удар Гориллиуса. Сутенеры передавали друг другу новый прием: любовь Гориллиуса. Неспособные студенты, отказываясь от сдачи экзаменов, ссылались на Гориллиуса… Бандиты, кокаинисты, потомки сосисочников и сарделечников повторяли: что хочу да что могу – то и делаю.
Гориллиус стал героем дня. Поэтому в высшем обществе проявляли нескрываемый интерес к этому субъекту, называвшему себя гориллой, завоевавшему такую популярность, утверждавшему столь оригинальные вещи.
И вот, наконец, появился сам господин Гориллиус. Он вошел в ярко освещенный зал в сопровождении своих двух друзей, одетых в коричневые рубашки цвета горилльей шерсти.
Казалось бы, что животное, лишь совсем недавно попавшее из диких джунглей в европейскую столицу, должно было бы растеряться, смутиться от десятков глаз, устремленных на него. Но ничуть не бывало. Горилла нисколько не смутился. Чего ему было смущаться, когда для него не существовало понятий чести, гордости, тщеславия, достоинства? Терять ему было нечего.
Он прошел по залу, будто и не заметив гостей. Только проходя мимо слишком обнаженных женщин, он слегка раздувал ноздри, и у него загорались черные, глубоко посаженные, глазки. Он подсел к Элизабет и довольно грубо облапал ее. Один за другим спешили гости знакомиться с ним. Он, сурово насупившись, протягивал каждому свою коричневую лапу и пожимал руку так, что люди морщились и гримасничали от боли.
Когда очередь дошла до министра господина фон Маме-на, он подскочил своей молодящейся походкой и, прижав руки к груди, произнес:
– Ах, дорогой господин Горилл…
Гориллиус зевнул и прорычал:
– Ну, хватит, мне это надоело. Давай чего-нибудь пожрать.
– Ах, ах, – подхватили дамы и кавалеры, – какая непринужденность, какая непосредственность: «давай чего-нибудь пожрать». Вот подлинно сын природы! Ах, ах!..
– Ну, ну, чего раскудахтались, визгливые курицы, марш в столовую, пока я не раскокал ваши птичьи черепа…
– Ах, ах, – восторгались дамы и мужчины, – чего, спрашивает, раскудахтались… Как очаровательно!.. Какой сочный язык, какая свежесть мысли!
За столом Гориллиус сидел между госпожой Хрупп и очаровательной Элизабет.
Он ни за кем не ухаживал. Сгребал со стола все самое вкусное и, нередко забываясь, начинял хватать куски руками прямо из блюда или вазы, при этом громко чавкая, сопя и разбрызгивая соуса на туалеты своих соседок.
Однако все это воспринималось высшим светом как проявление чрезвычайной оригинальности, непосредственности, экстравагантности, независимости и протеста против условностей.
– Скажите, – кокетливо спрашивала у него госпожа Хрупп, – правду ли говорят, что вы не человек, а горилла?
– А ты как думаешь, голобедрая самка? – отвечал он, взяв с блюда целого гуся и разрывая зубами его мясо. – Я разорвал бы нутро своей матери, если бы она родила меня жалким человечком, – говорил он, чавкая и лязгая зубами.
– Ах, вы слышите, он бы разорвал нутро своей матери… – передавали гости один другому, вокруг стола.
– А каковы ваши политические убеждения? – не унималась госпожа Хрупп, желая занять и развлечь своего оригинального соседа.
– Это вы, людишки, занимаетесь убеждениями. А нам, зверям, убеждения ни к чему. Мои убеждения – это мои кулаки. Вот какие мои убеждения.
– Ах, как это оригинально и мудро! – воскликнул господин министр фон Мамен. – «Мои убеждения – это мои кулаки!» Это изречение достойно Фридриха Великого, господа! «Мои убеждения – это мои кулаки!»
– Но все-таки, какова же ваша программа? – настаивала госпожа Хрупп.
– Ох пристала, ох пристала! – отмахивался горилла, вытирая свою сальную морду рукавом черного фрака. – Какая там программа? Я хочу есть, пить, спать со своими самками да ломать хребет всякому, кто помешает мне это делать.
Господин фон Мамен даже подскочил от энтузиазма:
– Вы послушайте, господа, какая глубина мысли! Ведь это же глубочайшая философия! Ведь программы всех политических партий по существу сводятся к тому, чтобы дать человеку возможность есть, пить да… э-э-э… любить. Ведь в этом по существу корень всей политики. Ведь это по существу и есть разрешение рабочего вопроса и всех других вопросов! Ведь это же подлинная философия!
– Какая там философия? Чего ты бубнишь, старый осел? – удивился Гориллиус. – Просто есть, пить да развлекаться с самочками без всякой философии!
– Но, простите, – отложил в сторону нож и вилку профессор Давид Дерви. – А наука? Познание природы? Расширение своих знаний?
– Жри ее сам, свою науку, я и без нее сыт! – коротко ответил Гориллиус.
– Но искусство? – спросил Авраам Равинский. – Разве может человек жить без искусства? Без музыки?
– Моя музыка в моем животе, – глубокомысленно разъяснил горилла. – Когда там полно, там что-то бурчит. Лучшей музыки мне не надобно.
– А как же, простите, господа, мне не понятно, – почти плача, взмолился Роберт Ван Барро, – а для чего же лучшие люди человечества создавали свои изумительные творения, для чего же жили Рафаэль, да Винчи, Гойя, Роден? Для чего неизвестный гениальный ваятель сделал свою мраморную Венеру?
– Спи сам со своей мраморной Венерой, а мне больше по нраву этакая волосатая….
Дамы и мужчины повторяли каждое слово гориллы, восторгаясь смелостью его суждений…
Но старик Давид Дерви поднялся из-за стола.
– Я не могу с этим согласиться, господа. Господин Гориллиус хочет низвести человечество до уровня животных.
– Почему низвести? – вмешалась Элизабет Пиккеринг. – Вы, может быть, слышали, что один молодой студент, который, кстати, присутствует здесь, нашел в архивах Брюнхенского университета высказывания Фридриха Великого, что человек произошел от обезьяны и надо нам возвыситься до наших предков.
– Да, да, я тоже слышал об этом крупнейшем открытии, – поддержал министр фон Мамен.
– Но, господа, – дрожащим голосом взывал Авраам Равинский, – если нам надо уподобиться обезьянам, то кому нужна моя симфония? В ней выразил я всю мощь, всю силу и красоту человеческого духа. Я вложил в нее все самое лучшее, что у меня есть. Свою душу, свою страсть, свою любовь к человечеству. Так неужели же бурчание живота вам будет приятнее и нужнее?
– Ха, ха, вот именно бурчание живота, если хотите, приятнее, как говорит господин Гориллиус! – поспешила ответить Элизабет.
– Так вы хотите закрыть музеи, покрыть чехлами статуи? – в ужасе шептал Ван Барро.
– Нет, старая песочница, я хочу сломать эти статуи и кусками бить по твоей глупой башке, – охотно пояснил Гориллиус.
– Господин, вы забываетесь, – вспылил Ван Барро и вскочил из-за стола. – Я не позволю себя оскорблять, я член Академии, я…
– Ты член Академии? Подумаешь, шишка! А я горилла… Так кто же из нас сильнее?
И с этими словами господин Гориллиус откинул свой стул и перепрыгнул через стол, опрокинув бутылки и свалив на пол блюда и тарелки. Схватив старого художника своими могучими лапами, он подбежал с ним к окну и замахнулся…
Все вскочили из-за стола. Авраам Равинский и Давид Дерви раньше всех очутились около гориллы, чтобы спасти старого и уважаемого художника.
– Что вы делаете? Опомнитесь! – кричал Равинский.
Но было уже поздно. Стекло зазвенело, и Роберт Ван Барро вылетел с третьего этажа на площадь.
Равинский вцепился в сюртук гориллы, но тоже был поднят кверху и с размаха выброшен вслед за художником. За ними последовал и их третий приятель…
Тогда горилла обернулся. Он был страшен в этот момент. Его шерсть стояла дыбом, пена стекала по отвисшей губе. Забывшись, он встал на четвереньки и несколькими прыжками добрался до двери.
Гости стояли пораженные.
– Он понервничал, – объяснила Элизабет, – он ужасно вспыльчивый, его нельзя раздражать.
– Да нет, – поправил ее господин фон Мамен, – господин Гориллиус не столько нервен, сколь принципиален. Он готов кровью отвечать за свои убеждения. Он урожденный политический вождь.
Господин Хрупп единственный из всех гостей продолжал спокойно доедать крылышко рябчика. Все, что не грозило его прибылям, его нисколько не волновало. «Ну, тремя знаменитостями будет меньше на земле… Тоже событие!» Однако, когда его супруга вернулась на место, он выдавил из набитого рта несколько слов, прерываемых длинными паузами, чтобы прожевать пищу.
– Вот, мамочка, человек сильной воли. Не слов, а… действий… вот такое бы мне правительство, это… не то, что всякие там… мамены… Он бы уж… не дал спуска марксистам и рабочим… Пригласи его, мамочка, как-нибудь к нам…
Эти слова хотя и были сказаны совсем тихо и предназначались только для госпожи Хрупп, но были услышаны всеми. Потому что так уж устроено человеческое ухо, что чем тише слово сказано, тем громче оно звучит… И тотчас все стали передавать друг другу на ухо:
«Вот человек воли и действия, это не то, что там всякие мамены…»
И даже сам министр господин фон Мамен, и тот потихоньку сообщил своему соседу: «Вы слышали, что сказал господин Хрупп? Он сказал: вот человек воли и действия, это не то, что всякие там… такие…»
Но не успели еще гости разойтись, как услышали сильный грохот, доносящийся сверху. Озабоченная Элизабет хотела подняться на четвертый этаж, посмотреть, что там происходит. Но сделать это ей не удалось, так как по лестнице сверху вниз катились люди: один, другой, третий… Докатившись до площадки и чуть не сбив с ног хозяйку, они растерянно поднялись на ноги. Потирая ушибленные места, перед нею предстали шесть полицейских.
– Что вы здесь делаете? – спросила Элизабет.
– Как видите, – доложил молоденький офицер, – мы подверглись сопротивлению. У меня есть ордер на арест господина Гориллиуса за убийство Роберта Ван Барро, Давида Дерви и за увечье Авраама Равинского. Но господин Гориллиус не захотел идти под арест и, как видите…
– Да, господа, вам не легко будет справиться с ним, и я бы советовала оставить его в покое…
– Да, мадам, но, мадам, конституция. Нельзя… он же убил, так что нам придется вернуться с удвоенным составом отряда.
И действительно, это было не пустой угрозой. Вскоре вернулся значительно больший отряд полиции. Наверху прогремели выстрелы. Но когда Элизабет выбежала наверх, чтобы спасти своего господина Гориллиуса, ее опять чуть не сшибли с ног полицейские, которые вновь катились по уже знакомому наклонному пути.
– Что же делать, мадам? – сказал ей офицер. – Вы уж извините нас за беспокойство, но нам придется взять господина Гориллиуса приступом.
– Господа, – ответила Элизабет, – если уж совершенно необходимо арестовать его, то я уговорю его отдаться вам в руки добровольно, потому что он ничем не рискует: преступление его ничтожно. Так сказал сам министр внутренних дел фон Мамен. Эти господа сами вели себя вызывающе и оскорбительно отзывались о принципах господина Гориллиуса. А все трое бесполезные и нежизнеспособные интеллигенты. Но… одно условие: в его камере должна быть мягкая удобная постель. И один ключ от камеры должен быть вручен мне, так как я хочу лично проверить, в каких условиях он будет содержаться. Если вы не можете дать мне на это разрешение, то я сейчас же получу его от министра внутренних дел фон Мамена.
После этого Элизабет поднялась к Гориллиусу и сказала ему проникновенным голосом:
– Ну, горилльчик мой, ну не сердись, не надувай губок. Дай арестовать себя, и завтра ты будешь выпущен с таким почетом, какого еще не видел.
Гориллиус покорно спустился вниз и даже протянул свои лапы, чтобы на них надели ручные кандалы. Но кандалы не сошлись на слишком толстых запястьях, и без кандалов его посадили в автомобиль и увезли в тюрьму.
Когда автомобиль отходил от дома, из окон третьего этажа высунулось много рук. Ему махали цветами, бокалами и кричали:
– Не унывайте, господин Гориллиус! Вы скоро будете свободны. Вы жертва полиции, как и все политические вожди! Пока! Пока!
На следующий день во всех газетах появились сообщения об аресте господина Гориллиуса.
Крупнейшая газета, издававшаяся на средства господина Хруппа, вышла в этот день с передовой, озаглавленной: «Руки прочь от нашего господина Гориллиуса».
«Вся страна негодует! – начиналась передовая. – Вопиющее бесчинство допустила полиция, посадившая под арест вождя всех тех, кому надоело водиться с интеллигентами, мыслителями и другими марксистами, господина Гориллиуса. Господин Гориллиус – лучший представитель нашего поколения. Не мешало бы нашему правительству многому поучиться у господина Гориллиуса.
Дорогой господин Гориллиус! Выкинув в окно трех паршивых евреев (двое из них хотя и не евреи по крови, но евреи по духу), ты сделал общественно-полезное дело. Потому что ни для кого не секрет, что история Давида Дерви подстрекала рабочих к бунту. Симфонии Авраама Равинского делали рабочего таким самоуверенным, что он готов был пойти против своих хозяев, а картины Ван Барро нередко изображали революционеров разных эпох.
Нам не нужно никаких интеллигентов, потому что всякая интеллигентность является пособничеством марксизму. Бурчание живота нам дороже симфоний всех Равинских и Бетховенов. Наши собственные жены нам дороже мраморных венер.
Еще Фридрих Великий сказал: „Назад к обезьянам!“. Так станем же обезьянами, этими нашими благородными праотцами, сворачивающими скулы всем и всяким своим врагам, ломающим хребты и черепа!
Надевайте коричневые рубашки цвета горилльей шерсти! Мы требуем немедленного освобождения Гориллиуса! Если вы не выпустите нашего вожака, то мы выпустим ваши кишки!»
Социал-демократическая газета освещала это событие несколько иначе. Она писала:
«Мир вашему праху, дорогие и незабвенные Роберт Ван Барро и Давид Дерви. Нет слов выразить нашу печаль. Но вы пострадали за свою несдержанность и за свой темперамент, потому что каждому понятно, что вы не должны были перечить уважаемому господину Гориллиусу, который не терпит споров. Что же, все великие люди несдержанны. Вы умерли благородной смертью, и история вас не забудет».
И только одна небольшая газета писала:
«На наших глазах сейчас происходит удивительная комедия, которая может превратиться в трагедию. Дикая горилла, попавшая в нашу страну, является орудием в руках тех, кому это выгодно. Дикая горилла проповедует необходимость возвращения к животному образу жизни. Массовый психоз начинает овладевать многими неустойчивыми людьми, запутавшимися в общественных противоречиях. Но рабочий класс и подлинная интеллигенция никогда не согласятся подражать диким зверям, а будут стремиться к расцвету человеческих способностей, культуры и искусства. Мы требуем от правительства, чтобы горилла, которая сейчас находится в тюрьме, была бы немедленно, без суда и следствия (так как нельзя зверя судить по человеческим законам), отправлена в зоологический сад и посажена в клетку. Такова воля всего народа, всего рабочего класса, всех действительно передовых людей нашей страны».
Так или иначе, но все газеты писали о господине Гориллиусе. И в этот день его известность неизмеримо выросла.
В полдень на площадь перед тюрьмой вышла колонна демонстрантов. Впереди шли малютка Ганс и отчаянный Фриц. Они были одеты в коричневые рубашки, как и большинство идущих за ними. Среди демонстрантов в автомобиле ехала Элизабет Пиккеринг, также одетая в коричневое манто, сделанное из обезьяньего меха. Рядом с нею сидело еще несколько высокопоставленных дам и мужчин. Демонстранты были вооружены дубинками, палками и камнями. Над их головами колыхались плакаты и лозунги:
«Один палец гориллы стоит больше, чем все интеллигенты вместе».
«Долой человеческую культуру! Долой условности! Долой мысль! Станем гориллами!»
«Что хочу да что могу – то и делаю!»
«Выпустите нашего Гориллиуса, а не то мы выпустим ваши кишки».
Как только колонна демонстрантов два раза продефилировала мимо тюремных стен, с другой улицы приехал министр фон Мамен. Он робко постучал в камеру Гориллиуса и спросил:
– Разрешите войти?
– Входи, копыто жирафа..
– Здравствуйте, господин Гориллиус! Я должен вам принести извинения за причиненное беспокойство. Вы можете считать себя свободным. Присужденный с вас штраф в сумме двадцати пяти марок изволила уплатить госпожа Хрупп.
Услышав это, горилла оттолкнул фон Мамена и, прихрамывая, вышел из тюрьмы, провожаемый почтительными поклонами тюремщиков.
На площади он увидел толпу. В воздух полетели шапки.
– Да здравствует горилла! – орали коричневые люди. – Да здравствует господин Гориллиус, наш вожак и учитель!
Горилла был доволен. Он подумал: «Надо будет сказать Элизабетке, чтобы она дала телеграмму в Нижнюю Гвинею, пусть пошлют нарочного в долину Горячих Вод и доставят на пароходе в Европу все мое стадо и самого обезьяноподобного».
Между тем его сразу же окружили приближенные. Малютка Ганс, отчаянный Фриц и добродетельная Элизабет пожимали ему руки и обнимали его.
– Надо выступить! – сказал отчаянный Фриц. – Надо сказать речь.
– Ну и говори сам, длинноязыкая ящерица.
– Нет, надо, чтобы вы сами сказали речь, учитель… Видите – все ждут.
– Моя речь – это мои кулаки. Я могу ими расшибить все это стадо и проломить все черепа, а говорят пусть другие.
– Это все друзья ваши, и они хотят слушать ваш драгоценный рев.
Тогда горилла встал во весь рост на сиденье автомобиля и зарычал на всю площадь:
– Эй вы, людишки, чего собрались глазеть на меня, будто я черепаха. Вместо того чтобы болтать языком, шли бы вы развлечься и потрясти кулаками, а то как бы у вас кулаки не отсохли от бездействия. За мной, людишечки, за мной!
И он соскочил с автомобиля и скачками понесся через площадь, объятый жаждой бить, крошить, убивать, рвать…
– Сюда, сюда, – говорил ему малютка Ганс, – здесь живут рабочие моего папаши… Все они мечтают читать и учиться. Поучим-ка их, учитель…
Учителю было совершенно безразлично, кого бить. Сюда – так сюда…
Во главе большой коричневой толпы добежали они до района, который был населен рабочими и трудовой беднотой, и стали крошить окна домов и магазинов. Прохожие попрятались в подворотни, но их вытаскивали и били. Горилла хватал людей за ноги и разбивал им черепа о фонарные столбы.
За одним из углов большая толпа рабочих, вооружившись чем только можно и забаррикадировав улицу ящиками, кроватями, бочками, преградила погромщикам путь.
– Успокойтесь! – кричали из-за баррикад люди. – Придите в себя, безумцы! Посмотрите, на кого вы похожи! Вы действительно потеряли человеческий облик и стали похожи на своего вожака…
– Ууу… – ревели коричневые люди, – мы и есть гориллы. Бей, кроши, режь!..
Но люди оказались не трусами. И, несмотря на всю гориллью ярость, они не дали бы им продвинуться ни на один шаг дальше, если бы не отряд полиции, примчавшийся на автомобилях и мотоциклах из центра города…
– В чем тут дело? – заорал офицер, обращаясь к людям, стоящим за баррикадой. – Кто вам дал право нарушать правила уличного движения и закрывать дорогу для гуляющей публики?
Один из обороняющихся крикнул:
– Мы защищаем свои жизни, свои семьи, свои дома! Посмотрите на их разъяренные морды…
– При чем тут морды? – еще громче закричал офицер, – Они просто веселятся, а мы не допустим, чтобы всякие проходимцы мешали веселиться честным людям.
И с этими словами он отдал приказ стрелять по баррикаде.
На следующий день газеты, принадлежащие господину Хруппу, писали:
«Вчера вечером компания молодежи, во главе с господином Гориллиусом, гуляла по городу, когда на нее напала толпа марксистов и революционеров. Господин Гориллиус проявил себя как подлинный патриот. Памятуя, что лучшая защита – это наступление, он так проучил напавших на него большевиков, что если бы правительство поучилось у него, то был бы давно урегулирован рабочий вопрос и не было бы никаких революционных беспорядков».
Известность Гориллиуса росла буквально по часам. Самые светские дамы стали носить, по примеру Элизабет и госпожи Хрупп, манто из коричневого обезьяньего меха. Появилась модная прическа а-ля-горилль. Она заключалась в том, что волосы начесывались на лоб, чтобы лоб казался как можно меньше.
Самым модным цветом стал коричневый. Дамы носили туфельки, покрытые коричневой шерстью. Они назывались гориллетки. Мужчины стали носить манишки коричневого цвета, которые именовались гориллками.
В ресторанах, барах и пивных играли и напевали новый самый модный фокстрот «Мы гориллы! Мы гориллы!». Он начинался так:
Ах, мы гориллушки, ах, мы животные,
Мы не мудры, но так сильны!
Всегда мы яростны и беззаботные,
А наши самочки так милы!
Оставим книжки мы, сломаем скрипки мы
И будем слушать, как бурчит живот!
Потом мы с улыбками, потом с ужимками
Набьем продуктами свой жадный рот!
Ах, мы гориллушки, ах, мы животные,
Мы не мудры, но так, сильны!
Всегда мы яростны и беззаботные,
А наши самочки так милы!
Между тем Брюнхенский университет издал диссертацию отчаянного Фрица, благодаря которой он получил ученую степень доктора исторических наук. Диссертация эта была не длинной, вернее даже совсем короткой – на одну страничку. В ней отчаянный Фриц сообщал, что в результате длительных научных трудов ему удалось доподлинно установить, что еще задолго до Дарвина Фридрих Великий высказал мысль о родстве человека и обезьяны и призывал вернуться к обезьяньему существованию.
Вслед за этим сообщением было приведено заключение ученой комиссии. Это заключение гласило, что открытие молодого коллеги имеет колоссальное научное и политическое значение. Комиссия видит свидетельство особенно серьезного отношения и глубоко научного подхода молодого ученого к фактам в том обстоятельстве, что диссертант не нашел нужным ничего добавить и как-либо комментировать исторические слова Фридриха Великого, проявив в этом похвальную скромность. В силу всего вышеизложенного комиссия присуждает диссертанту докторскую степень, а также обращается в Академию с просьбой избрать молодого ученого в ряды бессмертных.
Вскоре после этого госпожа Хрупп, согласно желанию своего высокопоставленного супруга, пригласила Гориллиуса посетить их дом. После окончания парадного обеда господин Хрупп пригласил Гориллиуса в свой кабинет и, открыв перед ним ящик с сигарами, сказал:
– Ну, теперь мы с вами поговорим как мужчина с мужчиной. Я с большим вниманием слежу за вашей деятельностью, дорогой господин Гориллиус, и больше того, для вас не секрет, что я вас поддерживаю. В этом вы могли убедиться. Однако, мой дорогой, мне непонятна ваша цель. Собственно говоря, с кем же вы воюете и за что?
Горилла задумался. Цель? Действительно, какова его цель? И с кем же он, действительно, воюет?
– Воюю я, – ответил он наконец, – со всеми людьми.
– С людьми? Но это же наивно. Ведь люди такие разные. Вот я, например, человек. И мой рабочий тоже человек. Так разве же вам все равно кого убивать?
– А я того убиваю, кто меньше похож на гориллу, кто более голотелый, бессильный, кто вызывает мою ярость и мое гориллье презрение.
– Те-те-те, мой милый, да вы еще, как я вижу, совсем глупый. Вы в политэкономии ничегошеньки не разбираетесь. Ну, хорошо, я вас быстренько научу. Скажите мне, мой дорогой, чего вы, собственно, хотите от жизни?
– Опять старая песня, – недовольно ворчал горилла, не любивший разговоров вообще, а тем более на такие абстрактно-философские темы. – Я уже двадцать раз говорил, что я хочу крови, чтоб зубы и когти мои не тупились, чтоб мускулы не обмякли. Затем я хочу…
– Одну секунду, батенька, не торопитесь. Так и запишем: первое – крови. Дальше. Второе?
– Пищи.
– Так, пищи. Третье?
– Самок.
– Пишем: третье самок. Дальше?
– Дальше? Дальше? Ну, вот и все. Больше мне от жизни ничего не надо.
– Прекрасно! – обрадовался господин Хрупп и даже привскочил с кресла, потирая руки. – Прекрасно, очаровательно, превосходно. Я вас берусь в избытке обеспечить кровью, пищей и самками. Хорошо? Больше того, я сделаю вас самым влиятельным лицом на свете. Пожалуйста! Но за это вы должны направить свою ярость против тех, на которых я укажу. Согласны? Еще бы, почему бы вам не согласиться! Не все ли вам равно, кого давить и грызть? Правда? А меня ваша программа вполне, вполне устраивает. Хотя вы и обезьяна, я вам откровенно скажу, что я не откажусь, чтобы на моем заводе работали обезьяны, а не люди. Никаких книг, которые обычно являются рассадником марксизма! Никаких образований, никаких требований! Восторг, ей-богу, восторг! Вот мы с вами и стали друзьями. Ха-ха! Господин Хрупп и господин Гориллиус! Неплохой союз. Это ничего, что вы обезьяна. Раз вы мне поможете приумножить мои прибыли, то вы можете быть хоть чортом, хоть дьяволом, это ваше личное дело. Короче говоря, выставляйте свою кандидатуру в члены правительства. Я ее поддержу, будьте покойны… Я не стану вам объяснять, что такое кандидатура и как ее выставлять. Предоставьте действовать мне и вашим человеческим друзьям. Итак, я вас больше не задерживаю, мой дорогой, у меня, знаете ли, дела…
И он быстро пожал своей пухлой ручкой мохнатую лапу гориллы и бросился к телефонам, отдавая разнообразные распоряжения своим банкам, рудникам, заводам.
Вернувшись домой, Гориллиус встретил очень обеспокоенную Элизабет.
– В чем дело, Элизабетка?
– Дело плохо, мой горилльчик. Я получила радиограмму: твое стадо, а с ним и мой муж завтра прибывают сюда.
– Ну и что же?
– Но он мой муж.
– Ну и в чем же дело?
– Но я должна быть ему верна. Ах, и кто теперь будет выискивать у тебя по вечерам насекомых, и кто будет теперь расчесывать твою коричневую шерстку?
– Ты, – ответил Гориллиус. – Еще не было в моем стаде такого самца, который отбил бы у меня самку. Я раскрошу ему череп и вырву ноги из их основания, если только этот беложивотый пингвин посмеет к тебе хоть прикоснуться.
Однако Элизабет не повеселела.
– Но и ты меня наверно разлюбишь. Ведь приедут твои старые самки.
– Дура! – сурово ответил горилла. – Если бы даже у меня было и сто самок, я никогда не отказался бы от сто первой.
В день приезда горилльего стада все приверженцы Гориллиуса были взволнованы и празднично настроены. К порту направилась большая колонна гориллоподобных, одетых в коричневые рубашки. Впереди колонны в автомобилях ехали господин Гориллиус, Элизабет и многие официальные лица города.
Когда пароход подошел к причалу, сводный государственный оркестр, по взмаху дирижерской палочки, заиграл фокстрот «Мы гориллы! Мы гориллы!». Но Гориллиус подошел к дирижеру и одним взмахом швырнул его в воду. За ним полетели еще несколько скрипачей, трубачей и кларнетистов, вместе со своими инструментами.