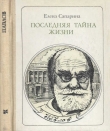Текст книги "Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
ІI. ЛОЗАННА. ПАРИЖ
Говорят, что с древних времён, когда средь редкого народонаселения ходили кожаные рубли и деревянные полтинники, – с той давней поры сохранилась в нас тяга к дальним странствиям. Зачем, в своё время, наши пращуры брали мешок и отправлялись в путь-дорогу – это ясно: голод не тётя ни в какие времена, ни в свои, ни в чужие, и настойчивое желание добыть что-нибудь съедобное гнало прямоходящего во все стороны света. Но нынче?! Смена мест, отнюдь не связанная с бескормицей, наполняет путешественника чувством власти над простором земли и ласкает его любопытство.
Лозанна с первого взгляда заставила Володю, который именовался теперь месье Вальдемар Хавкин, вспомнить Одессу. Именно заставила, потому что вот уже два месяца, проплывшие после побега, Володя почти не вспоминал родной город, как и всё то, что, прости господи, он там оставил. Лозанна бегом спускалась к воде, как ребёнок с горки, и, хоть вода была и не Чёрным морем, а Женевским озером, всё получалось очень даже похоже. Глядя на Лозанну снизу, с берега, Вальдемар угадывал Одессу вполне прохладно; душа его не участвовала в этой игре с прошлым… Другое дело – ему здесь нравилось, в этой Лозанне. И наметившаяся возможность получить работу в Академии, на кафедре биологии, и провести здесь всю зиму, а весной ехать в Париж, в Париж, в Париж, – пришлась ему по душе…
Забрезжившая эта работа приват-доцентом в Академии – старинной модели нарождавшегося Лозаннского университета – не с синего швейцарского неба на него свалилась: Мечников не оставлял вниманием своего ученика, следил за его передвижениями по Европе и помогал чем мог. Рекомендации великого учёного для начинавшего свой путь в научное будущее выпускника Одесского университета стоили куда дороже быстролетящих денег. Вершину этого подъёма Володя видел в лабораторном зале парижского института другого великого микробиолога – Луи Пастера, с которым Мечников состоял в тесном сотрудничестве. Туда и влекли, и тащили Хавкина канаты судьбы, отчасти направляемой верою Мечникова в своего упрямого ученика.
В Лозанне месье Хавкин явился постояльцем; месяцы, проведённые им в Академии, были пересадкой по дороге в Париж. То было доброе время: жалованья с лихвой хватало на крышу над головой и прокорм, а свободные от чтения лекций часы шли на занятия в академической библиотеке и совершенствование в языках – французском, которым он свободно владел, английском и основами немецкого, – выученных в одесские студенческие годы для чтения научной литературы. Библиотечные ежедневные штудии никак не заменяли ему исследовательской лабораторной работы, но разноязычные научные журналы он проглатывал с увлечением, знакомым читателям романов Александра Дюма. Что же до лабораторного микроскопа, тут надо было запастись терпением: в Париже, в тени Пастера и Мечникова, эта мечта может осуществиться. А в Лозанне перед приват-доцентом Вальдемаром Хавкиным такая возможность просто не открывалась: микробиология до почтенной Академии ещё не добралась – её в научном сообществе дружно считали лженаукой, героями которой являются какие-то подозрительные чудаки с их смехотворными беззубыми зверушками, неразличимыми невооружённым глазом.
Первое время новое имя – месье Вальдемар – несколько царапало слух Володи Хавкина. Вроде бы, что тут такого – а что-то такое было, с горьковатым привкусом: сначала Маркус-Вольф, – мама звала Марик, а папа – Вольф, а ребе в хедере вообще называл по-библейски Мордехай. В смешанной школе и дальше, в Университете – Володя. Теперь вот, после перехода через границу – Вальдемар: именно так произносят европейцы русское имя Владимир. В Англии сэр Вальдемар, в Германии – герр. Во франкоязычных краях – месье. Милое дело! Как будто с лёгкостью, без оглядки переводят тебя с одного языка на другой, точно ты живое слово, а не живой человек… Хавкин находил в этом для себя некое нарушение верности первоисточнику, и такая самооценка будила неприятное ощущение в душе. После затяжных размышлений и прикидок он пришёл к выводу, что сокращённая форма от официального «Вальдемар» звучит приятней и милей: «Вальди». Да, это немного фамильярно, зато слух не коробит. А Вальдемара придётся сохранить для официального употребления. И пусть так и будет! Довольно перемен…
А вот перемена мест служила приложением на пути к главной цели – лабораторному столу. Леса и горы, весёлые луга с пёстрыми брызгами коров, дородные реки и синие озёра – от этих мелькающих пейзажей трудно было отвести взгляд: красиво! Вроде бы и не до красоты в той ситуации, в какую угодил нелегально перешедший границу с Европой Вальдемар Хавкин, – ни кола ни двора, одна лишь надежда греет вместо основательной изразцовой печи! Но и надежда крепче стоит на ногах, если кругом, куда ни глянь, царит чистая красота природы, а не свалки да помойки уродуют ближний и отдалённый вид.
Об этом, сидя на парковой скамье у озёрной воды, отливавшей на закате розовым молоком, раздумывал Вальдемар Хавкин, приват-доцент. Один на один с думающим на скамейке Вальди, парк был безлюден; обступившие лавочку густо-зелёные деревья с толстенными стволами, обёрнутыми добротной швейцарской корой, доброжелательно наблюдали за сидящим. В тишине, нарушаемой лишь едва слышным плеском бесконечно набегающих волн, Володя и не заметил, как на краешек его скамьи присел ухоженный старичок, взявшийся откуда ни возьмись.
– Хочу надеяться, молодой человек, что я вам не помешал и не нарушил ваш покой, – сказал старичок голосом тихим и гладким. – Вижу, что вы пришли сюда за тем же, что и я. – И представился: – Месье Ипполит.
– Месье Вальдемар, – обернувшись к старичку Ипполиту, сказал Хавкин. – Просто мне здесь нравится. Очень. Вот я и пришёл посидеть.
– Посидеть-поглядеть… – тихонько повторил Ипполит. – Вот и я тоже. Смотрите-ка, какое совпадение приятное!
– Я не местный, – сообщил зачем-то Хавкин. – Я приезжий. – Он мучительно пытался вспомнить, встречал ли он когда-нибудь этого Ипполита или нет. Получалось, что такая встреча никак не могла состояться, но вместе с тем лицо старичка было до мелких деталей знакомо Володе неизвестно откуда, как будто они, например, сидели рядышком в контрабандистской лодке, под опекой турка, хотя, совершенно определённо, никакого Ипполита в фелюке не было и быть не могло. Такое необъяснимое положение заключало в себе тревогу, но то была, как ни странно, приятная тревога, хотя и совершенно необъяснимая. Оставалось, пожалуй, принять её как данность, что Володя и сделал, доверчиво поглядывая на месье Ипполита.
– И я тоже родом не из этих мест, – сказал Ипполит.
– Да? – удивился Хавкин. Он почему-то не сомневался, что ухоженный старичок – местный человек, коренной житель Лозанны.
– Да, – подтвердил месье Ипполит. – Но это совершенно мне не мешает ощущать себя полновесной частицей мира, где бы я ни находился в физическом смысле: здесь, где мне так нравится, или хоть в Китае.
– Замечательный дар… – пробормотал Хавкин. Ему хотелось продолжать разговор с этим старичком, на берегу.
– Я пожилой господин, – продолжал меж тем Ипполит. – По надуманным мерилам, можно сказать, что старик… А старость, как ничто иное в мире, нуждается в красоте, она просит красоты.
– Почему? – спросил Вальдемар Хавкин. – А молодость – разве нет?
– Перед молодым человеком раз за разом меняются, как в калейдоскопе, картинки с изображением дивной красоты, и он каждый раз выбирает вид природы, городской пейзаж или, скажем, живой портрет барышни. Молодые люди полагают, что запас этих картин неиссякаем. Не так ли?
– Да, так, – подумав, признал Вальди.
– Вот видите, – сказал старичок. – А пожилые господа куда более стабильны и уравновешены в своём выборе. Мы знаем, что вот эта отобранная нами картинка нашего мира, быть может, последняя; её мы возьмём с собой на тот берег. А больше ничего не возьмём: ни денег, ни веры с надеждой, ни красивой барышни… Вы когда-нибудь об этом задумывались, а?
– Над этим – нет, – сказал Вальди.
– Тогда над чем? – спросил Ипполит.
– Над будущим… – едва слышно признался Вальдемар Хавкин.
– Вот уж зря! – встрепенулся старичок и легонько шлёпнул себя ладонями по коленям, обтянутым превосходной тканью штучных брюк. – Будущее – это Нечто, быть может, и Бог. Знание будущего придёт в свой черёд, а, может, и не придёт вовсе.
– А над настоящим? – спросил Хавкин.
Месье Ипполит свободно поддерживал разговор, и это приходилось по душе его собеседнику.
– Молодые люди иногда хотят подправить настоящее, – охотно откликнулся старичок, – чтобы наклонить будущее к лучшему.
– Это плохо, вы думаете? – осторожно разведал бывший боевик Володя Хавкин.
– Желание светлое, – утвердил Ипполит. – Зато такая правка может сильно подпортить будущее, если после этого оно вообще состоится… Но вернёмся на землю – к тому, что я собираюсь, а вы когда-нибудь соберётесь взять с собой.
– Картину? – уточнил Вальди.
– Ну, возможно, эскиз… – сказал месье Ипполит. – Вот это, в моём представлении, и есть совершенная красота, – он плавно повёл рукой, обводя тихую воду озера, выгнутый дугой берег и подступившую к нему высокую ограду леса. – Глядите же: просто прелесть! Здесь так приятно досматривать картинки и доживать жизнь.
– А вы ещё сюда придёте, месье Ипполит? – спросил Вальди.
Ему хотелось, чтоб старичок пришёл снова, и можно было бы с ним сидеть на скамейке и разговаривать о красоте, которую он собирается взять с собой на тот берег.
– Э! – сказал в ответ на это Ипполит. – Вы призываете меня заглянуть в будущее, мой молодой собеседник! Но не в моей власти разглядеть там что-либо – ни приход, ни уход.
Сложно решить, какой язык трудней – русский или немецкий: одному так, другому эдак. Недаром говорят: «Что русскому здо́рово, то немцу карачун». То же касается и английского, и французского. К концу учебного года, к весне, приват-доцент Вальдемар Хавкин управлялся с французским, на котором он вёл занятия со студентами, не хуже чем с русским. Ну, разве что на самую малость… Не вырос вокруг него языковый барьер в Европе, и это облегчало жизнь. Он был восприимчив к языкам – с тех ещё пор, когда в трёхлетнем возрасте ходил учиться в хедер и за усердие получал от учителя сахарное печенье в форме еврейских букв. Так он учил библейский иврит, а идиш слышал от рожденья, и этот простонародный язык помог ему освоиться с немецким, когда возникла нужда. Евреи вообще склонны к языкам, а одесские евреи в особенности.
В весенний Париж, светившийся солнцем, как лимонная долька, Вальдемар Хавкин явился полным надежд, переполнявших душу и переливавшихся всеми семью цветами радуги. Надежда подобна парусу, досыта налитому ветром; кто знает, куда скользнёт лодка, в какую сторону пути… И кто бы предостерёг Вальди от того, что надежда, случается, выплёскивается за серебряный ободок души россыпью огненных брызг и увечит, а то и смерть несёт мечтателю. Кто бы знал!
Великий город лежал, вольно раскинув лапы. Вот он, перед глазами! Предстояло его если и не завоевать, то хотя бы приручить. Хавкин отдавал себе отчёт в том, что таких, как он, завоевателей – тьмы и тьмы, и каждый рвётся к своей цели подобно камню, выпущенному из пращи. Считаные камни поразят цель, считаные счастливчики добьются своего… Крутые тропы, без указателей и отчётливых следов первопроходцев, вели к сердцу Парижа – но с крутизною подъёма надежда Вальди на успех лишь крепла, как одинокий голос под сводами собора Нотр-Дам: там, вверху, светил, подобно путеводному маяку, великий Мечников. Он, один-единственный во всём свете, знал достоверно, что привело Хавкина в этот вожделенный город, он доверял устремлениям своего ученика и разделял его надежды на успех и победу.
Но Мечникова не оказалось в Париже, он уехал на юг на полтора месяца.
Битый час бродил Вальди вокруг роскошного трёхэтажного особняка в Пятнадцатом округе, разглядывал высокие окна и охраняемый парадный подъезд, вход в который был открыт только для посвящённых. Хавкин к этим посвящённым пока ещё не относился, во владения Луи Пастера пробраться было трудней, чем из Одессы в Румынию, – но зато он мог вдосталь мечтать о том, как будет допущен в Институт, за эти сверкающие стёклами окна, в одну из лабораторий. А где, интересно знать, расположен кабинет Пастера? Может, наверху, в одной из мансард? А лаборатория? Неужели и он, Володя Хавкин, скоро займёт своё место здесь – в центре мировой микробиологии? Кружа вокруг Института, он примерялся к чреву этого знаменитого дома: лабораторные залы, библиотека, тихие коридоры и лестницы, ведущие с этажа на этаж.
До возвращения Мечникова с юга всё это оставалось фата-морганой. Да и сам громадный город не стал ещё собранием бульваров и домов, сохраняя в зорких глазах Хавкина чарующие очертания миража. Громадный город, в котором из миллионов одушевлённых и бездушных предметов теплей всего оказался особняк Пастеровского института, куда вход беглому одесситу был закрыт. Несравнимо теплей, чем фанерная времянка торговки Люсиль с её расхлябанным топчаном.
Эта Люсиль торговала на Центральном рынке искусственными цветами, склеенными из птичьих перьев. Кому-то, как видно, они приходились по вкусу: сбрызнутая дешёвым одеколоном продукция Люсиль пользовалась спросом, хотя очереди за нею не выстраивались.
Кормившаяся цветочно-перьевым делом, Люсиль обладала вздорным характером. В мужчинах она более всего ценила напор и жеребячью неутомимость, и беспечную жизнь в фанерной каморке с крепышом Вальдемаром не променяла бы на скучное существование в собственном каменном доме с каким-нибудь худосочным сорбонским очкариком.
Вздорная Люсиль и в сахарном полночном сне представить себе не могла, что её крепыш большую часть своей сознательной жизни провёл за книгами или уставившись в стеклянный глазок железной увеличительной трубки. Зарезать кого-нибудь или зашибить насмерть при такой комплекции – это вполне, этого нельзя было исключить. Но переводить время на чтение книг – вот уж нет! Такое даже в голове не укладывалось…
Каждый божий день, ни свет ни заря, Вальди поднимался с топчана и, вежливо шлёпнув Люсиль по лошадиному крупу, шагал в мясные ряды – таскать неподъёмные для среднего человека говяжьи туши, опушённые белым наплывом жира. Тяжеленные французские говяды – вчерашние быки и коровы – следовало взгромоздить на спину и, согнувшись в поясе для сохранения ножной устойчивости, нести поклажу от телеги до лавки. Такие незаурядные грузчики являлись рыночной достопримечательностью, и любопытные парижане, жертвуя утренним отдыхом, приезжали спозаранку полюбоваться силачами.
Заработок был неплох – во всяком случае, Люсиль так считала. Часть оплаты Вальди получал мясом, и это тоже очень нравилось Люсиль: цветы из перьев, при всей любви к прекрасному, никак нельзя было отправить в кастрюлю. Мясной же продукт, хоть жареный, хоть варёный, ни в ком не вызывал сомнений, особенно в трёх давних приятелях Вальдемара, возникших как-то раз прямиком из его туманного прошлого в фанерной времянке цветочной Люсиль.
– Это мои старые товарищи, – объяснил появление тройки Вальди. – Их надо подкормить, потому что им здесь не везёт.
Люсиль тотчас взялась за жарку мяса, а Вальди с товарищами коротали время готовки, попивая разливное рыночное вино. Говорили они по-русски, как когда-то на сходках «Народной воли».
От опасности сесть в острог, трое приятелей ушли через сухопутную румынскую границу. Охранное отделение эта разлука никак не опечалила: баба с возу – кобыле легче. Да и остроги по всей империи, от Бессарабии до Сахалина, не скучали от безлюдья: не успел либеральный монарх Александр Второй, царствие ему небесное, отменить крепостное право, как микроб свободы расплодился непредсказуемо и вверг подданных Короны в непотребный соблазн западного разлива. И вот уже, усилиями специалистов, многие из доморощенных бесенят очутились за решёткой или были посажены на короткий поводок. Многие – да не все… А жаль.
После убийства Стрельникова на бульварной лавочке эти трое спаслись и уцелели. Чуда тут нечего искать: прочёсывая частым жандармским гребнем сообщество одесских свободолюбцев, патриотические ловцы в голубых мундирах действовали с усердием, граничившим со страстью, – но им не хватало опыта. Нет причин для сомнений: опыт придёт с расширением практических действий, он ещё достигнет своего апогея лет через сорок, в ином политическом обрамлении.
Спасаясь от посадки, трое беглецов и не помышляли о продолжении университетской учёбы на Западе; не для того бежали, рискуя жизнью. А бежали для того, чтобы продолжать из-за границы борьбу с постылым самодержавием, колотить во все колокола и готовить почву для народной революции. Сажать на Западе за нелюбовь к русскому царю не сажали, но и входить в положение беглецов и поддерживать их в борьбе за справедливость не спешили. Свободную Европу русские дела вообще не занимали, словно речь шла не о близких соседях, а о каких-то дикарях с кокосовых островов. Тройка, возглавляемая бывшим студентом-физиком Андреем Костюченко, готова была к совершению дерзких подвигов, но ни одна живая душа не проявляла интерес к этому настрою, и, с течением времени, героический порыв чужаков, плотно обложенных мещанскими обывателями, хирел и выветривался. Долго ли, коротко тянулся такой распад, трудно было определить: время утратило для них очертания, и часы, дни и недели свалялись в комок.
Устоявшаяся жизнь бывшего подпольного соратника в фанерной времянке, с цветочницей, не вызывала осуждения беглых боевиков. Андрей Костюченко, обивший все возможные парижские пороги и ни на шаг не продвинувшийся в поисках поля для революционной борьбы, видел в Володе Хавкине единственную в обозримом пространстве родственную душу. А то, что бомбист занялся теперь перетаскиванием мясных туш – ну, что ж поделать: такова жизнь, как уверяют эти французы!
Любой толковый подпольщик знает неопровержимо, что для успеха общего дела необходимо иметь про запас незасвеченную тихую квартиру, где можно залечь на дно, отогреться и подготовиться к дальнейшим действиям. Базарная времянка цветочницы и была, строго говоря, такой тайной квартиркой. И то, что Люсиль ни бельмеса не понимает по-русски, а Володя, хотя и отошёл от революционной практики, в душе остался борцом, – это была удача. Неудачей было другое: у Андрея Костюченко и его группы ещё ни разу не сложилась ситуация, после которой необходимо было бы «залечь на дно».
Пока мясо шипело на сковороде, Вальдемар и его товарищи вели беседу на политические темы. Разговор носил общий характер: русские гости к французской политике относились кое-как, спустя рукава, и новости, дошедшие до них из случайных газет, были с бородой. Вальди газет вообще не читал, считая это занятие пустой тратой времени и денег, а свободные от перетаскивания мясных туш часы проводил в библиотеке, с головой уходя в медицинские научные журналы. Таким образом, рассуждения мужчин вились вокруг жалоб на чёрствость французов, не желающих ничем поступиться ради устройства в России справедливого общества, и горькой отечественной ситуации, которая, после убийства известного лица на одесском бульваре, ничуть не улучшилась, а лишь усугубилась в общем плане. И к этому, сидя в Париже, нельзя было ничего ни прибавить, ни убавить.
– Главное, чтоб наша борьба разгоралась! – выкрикнул Андрей Костюченко с такой яростной убеждённостью в голосе, что Люсиль вздрогнула у плиты всем своим большим зыбким телом и метнула в сурового гостя неприязненный взгляд. А Вальди, вроде бы совершенно некстати, вдруг улыбнулся широкой, во всё лицо, совершенно несвойственной ему улыбкой.
Глядя на неуместное веселье хозяина, Андрей слегка опешил: тут не смеяться, тут плакать впору.
– Просто ты сказал «борьба», – объяснил Вальди свою лучезарную улыбку, – и я сразу вспомнил: мне завтра в цирк идти, оформляться.
– Какой цирк? – угрюмо поинтересовался Андрей.
– Да шапито, – сказал Хавкин. – Они тут приехали, на Рыбной площадке стоят. Звери, клоуны. Лилипуты. Я с ними договорился на завтра.
– А о чём с ними можно договориться? – с оттенком раздражения спросил Андрей.
Циркачи, включая диких зверей, не подходили для революционной работы; от них не было никакого проку.
– Борцом я туда нанялся, – внёс полную ясность Вальди.
– С кем бороться-то? – спросил Андрей Костюченко.
– С кем придётся, – пожал плечами Вальди. – Из публики. Кто пожелает.
– А деньги? – спросил Андрей уже с изрядным интересом. – Не от нечего делать ты же туда идёшь.
– За один вечер я там заработаю, как за неделю на рынке, – сказал Хавкин. – Утром туши буду носить, а вечером бороться. Вот и считайте!
Все трое гостей последовали совету хозяина и погрузились в расчёты; получалось, что борцовский заработок покрывал с лихвой вложенные усилия.
– А если наваляют? – отвлёкся от арифметики бывший боевик, щуплый паренёк по имени Валера.
– Ну, наваляют, так наваляют, – беспечно допустил Вальди. – Но это ещё как сказать…
– Говорят, если деревянным маслом всё тело натереть, – проявил осведомлённость второй боевик, по имени Семён Дюкин, – то победа обеспечена.
– Ну, это, Сёма, уже чистое жульничество! – возмутился Хавкин.
– В общем, да, – согласился Дюкин. – Но можно сказать, что это военная хитрость. Для победы.
– Вот ты и натирайся, – сказал Андрей. – Все деньги на это масло уйдут.
Тут поспело мясо, и интересные разговоры свернулись сами собой. Над столом повисла приятная тишина сосредоточенного утоления голода.
Подходя к серому шатру шапито на Рыбной площадке, Хавкин раздумывал над тем, как пройдёт для него этот первый цирковой вечер. За победу над противником ему полагался двойной заработок, но и проигрыш не лишал его гонорара – правда, без премиальных. По замыслу устроителей, оба варианта были приемлемы: поражение манежного борца разожгло бы желание подвыпившей публики схватиться с поверженным силачом, в то время как его победа немного насторожила бы и отпугнула потенциальных соискателей славы из зрительских рядов.
Так или иначе, это дело выглядело перспективно. Ещё вчера, за столом, Вальди пообещал Андрею Костюченко отдать половину своих цирковых доходов на нужды революционной борьбы, куда, естественно, входило и пропитание активистов. Вторую половину Хавкин планировал откладывать «про чёрный день» – будущее в фанерной времянке Люсиль выглядело расплывчато, а работа в Пастеровском институте оставалась покамест не более чем сердечной мечтой. Предложение Хавкина было принято единогласно, и с подъёмом. В стороне от демократического решения осталась лишь цветочница: она и не представляла, о чём идёт речь, а посвящать её в суть дела никто не собирался.
У входа в шапито толклась публика: вход был тесный, а народу явилось немало. Вальди прошёл в цирк с чёрного хода, мимо мешков с опилками, накрытых брезентом клеток и кукольного барака – там жили лилипуты.
В последний – и единственный – раз на цирковом представлении, с мамой и с папой, Володя Хавкин был лет двадцать тому назад на Молдаванке, в Одессе. Случай выдался экстраординарный: неимущая семья не часто позволяла себе культурные походы. Володя запомнил запах влажных опилок, клоуна с красным носом и бородатую женщину, прибывшую в Одессу прямо из Германии и выставленную на показ. Теперь вместо бородатой немки французскую публику должен был завлекать русский силач, явившийся сюда прямиком из Одессы. И это было забавно.
Ему дали борцовское трико с чужого плеча и назначили выход сразу за лилипутами – для контраста. Конферансье в мятой шляпе и полосатых брюках объявил: «Знаменитый русский силач Тимофей Годунов вызывает на честный поединок любого из вас, любезная публика! Ну, смелей же! Победителя ждёт слава и успех у девушек!» Разглядывая мускулистого русского, публика робела. Тогда конферансье подал знак заранее подготовленному для растопки цирковому сторожу, посаженному ради такого случая в третий ряд. Сторож прыжком выскочил на манеж, сбросил рубаху и кинулся на Хавкина как лев. Предупреждённый о таком трюке Вальди был настороже: он поймал не вполне трезвого сторожа в крепкие объятия, повозил его по манежу, а потом бережно уложил на лопатки. Публика осталась довольна, она свистела и улюлюкала. Вслед за подготовленным сторожем попытать удачи вызвался добровольный господин из рядов, крепкого сложения. По договорённости с конферансье Вальди не спешил с ним расправляться – народ за свои деньги должен был немного попереживать и получить удовольствие; некоторые азартные зрители, желая заработать, взялись заключать пари. Повозившись с настырным оппонентом несколько минут, Вальди в конце концов прижал его спиной к полу. Третьим вышел на борьбу средних лет толстяк, килограммов на сто двадцать живого веса. Публика затаила дыханье, болея за своего. Двигать толстяка по манежу было затруднительно. Наконец, Вальди исхитрился закинуть противника за спину, как говяжью тушу, и мощным рывком перебросить его через голову. Толстяк рухнул в опилки, не сломав, к счастью, костей. На том поединок закончился победой русского силача Тимофея.
Принимая шальные деньги с премиальными от хозяина шапито, Володя Хавкин испытывал воодушевление и нечто вроде благодарности судьбе: такая вольготная жизнь могла продолжаться по крайней мере до тех пор, пока цирковой шатёр стоит на Рыбной площадке. Да и потом, переберись он на другую какую-нибудь людную парижскую площадку, на другой рынок или хоть на Елисейские поля, возможность борцовского заработка отнюдь не исчезала. Уже через неделю после начала взаимовыгодного сотрудничества хозяин шапито предложил Вальди бросить рынок, присоединиться к труппе на постоянной основе и отправиться с нею в полугодовое турне по Франции. Но Хавкин дорожил своей работой в мясном ряду, спальным местом во времянке цветочницы Люсиль и, прежде всего, близостью к институту Пастера, под крышей которого денно и нощно сверкала ему голубая звезда надежды. Поэтому он без раздумья отверг щедрое предложение хозяина, как и его заманчивое обещание сделать из русского силача Тимофея Годунова звезду манежа: Хавкин не планировал становиться профессиональным артистом цирка.
Хоть Россия расположена довольно-таки далеко от Парижа, русская пословица «Человек предполагает, а Бог располагает» действительна повсеместно; возможно, эта истина и у других народов находит своё отображение. Предположения Вальди о грядущих цирковых доходах и мирном проживании во времянке, с цветочницей, не оправдались: спустя два месяца после появления Хавкина на манеже он получил долгожданное сообщение: в институте Пастера для ученика Мечникова открылась вакансия помощника библиотекаря.
Люсиль эта новость ничуть не окрылила. Разгрузка туш плюс цирковой приварок – вот это было занятием для настоящего мужчины, каким заграничный Вальдемар, без вариантов, выглядел в глазах цветочницы. И тут, как гром с ясного неба, эти книги, эта грошовая служба то ли в больнице для нищих, то ли в госпитале для зверей! Восторженные объяснения Хавкина в пользу борьбы с заразными болезнями и облегчения участи всех людей без исключения не находили отклика в душе безутешной Люсиль: заразы она не боялась, а облегчение участи всем без разбора людям считала грубой ошибкой.
– Мы не должны думать лишь о себе, – увещевал Вальди цветочницу. – Человек на то и человек, чтоб стремиться сделать мир лучше для всех! Таская туши на рынке, этого не добьёшься. Только наука, поверь ты мне, Люсиль, приведёт нас к успеху.
Но Люсиль и не думала верить пустым уговорам, у неё была иная точка зрения на предмет; устройство мира приходилось ей вполне по вкусу, а намерение Вальдемара бросить работу ради чтения книг за грошовое жалованье приводило в исступление. Когда расходившаяся цветочница не бушевала и не скандалила, она ворчала себе под нос и грызла своего русского, и это житейское занятие более всего изводило Хавкина. Лёжа на дощатом топчане, под лоскутным одеялом, он иногда с благодарностью вспоминал Асю, оставшуюся на одесском берегу.
Долгожданную работу Хавкин принял как дар небес, вопреки тревожным сомнениям нашедший-таки адресата. Конечно, помощник библиотекаря – это не экспериментатор над окуляром микроскопа, с чашкой Петри на лабораторном столе. Но, главное, двери института Пастера теперь распахнулись перед ним, как златые ворота Сезама.
Библиотека примыкала к микробиологической лаборатории, и в этом Хавкин, начисто лишённый суеверия, разглядел, однако, добрый знак. Судьба благоволила к нему, это тоже было ясно: вначале бескровный побег из России, потом такая славная остановка в Лозанне, затем Париж – цветочная Люсиль, мясные туши и цирковые аплодисменты. И, наконец, новая реальность наступила: институт, где сразу после закрытия библиотеки, по вечерам и ночью, хоть до самого рассвета, можно работать в соседней с библиотекой лаборатории – микроскоп, пробирки, реторты и колбы, шпатели и пипетки. Всё, что душа пожелает, и о чём можно было только мечтать!
Мечников знал о ночных бдениях своего ученика и одобрял их. Знал не только понаслышке – он эти занятия, строго говоря, и направил, получив карт-бланш из рук самого Луи Пастера. Будущий нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников возлагал немалые надежды на Володю Хавкина, и вот теперь пришло время испытаний.
Испытания продолжались из ночи в ночь, и жизнелюбивая цветочница в своей времянке не испытывала восторга по этому поводу. Её русский совсем свихнулся с этими книгами и какими-то чашками-стекляшками, в которых жили, по его словам, неразличимые глазом вредоносные зверушки. Особенно противно становилось Люсиль, когда её сердечный друг заводил разговор о мышах, которым он зачем-то делал уколы. Это уже выбивалось за все рамки: мышам – уколы! С тем же успехом можно было делать змее клизму, а кошке ставить банки. Но на едкие замечания Люсиль обезумевший Вальди обращал столько же внимания, сколько на полёт мухи под потолком… События принимали всё более разогретый характер, разлука становилась неотвратимой.
Конец наступил из-за тех же мышей. Явившись во времянку среди ночи, Вальдемар решил немного развеселить Люсиль, глядевшую на него из-под лоскутного одеяла с большой неприязнью и разинувшую было рот, чтобы начать скандал.
– Как бы я хотел быть котом! – приветливо сказал Вальди. От такого заявления цветочница рот захлопнула и язык проглотила. – Тогда б я ловил мышей, – продолжал Хавкин, как ни в чём не бывало, – и мне не пришлось бы покупать их в магазине.
Тут уж крыть было нечем. Поднявшись с топчана, Люсиль, пыхтя, шагнула к двери, пихнула её и мраморной своей рукою указала сожителю на чёрный ночной проём. Хавкин попятился, переступил порог и, испытывая летучее чувство лёгкости, очутился на воле.