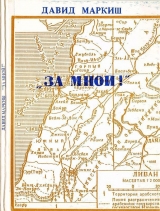
Текст книги "За мной! (Записки офицера-пропагандиста)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Давид Маркиш
ЗА МНОЙ!
Записки офицера-пропагандиста


1
ВСТУПЛЕНИЕ
Нет-нет, речь здесь пойдет отчасти и о Ливане – но отнюдь не о вступлении в Ливан. Наше вступление в Ливан состоялось почти три года назад и носило идиллическое название «Операция „Мир Галилее“». Потом это название набило оскомину и почти повсеместно было заменено на другое: «Ливанская война», начавшаяся, разумеется, с массированного вступления в Ливан. Что же до «операции», то, если уподобить Ливан живому организму (а он таковым и является в действительности), операция над ним может преследовать лишь оздоровительные цели. Удаление воспаленного аппендикса – это операция, четвертование или распиливание пополам – это совсем не операция. Это – война. Некоторые горькие остряки называли операцию «Мир Галилее» несколько иначе: «Война „Мир Галилее“»… Итак, можно вступить в войну, можно вступить в дерьмо и в грязь, – что, как правило, одно и то же. Вступление в войну сопровождается «справедливым гневом» как вступивших, так и пытающихся воспрепятствовать вступлению. «Справедливый гнев» – это поначалу очищает помыслы и освящает убийство. Убивать под пиратским или разбойничьим флагом нельзя, убивать под флагом «справедливого гнева» необходимо как можно больше. Только вот трудно определить, чей гнев более справедлив, а чей – менее: каждый гнет в свою сторону с упрямством, достойным лучшего применения, а диалог не слышен за грохотом стрельбы и взрывов. Зато проклятья слышны… Вступление в книгу о войне дело куда более приятное, чем вступление в войну или в дерьмо: взрывы не мешают и не отвлекает брань. Жаль, что диалог здесь подменяется монологом – но имеющий уши да услышит.
За всю свою кровавую и грязную историю человечество не придумало занятия более нелепого, чем война. Разумеется, не народы, объятые «справедливым гневом», выходят на войну – безответственные правители втравливают их в войны. Словесная мишура, окружающая военные походы, не изменилась с тех давних времен, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники: «чистота оружия», «слава боевых штандартов»… О какой «чистоте оружия» может идти речь, если при помощи этого оружия один человек превращает в удобрение другого человека – совершенно ему незнакомого, к которому он не испытывает ничего, кроме абстрактной ненависти (оборотной стороны «справедливого гнева»), внушенной ему средствами пропаганды – иными словами, средствами оболванивания, находящимися в руках правителей! Человек может ненавидеть другого человека, с ним связанного тем или иным образом – но народ не может осмысленно ненавидеть другой народ: это противоестественно, а, следовательно, невозможно. И только развязанная правителями война, в законодательном порядке отменяющая понятие «нельзя», превращает целые народы в шайки озверевших разбойников. И какая разница, как быть убитому – с автоматом в руках или от ножа грабителя, вознамерившегося отобрать у тебя кошелек или пальто? И, так же как «справедливый гнев» равно присущ каждой из воюющих сторон, так и слезы, проливаемые друзьями по убитым, одинаково горьки. Кровь одинакова у всех, и слезы у всех одинаковы.
Сколько существуют войны, столько же существует и попытка устроить мир без войн. И ничего из этого не получается.
Мне кажется, что народы по простоте душевной верят в мир без войн, а правители народов, облеченные властью, не верят ничуть. «Война – продолжение политики». И правители спускают с цепи пса национальной гордости, и пес этот превращается в волка национальной исключительности. Первая кровь – и волк превращается в слепого тигра национальной спеси: «Мы лучше, умней, сильней других!»
Следующий этап – война с соседями, вступление в сопредельные страны через границы, построенные на песке и из песка.
Я говорю не о нас – израильтянах. Я говорю о нас – людях, раскроивших мир на разноцветные лоскуты недолговечных политических образований и продолжающих кроить и перекраивать: «Это – мое, и это тоже мое!» А ведь все это – наше.
Войны ничему не учат, как и сама история не учит ничему. Вторая мировая война, уничтожившая шестьдесят миллионов жизней, привела к казни нескольких нацистских правителей, к разделу Европы и новому противостоянию сил. Почти все войны, разгоревшиеся после Второй мировой, в той или иной степени связаны с этим новым противостоянием. Связаны с ним и наши израильско-арабские войны, в том числе и последняя из них – ливанская.
На ливанскую войну в последний раз я явился в августе 1984, в качестве офицера-пропагандиста. Отслужив до этого десять лет в боевых частях и дослужившись до командира расчета 155-миллиметрового орудия, я чувствовал себя на сей раз бесконтрольно до изумления. Я был всецело предоставлен самому себе да ветреным обстоятельствам войны.
Офицерскую команду «За мной!» мне не пришлось применить – я ни разу не атаковал и не был атакован. Но теперь, сидя за машинкой в тель-авивском пригороде и заканчивая вступление к книге о ливанской войне, я хочу восполнить это упущение. Итак, за мной! За мной, читатель – и мы вступим в Ливан, минуем Перекресток Вод, оставим за спиной недоброй славы озеро Карун и упремся лбом в передовые позиции сирийцев в северной части долины Бекаа.
2
ЭТОТ СЛАДКИЙ ВЕТЕР РИСКА…
Ливан – вторая страна, куда я вступал без пограничных формальностей, без визы и вообще без паспорта. Первая была – Египет.
Вступление в Египет, одиннадцать лет тому назад, было куда более волнительным, прежде всего потому, что Египет – это, все-таки, Африка. Я, стало быть, вступал в Африку, в которой никогда прежде не был и о знакомстве с которой мечтает каждый нормальный человек. Интересней, конечно, было бы вступить и познакомиться с черной, Центральной Африкой, чем с арабской, Северной. Но здесь выбора у меня не было: Израиль воевал с Египтом, а не с Ганой. Пересеча Суэцкий канал, я ступлю на африканский берег. Африка! Таинственная земля детских сказок. Земля Гошен, откуда стартовала на родину орда евреев под началом неутомимого Моисея – там, за каналом. Земля жесточайшей в истории Израиля войны. Перешагнуть через канал – значит перешагнуть с континента на континент… За год до этого, сидя в Москве, в отказе, мне и в голову не могло придти, что в ноябре 1973 меня ждет вступление в Африку.
Понтонный мост через канал был видавший виды: шаткий, обшарпанный, исчирканный пулями и осколками, – и это почему-то оказалось приятно. Хотелось вылезти из джипа и идти по этому боевому мосту пешком, а потом постоять немного и переброситься несколькими словами вон с тем солдатиком в кипе, который оперся о весьма условные перильца и ест себе мацу. Это, все ж, символично: хладнокровнейшим образом грызть мацу в земле Гошен, сегодня.
Африканский берег канала, собственно Африка напоминала наш военный городок где-нибудь под Ашкелоном. Египтян нигде не было видно: их солдаты погибли либо были взяты в плен, а гражданские люди бежали вглубь Египта, как будто из Синая нагрянули в страну Нила не евреи, а чума с холерой. При всей красоте и торжественности момента вступления по шаткому боевому мосту на соседний континент мне было, все же, чуть-чуть горько: совершенно непричемные местные жители бежали от нас, побросав свои дома, как от чумы и холеры. Но вскоре я как-то позабыл о местных жителях, потому что увидел в Африке множество интересных вещей, дотоле мне неведомых. Вот, например, пальмовая роща, которую как бы поразил одним махом гигантский палаш: каждое дерево перерублено примерно посредине, крона с верхней частью ствола валяется, а нижняя часть ствола торчит. Вид рощи дик и нелеп, и кажется, что вот сейчас из-за песчаного холма, на котором эта бывшая роща, покажутся какие-то наступающие инопланетные завоеватели, у которых вместо головы – нога, и колеса вместо ног: эти странные и отталкивающие существа и исковерканная артиллерийским обстрелом роща подошли бы друг другу. Обветренная смуглая степь за рощей сплошь в оспинах: это танки, сожженные прямо в капонирах, они как бы вплавлены в песок, как соринки в дымчатое стекло. Они приготовились встречать нас огнем в чистом поле, но были зажжены с воздуха. За танками, вправо от разметанной снарядами и гусеницами дороги, видна низкая крыша подземного бункера, в котором просторно и с удобствами разместился бы семиглавый дракон с семьей. Туда можно было бы без хлопот загнать полсотни танков и самоходок, спустить боевые и транспортные самолеты. Я никогда прежде не видал таких больших бункеров и не предполагал, что они вообще существуют на свете. «Такую штуковину можно разрушить только прямым попаданием атомной бомбы», – сказал мне про этот бункер сведущий человек… Выйдя из драконьего бункера, я обнаружил, что наступила ночь, настоящая африканская ночь, чернейшая, прекраснозвездная и безлунная. И тут я увидел картину, заслонившую все прочие картины, виденные мною в Африке, и запомнившуюся наиболее зримо и красочно. Черная степь предо мной до самого горизонта была густо покрыта тысячами золотых костерков, низких и трепетных. Черная степь, и в совершенной темноте полыхают золотые костерки, один рядом с другим, до самого горизонта. «Это солдаты варят ужин, – было объяснено мне. – Снабжение еще не налажено, кухни не подвезены». Черная степь полыхала золотыми огнями, и не видно было ни солдат, ни их танков и пушек. Так, быть может, выглядела степь, когда с темнотой останавливалась на ночлег конная тьма Чингисхана: вся земля, куда только хватает глаз – в кострах.
С Ливаном все было иначе. Ливан – не Африка, и никакого нет между нами канала, а просто сразу за нашей Метулой начинается Ливан. И Моисей тут никогда не блуждал со своим строптивым стадом. И ливанские танковые клинья никогда не вгрызались в нашу землю. Причиною войны были, как всегда, поиски более прочного и надежного мира, а поводом – террористическое покушение на нашего посла Аргова в Лондоне. Поиски мира прискорбно затянулись и увязли в болоте, посол Аргов забыт. А я еду по Ливану. На голове у меня замечательная каска, в руках – прекрасный автомат, мою шею, грудь и часть живота защищает великолепный пуленепробиваемый жилет. В Африке жилета у меня не было вовсе, каска и автомат были плоше – а чувствовал я себя куда возвышенней. Это происходило, наверно, оттого, что был я на одиннадцать лет моложе и проживал в ином возрастном поясе. И еще оттого, что египетская Африка была пуста от египтян, в то время как ливанские деревни полны ливанцев, и эти люди смотрят на тебя – в лицо и в спину, вслед. В лицо они смотрят безразлично или заискивающе, в спину – угрюмо или с ненавистью.
Я не стану излагать мои ливанские впечатления во временной или географической последовательности: это ведь не дневник и не «Заметки путешественника». Я начну с линии противостояния с сирийцами на Севере – с Северного бруствера, откуда невооруженным глазом видны города Захле и Штура. Там, на Севере, среди солдат срочной службы, я вдруг и себя почувствовал двадцатилетним и оборотился к тем временам, когда безоглядно и радостно рисковал жизнью на Памирских ледниках и кручах – ради этого живительного ветра смертельного риска, который и делает, с точки зрения двадцатилетних, мужчину мужчиной.
Передовая крепостица Кока[1]1
Действительные военные названия заменены на вымышленные (авт.).
[Закрыть] была воздвигнута на вершине обрывистого и высокого холма. Какой-то офицер в каком-то штабе придумал это название; укрепленная вершина не имела никакого отношения к кока-коле, ни, тем более, к кокаину. Никто из гарнизона Коки не сумел объяснить мне, чем обязана крепостица своему названию. Быть может, «наверху» решили сбить врага с толку. По той же причине, наверно, другое укрепление получило название «Суматра». Но и слово «крепостица» достаточно условно в этом сочетании – «крепостица Кока»; просто я не умею найти другое слово для обозначения этого плотнейшего сгустка боевой мощи на вершине холма. Продвинувшись вперед в части строительства оружия (еще один пример абсурдизма обкатанных словосочетаний: прогресс в производстве предметов убийства), человечество явно регрессировало во всем, что касается саперства и военного дизайна. И если Мономахов парадный кинжал с некоторой натяжкой можно было бы назвать произведением искусства, то пистолет маршала Устинова едва ли подпадает под эту категорию. То же и крепости, и крепостицы: и в помине нет белых стен, полноводных рвов и подъемных мостов. Земляные насыпные валы, окружающие Коку, не призваны радовать глаз. Вместо подъемного моста поперек ворот стоит танк: если какой-нибудь безумец решит ворваться в базу на грузовике, начиненном взрывчаткой, он врежется в многотонную глыбу танка… Зато в Коке я увидел воочию, что значит «ощетиниться оружием». Так, верно, составив в круг боевые телеги, ощетинивались в старину копьями и дротиками. А здесь неровное кольцо вокруг вершины составлено из огневых точек, вместо копий торчат стволы всех видов оружия, матово-черные, длинные и покороче, голые и заключенные в кожухи – торчат как щетина на кабаньем загривке. Картина холодная, чудовищная, какая-то внеземная – и уж, во всяком случае, не имеющая никакого отношения к спокойному и мирному пейзажу: к зеленому склону холма, к солнечной долине, по скошенным полям которой бродят овечьи отары… И внутри крепостицы тесно от боеприпасов, оружия, и притаилась борзая свора бронетранспортеров. А вверх, в небо направлены какие-то рога, тарелки и чаши, построенные в соответствии с последним словом науки и техники; эти фантастические штуки принято с гордостью называть «электронные глаза», «электронные уши». Я помню другое – из доэлектронного века: «сердца пламенный мотор». Мы тогда негодовали: бред! нелепость! пламенный мотор сердца – это принадлежность монстра, а не человека!.. Электронные глаза и уши – это из того же нелепого, страшного ряда. Электронный глаз без райка и зрачка, только из насыщенных холодным током проводов. Резиновый язык. Чугунный мозг… Ничего не скажешь, браво прогрессирует человечество. Человек с охотой, с восхищеньем уступает себя мотку медной проволоки.
На огневой точке – стальном скворешнике, насаженном на скалу и обращенном бойницею к сирийцам – нет ни тарелок, ни рогов. Есть пулемет с патронной лентой, плавно выползающей из зарядного ящика. Есть гранатки – в достатке. Есть портативный миномет. Есть всякие хитромудрые приспособления для поражения танков. Есть, наконец, автомат «Галиль» – личное оружие солдата по имени Халиль. Халиль обязан, в случае надобности, стрелять из автомата, пулемета и портативного миномета, пускать осветительные ракеты, кидать гранатки и поражать танки. Все это он умеет делать очень хорошо. Он – боевой парень в прямом, наконец, смысле этого слова.
Время от времени поглядывая в мощный бинокль, мы сидим с Халилем на ящике с гранатками, выкрашенными в больничный светло-зеленый цвет. Вечер. Горный воздух легок и свеж.
– Я бы этого Асада сам убил, – кивая на сирийские позиции, говорит Халиль. – Прицелился бы и – трах!
Халилю двадцать лет, он – друз, как и почти весь личный состав крепостицы. Деревня Халиля расположена где-то за Хайфой. А на сирийских позициях, в сторону которых кивает Халиль, сидят друзы из других деревень – из-под Дамаска или из-под Алеппо: там держит оборону друзский полк. Не знаю, как сирийских, но наших друзов эта дурацкая ситуация не шокирует: человек не собака, ко всему привыкает… А ведь вполне возможно, что как раз сейчас оттуда, с сирийских позиций, смотрит на нас в бинокль какой-нибудь родственник симпатичного Халиля, тоже парень симпатичный, жарко мечтающий прицелиться получше и застрелить, скажем, Арика Шарона.
– А правда, что в Москве за университет ничего не надо платить? – спрашивает Халиль. – И еще деньги на жизнь дают?
Прежде чем ответить на этот популярный вопрос, я вытягиваю из кармана гимнастерки пачку сигарет, угощаю Халиля и чиркаю зажигалкой.
– Кури в кулак, – роняет Халиль. – А то они, – кивок на сирийские позиции, – иногда стреляют по огонькам.
Я неспешно затягиваюсь, прикрываюсь ладонью от всей огневой мощи сирийской армии. Курить в кулак на огневой точке мне куда вкусней, чем лениво потягивать дымок в каком-нибудь тель-авивском кафе. Я вижу себя таким же вот солдатом на передовой, как этот Халиль. Мне сладко кажется, что мне двадцать, как ему. Риск уравнивает нас. И ветер с Джебель-Барука пахнет Памиром – любовью моей жизни.
Там, на Памире, я рисковал двадцатилетним, четверть века тому назад. Коченея от восторга, я выслушивал историю о том, как ледник Федченко перемалывает людей в кровавый фарш в своих подвижных трещинах – и шел на ледник. Я карабкался на шеститысячник не доходя снежного перевала Тюя-Ашу – не имея ни опыта, ни снаряжения. В Заалайском ущелье, перед перевалом Терсагар, лошадь из-под меня ушла в пропасть, а я, уцепившись за камни, болтался над полукилометровым провалом – пока не посчастливилось мне дотянуться до арчового корня, гибкого и крепкого, как канат. Я рисковал. Никто не гнал меня на Памир – этот прекрасный полигон риска. Я рисковал по собственной воле, потому что хотел приблизиться к той грани, которая хрупко отделяет жизнь от смерти – приблизиться, но не пересечь. О том, что за гранью, я не думал ни мгновенья: безоглядный мой риск не имел ничего общего с самоубийством. Я желал испытать жизнь. Смерть я просто не принимал в расчет, как будто ее не было вовсе. Время Памира – памирской охоты, сумасшедших речных переправ, зимнего восхождения на Великий ледник, когда, протащившись полсотни метров, падаешь, задыхаясь, на оледенелый снег и вжимаешься в него лицом, вгрызаешься зубами – это время осталось лучшим, светлейшим и прозрачнейшим временем моей жизни.
Такой безоглядный риск – привилегия молодых. И не имеет значения, по какой причине чувствуешь ты уверенный бег крови в жилах и слышишь гул жизни – ставя разбитую лыжу на темный наст над ледниковой трещиной или прикрывая ладонью огонек сигареты от пули, рыскающей в ночи. Вот почему, наверно, молодые – самые отчаянные, самые лучшие солдаты. А риск обдуманный, измеренный и взвешенный – это уже удел пожилых, это уже смелость, а не бесстрашие.
– Так как же там, дядя, насчет университета? – вдруг, как пуля, настиг меня вопрос симпатичного Халиля, годящегося мне в сыновья.
И, прежде чем начать, наконец, рассказывать об образовании в Советском Союзе, я поблагодарил судьбу за то, что она присовокупила к моему Памирскому времени эти несколько минут, когда я снова почувствовал, как тогда, бег крови и гул жизни.
3
«ФУН МУНЕ ЦУ ШМУНЕ»
Отправляясь на Ливанскую войну, я захватил с собой из дома три ломтя хлеба и луковку. Я хотел было запастись и солью, но потом отказался от этого гастрономического намерения: обойдусь без специй. Война, в конце концов, не ресторан и не дом отдыха. На войне быть бы сыту.
Верно, что израильский солдат сыт, если только он не придерживается голодной диеты. Армейские столы ломятся от всяческих ед: яйца и шоколадная паста, овощи и фрукты, мясо, маслины и хумус. Ешь что хочешь и сколько хочешь. В одной базе солдат в будний день кормили компотом из бананов и грейпфрутами, в другой я видел стол с надписью «Для вегетарианцев». Но мое участие в Ливанской войне никоим образом не было связано с сидением в базах. Напротив, мне было предписано много ездить, задерживаться в базах лишь на определенное, недолгое время. Выехав до завтрака с одной базы и приехав в другую после обеда, можно прокуковать на голодный желудок до самой ночи. Жизнь солдата на войне – в руках Бога, желудок солдата – в руках самого солдата. Поэтому я без раздумий сунул в карман нейлоновый пакет с хлебом и луковкой.
В армейском уставе ничего не говорится о том, как солдату следует использовать карманы своих штанов. А карманов этих немало, они различной формы и различного объема, и разбросаны они по всей площади штанов – от колен до зада. Карман, выбранный мною, идеально подходил для двух целей: для хранения хлеба и луковки, для хранения запасной обоймы к автомату «М-16». Спасибо конструктору этих штанов, он славно потрудился. Карманы его произведения способны вместить значительно более того минимума, который необходим человеку на войне.
Итак, разместив в карманах документы, курево и зажигалку, пластмассовую бутылку с лекарством против язвенных болей, книгу Бунина «Темные аллеи» в мягком переплете, запасную обойму к автомату «М-16», ключи от квартиры, хлеб с луковкой, носовой платок и стопочку туалетной бумаги, я ехал в открытом джипе по деревушке на восточном берегу озера Карун. Голова моя, в соответствии с Правилами передвижения по Ливану, была защищена стальной каской, шею, грудь и часть живота прикрывал пуленепробиваемый жилет. В руках я держал великолепный автомат «М-16», который на том же Памире, употребленный против диких козлов, барсов и горных индеек-уларов, кормил бы меня, обувал и одевал круглый год. Жалко, что не было у меня на Памире автомата «М-16»… Солнце сильно припекало, в пуленепробиваемых доспехах было жарко. Хотелось снять тяжеленную каску и подставить мокрую от пота голову встречному ветру.
По обеим сторонам узкой и извилистой деревенской улицы пестрели восточные лавки, набитые западными мерседесами и БМВ, радиоаппаратурой, сигаретами и бутылками кока-колы. На порогах лавок торговцы и их приятели попивали кофе. Полуденная жара располагала к лени и сну. Навстречу нам проехал трактор на высоких колесах. За рулем трактора сидел усач в длинной белой рубахе, держа на коленях охотничью двустволку. Едва ли в его планы входило пострелять в поле зайцев или куропаток, едва ли… Возможно, усач собрался подшибить, строптивого соседа, а, может, прихватил ружье просто так, на всякий случай: береженого Бог бережет.
Джип переваливался и подпрыгивал на выбоинах дрянной дороги. Встречные машины поспешно сворачивали на обочину, освобождая нам путь. Я просторно расположился на заднем сиденье, около рации. Передо мной, рядом с водителем, сидел за пулеметом молодой лейтенант срочной службы.
– Они тут все друг в друга стреляют, – полуобернувшись ко мне и поводя стволом пулемета из стороны в сторону, сказал лейтенант про усатого тракториста. – Палят, кому только не лень… Бедный народ.
Навстречу нам попалась группка деревенских парней и девушек, праздно идущих. Парни были в расстегнутых рубашках, девушки в легких летних платьях, с открытыми по плечи руками. Рядом с ними мы в своих жилетах и касках, с пулеметом и автоматами, были некстати в этот зной, на деревенской улице, – как если бы тут вдруг появился крестоносец с двуручным мечом, в железных штанах и шлеме-наморднике.
– Феллини, – пробормотал оценивший ситуацию лейтенант за пулеметом. – Ну, просто Феллини…
Весьма возможно, что эти деревенские молодые люди никогда не слышали имени Феллини и ничего не знают про итальянский кинематограф. Но как они – со своих позиций – расценивают появление закованных в ультрасовременные доспехи, изготовившихся к бою чужеземцев в своей деревне? Чужаков в раскаленных солнцем железных шапках, в чудовищных костюмах, неподходящих ни к какому времени Божьего года? «Бедный народ»… Эти слова я слышал не раз от солдат и офицеров, от сефардов и ашкеназов.
За деревней дорога выпрямилась, пошла меж каменистыми заброшенными полями. Озеро лежало слева от нас, на дне неглубокой горной долины. Здесь, на озере, в начале кампании шли тяжелые бои, дорого нам обошедшиеся. Западный гористый берег, крутой и зеленый, был куда красивей. Там, среди виноградников и садов, белели стены вилл и роскошных рыбных ресторанов. Там была «ливанская Швейцария» – обязательная принадлежность всякой страны, не имеющей ничего общего с истинной Швейцарией. В «ливанской Швейцарии» проживали, как будто, приверженцы покойного Башира Жмайеля, но ездить там было опасно, опасней, чем по восточному берегу озера, а в рыбные рестораны мы давно перестали ходить по разным неинтересным причинам.
К северу от озера Карун долина постепенно расширялась, холмы по ее обочинам понемногу превращались в горы. То и дело встречались наши базы и базочки, крепости и крепостицы разных родов войск. От одной к другой мне и предстояло ездить, пользуясь всеми мыслимыми видами транспорта: джипами и командкарами, бронетранспортерами и сафари, грузовиками, бронированными каретами Скорой помощи и автолавками. Эта бесконечная езда «Фун Муне цу Шмуне» представляет собой наиболее противное предприятие на нынешнем этапе Ливанской войны. Общеизвестно, что пускание поездов под откос – одно из самых популярных и любимых действий заинтересованной стороны. Без пускания поездов под откос современная война просто немыслима. Но в Ливане железная дорога не функционирует, и заинтересованная сторона, лишенная, таким образом, классической возможности, все свои усилия сконцентрировала на минировании дорог и нападениях на движущиеся по этим дорогам средства транспорта. Перспектива быть подстреленным, как утка, во время очередного переезда «от Муни к Шмуне» меня ничуть не привлекала. Понимая патриотические устремления налетчиков, я, тем не менее, не желал оказаться их целью. Двусторонний «справедливый гнев» мог продырявить меня в рабочем порядке.
Но отсиживаться в базе было оскорбительно и скучно.
В крепость «Санаторий» мы прибыли около двух часов пополудни. Крепость стояла в чистом поле и представляла собой недостроенную больницу. Четырехэтажное здание было уже подведено под крышу и поделено на клетушки-палаты. Был и пол, выложенный кое-где плиткой. Не было: окон, дверей, воды, электричества и лестничных перил. Стены крепости были на редкость густо изрыты следами пуль. Во дворе стояли бронетранспортеры и танки. На плоской крыше – этой союзнице военных людей – громоздились нейлоновые мешки с песком и были оборудованы два наблюдательных пункта.
В крепости было малолюдно: большая часть гарнизона выступила на полевые учения. Оставив спальный мешок, пуленепробиваемый жилет и каску в одной из несостоявшихся палат, я отправился на рекогносцировку. Несмотря на то, что час был определенно послеобеденный, мое будущее меня не заботило: пакет с хлебом и луковкой, приятно оттопыривающий карман, внушал уверенность если и не в завтрашнем дне, то в сегодняшнем вечере.
Танки с опущенными орудийными стволами имели вид угрюмый и значительный. Лучшие в мире – ими, следовательно, могло восхищаться и гордиться все человечество. Они способны наносить наисильнейшие удары – и наисильнейшие же удары выдерживать. Множество замечательных приспособлений прикреплено к броне этих танков – приспособлений улавливающих, стреляющих и камуфлирующих. И среди всех этих научно-технических чудес простолюдинкой затесалась присобаченная к боку неприступной башни обыкновенная лопата. Выгнутый ее штык с глубокой ложбинкой посредине трогательно напоминает человеческий зад. И этот зад чуть-чуть очеловечивает весь танк. Если б у меня был собственный танк, я бы прикрепил к нему две лопаты – по одной с каждой стороны башни.
Танки были пусты, как консервные банки. Их экипажи были неразличимы среди редких солдат, слоняющихся по этажам крепости: без шлемофона мальчик-танкист ничем не отличается от любого другого мальчика.
Обследовав двор и левое крыло больничного корпуса, я спустился в полуподвал. Лестница, ведущая туда, была сильно повреждена, засыпана каким-то мусором и утоптанной землей. Держась стены и приволакивая ноги, чтоб не свалиться, я разглядел в темноте бледный свет и пошел на него. За поворотом коридора, похожего на подземный ход, обнаружилась столовая с кухонькой. Молодой солдатик срочной службы беспечно гремел оранжевыми пластмассовыми тарелками, чисто вымытыми.
Проанализировать и оценить обстановку не составило для меня труда: мясной обед был закончен. Цвет тарелок говорил о недавнем их животном наполнении, о прочем повествовали непросохшие еще после споласкивания столы. Солдатик – йеменский еврей – с любопытством поглядывал на мои погоны: офицеры-пропагандисты, как видно, появлялись здесь не слишком часто.
– Мир тебе! – приветствовал я солдата. – Осталось что-нибудь от обеда?
– Только что мясо выкинул! – огорченно сообщил солдатик. – А вы лекцию будете читать? Про что?
– Про изящную словесность, – не стал я вдаваться в подробности. – С утра ничего не ел. Чашку кофе только выпил – и все…
– А у нас сегодня шницели были, – информировал безжалостный солдатик.
Сев за стол, я вытащил из кармана мою еду и сколупнул ногтем шкурку с луковки.
– Вы будете это есть? – потрясенно спросил солдатик.
– Конечно! – подтвердил я, вгрызаясь.
Солдатик смотрел потерянно.
– Хлеб и лук – основа жизни, – дал я пропагандистское разъяснение. – Ну, еще чеснок… Все остальное: шницели, хумус, шоколадные конфеты – это все приятные, но необязательные дополнения. Так запомни: хлеб и лук!
Мне было приятно, что я со своим харчем произвел такое потрясающее впечатление на йеменца. Такое же чувство легкого, снисходительного превосходства я испытывал, сообщая какому-нибудь русскому человеку, что я – первый еврей, поднявшийся на гидрометеостанцию «Ледник Федченко», к тому ж зимой.
– У меня тут компот, абрикосовый, – предложил йеменец. – Только ложки нет…
– Ложка нужна сытому человеку, – охотно откликнулся я. – Голодному человеку ложка не нужна.
Тут я заметил сбоку от плиты картонки с яйцами.
– Дай-ка мне парочку! – попросил я солдатика.
– Маргарин заперт… – пробормотал не совсем еще оправившийся от потрясения йеменец.
– Ничего, давай! – потребовал я.
Надколов головки, я выпил яйца сырьем, одним глотком, как пьют водку. Йеменец неотрывно глядел на меня, плотно сжав губы. На его смуглом лице блуждало отвращение, как будто «руси» тут пил по-дикарски кобылье молоко.
И это восторженное отвращение было мне наградой.
Восстановив съеденный запас хлеба и лука, я в превосходном настроении отправился знакомиться с правым крылом крепости. Здесь помещались призванные на очередные сборы солдаты резерва – преимущественно отцы семейств, люди, отягощенные неприятным и скорбным знанием жизни. Иные из них, не теряя даром послеобеденного времени, храпели в своих комнатах, а другие играли в национальную игру шеш-беш. Среди игроков в шеш-беш я отметил несколько человек с московскими и рижскими лицами и порадовался: выходцы из России абсорбируются в районе весьма успешно, следующей ступенью будет ношение фесок и игра на зурне.
Один из дверных проемов был закрыт фанерным щитом с русской надписью на нем «Бляди, вытирайте ноги!» и дилетантскими рисунками фривольного содержания. Я потянул щит и вошел. На десятке коек, на разостланных спальных мешках, лежали средних лет и пожилые евреи. Их подсумки и пуленепробиваемые жилеты были привольно разбросаны по комнате подобно нижнему белью и легкомысленной ситуации.








