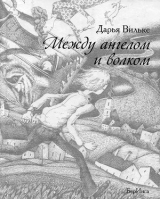
Текст книги "Между ангелом и волком"
Автор книги: Дарья Вильке
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Дарья Вильке
Между ангелом и волком

Про городок Ц. Вместо предисловия

Если хорошенько поразмыслить, то вот и получится – от того, настоящего Городка Ц. осталось одно кладбище: вычурные склепы, в них красными отблесками играют свечи, зажженные в честь Дня всех усопших, да ряды могил. Оно, правда, больше похоже на сцену. Где актеров больше, чем зрителей.
Они все тут: и мясной король Родл, владевший магазином на главной площади в Большом Соседнем Городе. Такой богатый, что у него были даже квартиры в Вене.
И потомственный пуговичный и галантерейный магнат Принц, красавчик и транжира – он стремительно разорился, за один всего лишь год, и умер потом с горя.
И старый крестьянин-патриарх Больтерер, у которого были самые толстые и гладкие коровы в округе, и чей приемыш умудрился однажды стать канцлером страны. Закончился с ними Городок Ц.
Городок Ц. – утонувший корабль. Их много, таких городков – которые навсегда ушли под воду, превратившись в историю. Можно ходить по кладбищам, что остались после них, и читать их как карту – как раскрытую на самом интересном месте книгу. А можно, превратившись в водолазов, спуститься на дно и поднять его на поверхность. И тогда он тяжело ляжет на ладонь, как огромный стеклянный шар. И если встряхнуть его, то видно, как падает снег. На церковь, будто сложенную из кусков ноздреватого серого сахара. На мельницу над ручьем с обкусанными льдом берегами, в котором водятся юркие форели. На пустырь, где всегда раскидывает шатер бродячий цирк. На кабачок Сеппа Мюллера с ободранными столами и неизменными, жаренными на вертеле рыбинами.
Идет по улице, спрятав острый нос в кудрявый воротник каракулевой шубы, тетушка Виола, похожая на цветок анютиных глазок. В корзинке у нее лук да морковь из зеленной лавки и дымящееся на морозе мясо – сегодня на ужин будет свиное жаркое.
Булочница в пекарне Долльнера выкладывает на деревянные решетчатые полки ржаные караваи прямо из печи – если прижать их сверху пальцем, хлеб уйдет вниз пуховой периной, а если надкусить – попадутся зернышки тмина.
Бредет последняя лошадь в Городке – крестьянина со смешной некрестьянской фамилией Кайзер, и тянет повозку, полную подмороженных яблок. Снег падает и падает, присыпая белой мукой дерюгу, которой прикрыты по бокам зеленые крепкие яблоки, наверное, хрусткие и кисловатые. На облучке сидит сам Кайзер Отто, и снежинки путаются в его усах, наметают маленькие сугробы на полях его фетровой шляпы. Проходя мимо школы – желтой, как кремовое пирожное, с белыми колоннами у входа – старая лошадь поворачивает грустную усатую морду. Словно стараясь разглядеть классы с дубовыми тяжелыми партами и светлоголовых мальчиков, склонившихся над сочинениями.

Капеллан и тетради в цветочек

– И каждую секунду думайте про то, о чем вы пишете, – произносит он бархатным баритоном. – О чем думает добрый католик?
– До-обрый като-олик, – нажимает на каждую букву капеллан Кройц и останавливается перед окном, заложив руки за спину. Он сцепил сухие ладони, и пальцы его перебирают винно-красные бусины чёток из отполированного до блеска дерева. Винно-красный крест легонько стукается о сутану, и по ней от этого бегут черные волны. Со спины капеллан кажется огромной нахохлившейся горбатой птицей с черными крыльями.
На улице тихо, хлопьями с ладонь падает снег, слепяще – белый, превращаясь на земле в голубой. А на снегу сидит горбатый ворон и смотрит на капеллана. И лошадь Кайзера Отто смотрит на капеллана, повернув усталую морду, кажется ему.
«Добрый католик проснулся однажды воскресным утром и подумал: „Хорошо бы сходить в церковь“», – выводит в тетрадке Вольфи, стараясь писать аккуратно.
«Что ты вечно пишешь как курица лапой – кричит обычно мама. – В кого ты такой пошел? Вот твой отец – он был совсем другой! У него был кал-ли-графический почерк!»
Послушать ее – так отец самое настоящее сокровище. «Бриллиант, а не человек», – с намеком в голосе говорит она.
От отца ему достался нос, нездешняя, ангельская фамилия Энгельке и половина имени. Когда Вольфи еще не родился, они долго решали – не спорили, нет, «мы никогда не спорили», – назидательно говорит мама – как его назвать. Мама хотела Вольфганг – в честь дедушки. А папа – Кристоф, Кристоф Энгельке. Поэтому в церковной метрике, которая топорщится готическими буквами как церковь на главной площади, стоит Вольфганг-Кристоф. Для мамы и для друзей – Вольфи. Почти волчонок. А в мечтах, когда он в рыцарских доспехах скачет на коне – ловкий и красивый, он Кристоф. Бесстрашный рыцарь Кристоф.
«Он выглянул в окно и вдруг заметил, что пошел дождь», – Вольфи выводит буквы, старательно сопя – но они все равно не получаются красивыми, а убегают друг от друга, падают плашмя на темно-синие линейки и проваливаются под строчку, как нога под лед, сковавший все лужи во дворе. У Вольфи всегда все не так, как хочет мама. Поэтому она называет его хулиганом.
Зато он придумал, про что писать.
Они все: и Карл, сын мясника, и Франци с улицы за кладбищем, и Фредл-толстяк, и Гарри, который Гаральд – все сидят над пустыми тетрадками. И в самом деле, что писать на тему, которую выдумал капеллан Кройц? «Что может помешать доброму христианину пойти в воскресенье в церковь».
А Вольфи знает – его история растет строчка за строчкой, округляется, как пушистый праздничный кнёдль, начиненный фаршем, и Вольфи даже тихонько хихикает про себя: от того, что так ловко вывернулся, от того, что рассказ так ладно складывается.
– Что смешного, Энгельке? – гремит над ухом. Капеллан Кройц высится над ним черной суконной горой.
– Н-ничего, – Вольфи кажется, что гора вот-вот упадет на него и раздавит, – я просто пишу.
– Ну тогда прочти нам всем, что ты там написал, – сухо говорит капеллан, и губы его тонко змеятся в улыбке, а рука с четками негнущимся дорожным знаком показывает на учительский стол.
Вольфи вздыхает и выходит из-за парты. От учительского стола класс кажется совсем другим, он раздвигается, становится необъятным, а ты будто стоишь на сцене.
– А вдруг я промокну? Нужно бы взять зонт, подумал добрый христианин, – читает Вольфи громко и с выражением. – Он поискал зонт, а когда нашел, то расстроился. Зонт оказался весь в дырочку. «Что же мне теперь делать? – подумал добрый католик. – Может быть, зашить зонт? Но я не успею. А может, надеть на голову мешок из рогожи покрепче и так побежать до церкви?»
Шея капеллана Кройца налилась багровым, будто ему нестерпимо жмет черно-белый жесткий римский воротничок.
Смешок – крепко слепленным снежком – дробно раскатился по классу, собрал, смел весь смех, по снежинке, с парт у окна и вдоль стены, превратился в горную лавину. Они уже все смеются: сжав губы, хихикает Франци с улицы за кладбищем, гогочет Карл, сын мясника, схватился за щеки Фредл-толстяк, будто щеки сейчас не выдержат и вот-вот лопнут от смеха, а Гарри, который Гаральд, даже подвизгивает, как поросенок, смеясь.
«Добрый католик уже понял, что опоздал на службу», – увлеченно читает дальше Вольфи, – и…
Бам-м-м!
Тяжелая рука, будто собрав всю силу, наотмашь бьет его по уху. Голова мотнулась, как у безжизненной тряпичной куклы. Ухо, щека и все, что слева, умерло. Смех в классе – тоже, будто его и не было. Лицо капеллана Кройца покраснело, стало винно-красным, как четки, и кажется, сейчас брызнет во все стороны.
«У меня отвалилась голова, – подумал Вольфи. – Или оторвалось ухо». Он осторожно ощупывает рукой голову – все на месте. Только ухо совсем неживое, и в ставшей будто чужой голове гудит церковный колокол – протяжно, гулко, «бамм – бамм – баммм».
– Пойдем! – бросает капеллан и тащит Вольфи прочь из класса. К директору. Сухие пальцы держат руку цепко – не вырваться.
«Что сейчас будет, – пугается Вольфи и свободной рукой придерживает ухо, будто оно может невзначай отвалиться. Ухо теперь горит жаром ста печей, оно жарче, чем воздух в кузнице у Молодого Кляйна, – сейчас и директор еще добавит».
У дверей директорского кабинета капеллан отбрасывает руку Вольфи, словно это ядовитая жаба, про которую рассказывал вчера на перемене Гарри, который Гаральд.
– Не двигайся с места! – громким шепотом велит он и смотрит из-под кустистых бровей так, что Вольфи кажется – ноги его примерзли к дощатому полу.
Время тянется нестерпимо медленно – можно считать снежинки, падающие беззвучно за окном. Или угадывать, что творится на улице: вот, наверное, прошел мимо школы дядя Вильфрид, насвистывая в холеные пушистые усы – он работает в городской управе и обедать ходит домой. Вот вышел из кузницы Молодой Кляйн – посмотрел на падающий снег, поцокал языком и пошел обратно. А вот злющая жена мясника Родла, похожая на сушеную гусеницу, отправилась со своей капризной дочкой по магазинам, она всегда так делает, стоит мяснику уехать ненадолго по делам.
Это все придумывает себе Вольфи, потому что к окну не подойти – капеллан же велел не двигаться.
– Рука сорвалась, – доносится из-за директорской двери.
Потом она распахивается, и капеллан, все еще пунцовый, не глядя на Вольфи, уходит, меряя коридор огромными шагами, и черная сутана полощется сзади пиратским флагом.
– Ай-ай-ай, – добродушно улыбается Господин Директор. Вообще-то его фамилия Хансриглер, но от уважения все говорят только «Господин Директор». Он сидит за большим дубовым столом, в котором отражается его безупречный, снежно-белый воротничок и кокетливая бабочка. – Что же вы так мучаете душку-капеллана? Что он так срывается?
Это сущая правда. Капеллана Кройца в классе не любят. А у того, кого невзлюбили мальчишки Городка Ц., жизнь не сахар, и даже «оздоровительная оплеуха», как говорят про такие взрослые в Городке, не поможет.
В самую первую неделю сентября капеллану насыпали на стул гвоздей. Потом испачкали стол чернилами. А после Дня Всех Святых Вольфи положил в Библию капеллана здоровенного засушенного кузнечика – с лета берег.
Но сейчас-то, сейчас никто его злить не хотел!
– У тебя же дед был цер-ков-но-служи-телем, Энгельке! Ладно, иди, – Господин Директор махнул пухлой ручкой в сторону двери, – и больше не шали!
Если произнести полное название Городка Ц., то кажется, что ты откусил добрый кусок сырной головы: с огромными дырками и слезой, вкуса такого масляного и острого, что сразу щемит под языком справа. А если скользить в ботинках на толстой подошве по его заснеженным дорогам зимним днем, после школы, то кажется, что скользишь по свежему маслу и Городок Ц. улицами летит под ногами: Большой улицей, от шоссе к кладбищу, Новой улицей, пересекающей Большую, рисующей вместе с ней огромный крест, вокруг которого и лепится Городок. На перекрестке, там, где они сходятся – Церковная площадь со старой готической церковью. Тут Вольфи в свободное время служит министрантом. Так захотела мама – а как хочет мама, так почти всегда и происходит.
В углу площади, на пересечении Большой и улицы Сахарная Мельница, той, где живут дядя Вильфрид с тетей Виолой – постоялый двор «У белого барана».
– Эй, Вольфи! – орет из дверей, дымящихся паром, – внутри-то тепло – Вальтер, лучший друг рыцаря Кристофа-Вольфганга Энгельке. – Айда сюда, подзаработаем!
Иногда жена мясника Родла, которая управляется на постоялом дворе, разрешает им убирать со стола за посетителями. Или сносить тяжелые толстостенные пивные кружки и стаканы из-под яблочного вина в кухню. Тогда им достается пара шиллингов – а если копить долго, то можно купить себе щегла. Или мороженое летом. Или билет на автобус до Большого Соседнего Города.
– Не хочу, – говорит Вольфи и идет дальше. Сейчас не до игр. Нужно рассказать маме, что его вызывали к директору. И про капеллана Кройца – тоже.
За церковью очень хочется свернуть направо, к себе, на Среднюю улицу. Чтобы не решать, как лучше начать про школу. Если она рассердится, то хоть из дома беги – снова обломает об его спину ивовую выбивалку для ковров.
Но нужно – налево. И Вольфи, взрыхляя носками ботинок снег, бредет по Мельничной Горе наверх – туда, где прилепилась к лесу скотобойня Родла и голубое, как небо на картинке дошколенка, конторское здание. Там работает мама.
Она сидит в маленькой комнатке за магазином, в котором продают белые сосиски с травами, окорока и рождественскую колбасу с темной мясной елкой, искусно выложенной в середке.
Справа и слева, и всюду стопки амбарных книг, ведомостей и огромных журналов, густо исписанных цифрами.
Стопки похожи на башни, они громоздятся над маминой головой, превращают ее в гнома. Она и вообще-то маленькая – скоро Вольфи станет выше нее ростом.
Пока он сбивчиво рассказывает про капеллана, она морщит лоб, на него падают закрученные как шерсть барашка каштановые пряди, и рассеянно смотрит на ровные столбики цифр в разлинованных книгах. Ей некогда, у нее бухгалтерия, предрождественская рабочая суета.
– Хорошо. Поешь дома, – и сует ему в руки бумажный сверток.
Вольфи знает, что в этом свертке – холодная ветчина в молочно-белую прожилку, с тоненьким ободком соленого сала по краю. Ее можно свернуть рулетом и есть медленно-медленно, чувствуя во рту легкий привкус древесного дыма.
Он почти скатывается по крутой, обледенелой Куриной тропе вниз – на свою, Среднюю улицу.
До чего ж странно, что ему не досталось за капеллана! Она даже не сказала свое обычное – «Святые угодники!» – и не пригрозила, что за хулиганство отправит в интернат для трудновоспитуемых. Что такое этот интернат, Вольфи толком не знает. Но чувствует, что там, должно быть, плохо.
В доме тихо и зябко – зимние сумерки забрались уже во все углы. Вольфи зажигает свет и превращается в Кристофа.
Потому что его встречает отец.
Его портрет глядит и с высокой полки у двери, и из угла в кухне. В каждой комнате дома по отцу – а портрет-то один и тот же, старая чёрно-белая фотокарточка, как у кинозвезд. На ней отец похож на джазового певца, на франтоватого киноактера. Может быть, как те, что снимаются в ковбойских фильмах, которые так любит Вольфи.
Он, наверное, никогда бы так не сказал: «отправлю в интернат». И не драл бы выбивалкой для ковров. Наверное. Или ремнем – как дядя Вильфрид. Он просто положил бы руку ему на плечо и сказал:
– Пойми, старик…
Мама говорила, что их дом отец построил сам – от первого до последнего гвоздя. Вот только второй этаж достроить не успел. Поэтому там, рядом с комнатой Вольфи, сделали чердак. Огромный гулкий чердак с большими окнами – там мама развешивает белье и держит всякую всячину.
Когда-нибудь Вольфи второй этаж достроит – это точно. Он ведь в то время, когда не хулиганил, научился и ремонт делать, и цемент замешивать. Не хуже отца, наверное. Как только мама видит его с молотком или лобзиком в руке, она становится мягче воска и лишь повторяет: «Совсем как папа».
А когда никого нет дома, Вольфи любит забираться на чердак и читать рыцарские саги. Правда, после того, как переделает всю работу по дому, которую мама пишет в аккуратный столбик и пришпиливает список на кухонную стену.
Ведь когда у человека нет папы, то человеку надо уметь и лампочки поменять, и полки прибить, и даже подстричь самшитовый куст у входа в дом.
Зато потом можно и сюда. Перебирать старые вещи, к примеру – в них всегда находится что-то интересное. Старинный деревянный домик для птиц, который смастерил отец – он большой, достает Вольфи до пояса и совсем как настоящий дом. Отцовы рабочие халаты. Огромные пустые мешки из-под муки, еще военного времени. Стопка пожелтевших фотографий, на которых где-то сзади всегда фашистские кресты.
В углу сложены старые журналы – их Вольфи никогда не рассматривает, неинтересно. Под ними – какие-то тетради: вдруг мамины? Вдруг она тоже хулиганила в школе и злила какого-нибудь капеллана?
Они очень, очень старые, эти тетради, такие, что листы стали цвета кофе с молоком, если молока налить побольше. Под обложкой – аккуратным почерком, не то что его каракули, – выведено имя владельца: Роберт Дюпрей. 8 класс. Роберт. Дюпрей. Вольфи пробует на вкус иноземную фамилию. Силится представить себе старшего мальчишку, который так аккуратно писал сочинения.
Чувство, что до тебя в доме, где казалось, всегда был только ты один, с самого рождения, жил кто-то другой – странное донельзя.
Может быть, это какой-то мамин родственник, про которого она забыла рассказать? Нет, Дюпрей – с такой фамилией родственников у них точно нет.
Обязательно нужно у нее разузнать, как представится случай.
А на полях тетрадки вьются нарисованные карандашом эдельвейсы – хорошо нарисованные, видно даже, что цветочные лепестки бархатные, как в жизни. Совсем не по-мальчишечьи, не по-взрослому. Вольфи презрительно фыркает. Вот еще – цветочки! Какой-то он смешной и нелепый, этот Роберт Дюпрей.
Перед сном Вольфи нужно еще узнать, удостовериться:
– А ты точно меня не накажешь?
– Завтра Рождество, – говорит мама, как будто бы он и сам не знает. И словно оправдывается, что Рождество. – Спи давай.
Щека ее пахнет ванилью и кардамоном – праздником.
Ночь за окном не черная, а мохнато-синяя – снег освещает весь мир огромным вездесущим фонарём, чтобы никому не было страшно.
Вольфи – волчонок с ангельской фамилией – хочет и не может представить себе Бога.
Каким он должен быть, если на него служит капеллан Кройц?
И только уже засыпая, он видит его: Бог совсем как люди, только почти без возраста, но скорее взрослый, с серой бородой и тонкими пальцами.
Он худой, Бог – и с очень грустными глазами.


Госпожа Берхт и Мрачные ночи
– Знаешь, завтра будет праздник: смех, веселье там и тут.
В этот день восторг и радость Сами в дом к тебе придут.
Ночку подождать всего, а назавтра – Рождество![1]1
«Morgen, Kinder, wird’s was geben» – старинная рождественская песенка. Автор неизвестен, текст приписывался то Филиппу Барчу, берлинскому поэту начала 19-го века, то немецкому органисту и композитору Карлу-Готлибу Герингу, который напирал для этой песенки музыку. Перевод Анны Логиновой.
[Закрыть]

Так поют перед самым праздником в Городке Ц., когда выпекают охряные пряники и покрывают их белой лимонной глазурью, когда ставят ёлки и приносят с ними в дома запах хвои и свежих хмелевых шишек, когда открывают последние окошки адвентского календаря, чтобы увидеть нарисованного младенца Христа или ангелов в золоте.
«Ночку подождать всего, а назавтра – Рождество!» – бормочет себе под нос Вольфи.
И почему оно всегда так – ждешь-ждешь, готовишься. Каждый день просыпаешься с мыслью: а ведь праздник скоро. И от этой мысли щекочет где-то в животе, посередке, рядом с сердцем. Мама закрывает двери в гостиную – не ходи туда до праздника, Вольфи, потому что за ней стоит елка с желтыми свечами, каждая в маленьком металлическом блюдечке, для воска. Под елкой – подарки в разноцветной бумаге, а на комоде – ясли: Иосиф, волхвы, дева Мария и младенец Христос в разноцветных одеждах, вырезанные из липового дерева другом детства дяди Вильфрида, который живет где-то далеко, за горами, за границей. Он так хорошо их вырезал из мягкой древесины, что у младенца видны все пять деревянных растопыренных пальцев на пухлой руке.
И ходишь каждый день мимо этой двери – каждый раз затаив дыхание, будто если дышать, дверь сама откроется и секретам конец.
А потом – рраз! – и от Рождества уже ничего не остается, кроме конфетных оберток и маминого подарка, потому что, конечно же, никакого Николауса не бывает, а на подарки зарабатывает мама в скотобойне Родла.
«Мам, а в этом году опять будем у дяди Вильфрида справлять?» – спрашивает каждый год Вольфи.
Первое «взрослое» Рождество – ему было пять лет – они провели в доме на улице Сахарная Мельница. Он до сих пор помнит огромную елку – до потолка, увешанную прозрачными шарами с нарисованными домиками и зверями, натертые воском полы – до блеска – и накрытый в обычно запертой «крестьянской горнице» стол. Блюдо посередине стола с огромным гусем в поджаристой шкурке.
И жарко протопленные комнаты – не то что у них зимой.
А мама отводит глаза и нарочито спокойным голосом отвечает: «В этом – нет. Может быть, в следующем. Не каждый же год справлять одинаково». Но этот обещанный следующий год отчего-то никак не приходит.
Рраз! – и наступают Мрачные ночи да зачарованные дни, время от Рождества до праздника Трех королей в январе, когда по свету рыщет нечистая сила. Например, госпожа Берхт, про которую рассказывала Вольфи тетя Виола.
Тетя Виола рассказывает, как поет. Когда Вольфи был маленький, он с ногами забирался на стул у огромной плиты и смотрел, как тетя Виола печет рождественское печенье: маковое, шоколадное, бисквитное с морковными цукатами и его любимое – «глазастое». У него в середке – колодец, со дна до самого верху наполненный абрикосовым джемом, а бока посыпаны пудрой, белой, как снег. Рождество без печенья тети Виолы – не Рождество.
Тетины руки летали над блюдами с готовыми звездами и цветами, она украшала их шоколадом, молотыми зелеными фисташками и рассказывала:
– Маленькая она, щупленькая, госпожа Берхт, волосы как пакля, спутанные, а одеваться любит в белое платье. Хотя, конечно, самое главное – одна нога у нее перекручена, ну, словно попала на поле в молотилку или еще куда. Придет, встанет у городских ворот, чтобы лучше видеть, кто из детей в этом году слушался, а кто баловался. Плохих госпожа Берхт заберет, плохим напасти накликает. А хорошим поможет и одарит – подарками и хорошими новостями.
В пруду – и тетя Виола кивает куда-то в сторону, туда, где, если идти по улице Сахарной Мельницы и свернуть на Кожевенную, покрытый снегом Ледяной пруд, – хранит она души нерожденных младенцев. А за ней вышагивают дети, которые умерли до крещения – вот так вот, вереницей, в детских рубашонках. Ее никто не видит – только те, к кому она приходит. Ну и те, кто родился в воскресенье – те вообще всю нечисть видеть умеют, они особенные.
И еще в Мрачные ночи несутся по заснеженным полям вокруг Городка Ц. призрачные всадники на рослых конях, а под ногами лошадей вьются поджарые черные собаки – это их время, время Дикой охоты. Горе тому, кто не прибрался в доме, кто оставил на чердаке сушиться мокрое белье – неулыбающиеся всадники прихватят забытые простыни с собой, чтобы сшить из них в наступающем году саван для тех, кто живет в доме.
Мама морщится, когда все это слышит – она вообще считает тетю Виолу доброй, но глуповатой – а однако ж с чердака вещи убирает и бельевые веревки сматывает в клубок. Так, говорит, делали и бабушка, и прабабушка – и не ей старые традиции нарушать. А вдруг и впрямь призрачные всадники появятся в доме и принесут несчастья? Во всем Городке Ц. не найдешь того, кто забыл до Мрачных ночей снять белье с чердаков.
Рраз! – и вся железная дорога, которую подарила мама на Рождество, уже собрана, и только деревья осталось расставить и приклеить бумажную крону к стволу, чтобы лучше держалось. Вольфи старается, но это скучно – клеить разрисованные ветками и листами бумажки к щепочкам – стволам. Поэтому он сбивается, кроны мнутся и комкаются. Нет у него терпения!
– Давай я, – говорит мама. Она аккуратная, у нее все получается.
– Мам, – спрашивает Вольфи, – а когда я родился? Ну, в какой день?
Мама морщит лоб так, что он собирается гармошкой и кажется, что кожа у нее тонкая-тонкая, не толще бумаги, в которую дядя Вильфрид заворачивает свои папиросы.
– Погоди… наверное, нет, точно, была еще служба – ну да, в воскресенье. Ты родился в воскресенье.
– Значит, я – счастливчик, – радуется Вольфи, – и если захочу, увижу всех – и госпожу Берхт, и рыцарей. То, чего никто не видит.
А по городу идут перхты. Какая дорога их приводит, и далеко ли им шагать до Городка Ц, никто не знает. Просто однажды после Рождества и новогодней ночи выглянет в окно булочник Долльнер или старушка, живущая у Ледяного пруда, или дядя Вильфрид – а по улице, тяжело ступая, идут они. Козлиные рога – мощные, крутые – то торчат вилами, то закручиваются толстыми кольцами, морды-маски глядят пустыми глазницами, кривят резной рот. Сколько у одного перхта рогов – четыре, шесть? Страшно посчитать. Топорщится свалявшаяся шкура, подметают снег хвосты, в волосатых ручищах – цепи и хворостины. Может, это кто-то из своих вырядился перхтом, может, под маской Сепп Мюллер. Или Молодой Кляйн. А может, чужие пришли, неизвестные, и чего от них ждать, непонятно.
Когда Вольфи был маленький, то думал, что это – черти. Нет, сказала тетя Виола, перхты тоже могут быть и хорошими, и плохими. Могут в снег лицом макнуть и цепью огреть, а могут и удачу в дом на целый год принести.
Они стучат – и стук гулко разносится по большому пустому дому. Слишком большому для одного только маленького мальчика и его мамы. Три удара – два – еще один – будто кулаки у них чугунные.
– Мам, перхты!
Они ни разу еще не заходили к ним в дом. Перхтов нельзя не впустить – они приносят удачу, а если рассердятся, могут и окна цепями побить, и самшитовые кусты поломать. Поэтому мама – хотя и хмурится, она ведь не любит, когда к ним гости приходят – а дверь открывает.
– Благослови вас Бог!
А перхты: один огромный, будто статуя у церкви, другой щуплый, а третий совсем маленький – «мальчик-перхт», думает Вольфи – проходят в кухню и в комнаты. Мама что-то говорит им, а они только поигрывают хворостиной – нельзя перхтам говорить ни слова. Почему – и не помнит никто уже. Поэтому они молча открывают шкафы – убраны ли, проводят лапами по столам и полкам – не пыльно ли. Проверяют. От щуплого перхта, который стоит совсем рядом с Вольфи, пахнет мокрой шерстью, табаком и спиртом, как от Сеппа Мюллера к вечеру, когда тот сидит в одиночестве в своем кабачке и допивает «последний шнапс». «Последний шнапс, Вольфи, – говорит он тогда, – лучше всяких колыбельных». Мама называет Сеппа Мюллера пьянчужкой, но это она его просто не любит.
– Эй, Вольфи, слышь? – лихорадочно шепчет вдруг маленький перхт, когда мама уходит на кухню за подарками, чтобы уже выпроводить незваных гостей. Вольфи примерзает к полу – перхтам же нельзя говорить!
– Вольфи! Ну чего стоишь, эй, дубина, – уже сердится Вальтер, – не мог же я так просто прийти, мама б твоя меня ни за что не впустила.
Она и вправду б не впустила. Она не любит гостей – только изредка приходят к ним в дом мамины подружки, например, перед Рождеством. И тогда они сидят на кухне и разговаривают вполголоса, как на похоронах, а мама опять рассказывает, как здорово они справляли Рождество, когда папа был еще жив. «Теперь-то я устраиваю всю эту катавасию с елкой и подарками только из-за парнишки. Самой не до праздников», – обязательно прибавляет она, даже не оглянувшись, нет ли поблизости Вольфи.
И еще говорит «бедный сиротка», «бедняга, у него нет отца», и все в таком духе. Тогда Вольфи ужасно злится, потому что никакой он не бедный, и если не считать пары дней в году, он замечательно обходится и без отца. Тогда Вольфи даже хочется, чтобы праздники поскорее закончились и можно было бы пойти в школу.
– Завтра, после службы, приходи к мертвецкой, – шепчет Вальтер, – повидаемся.
Перхты возьмут все, что ты им предложишь – и рождественское печенье, и домашнюю белую колбасу, и сливовый конфитюр в стеклянном бочонке, который осенью мама сделала из слив, что растут на дереве у забора. И уйдут, оставив после себя в доме запах мокрой шерсти, табака и шнапса…
Когда Вольфи был маленьким, то верил всем рассказам тети Виолы, и как только на Городок Ц. опускались мутным облаком сумерки, бежал со всех ног домой. И чудилось ему, что по улице за ним ковыляет старушка в темном, с искалеченной ногой и нерожденными детьми на поводу.
Теперь-то он, конечно, взрослый и в такие глупости не верит. Вряд ли госпожа Берхт злее, чем воспитатели интерната для трудновоспитуемых детей – думает он в церкви, вышагивая за капелланом Кройцем с кадилом в руках. А наливая вино в потир, капеллан Кройц выпивает всегда все до дна, а старенький священник Вайсс, который теперь очень редко служит, только половину – думает: вот получается, что одному человеку госпожа Берхт строит козни и приносит несчастья, другому – подарки и радость. Одному – зло, другому – добро. Для него Рождество – веселый праздник, а для мамы – грустный. Чудно!
– Ну наконец-то! – радуется Вальтер.
Он подпрыгивает на месте прямо у ворот кладбища – холодно ж! – оставляя на снегу рифленые отпечатки подошв, отчего утоптанное получается в мелкую шашечку, и размахивает руками. Чтоб согреться.
Кладбище в этот час совсем темное, и только где-то у дальних склепов горит одинокий огонек, кто-то приходил проведать своих. И еще в капелле, у самых решетчатых ворот – призрачный свет: перед огромным распятием горят свечи. Они всегда здесь горят, их видно через отворенные вечно двери, если идти по Кладбищенской улице мимо – и Иисус глядит, укоряя, и лицо его будто живое, и щека как бы подергивается, и оживают безжизненные, деревянные пальцы ног, приколоченные к кресту огромным гвоздем.
Молчит седой вечер. Мертвецкая чернеет огромными дверями – настоящими воротами. Кто-то в Городке Ц. называет ее «покойницкой», а Сепп Мюллер – «гостиницей мертвяков». Но на самом-то деле это просто большой зал. Тут в гробах дожидаются похорон жители Городка Ц., недавно умершие.
– Ну чего? – выразительно смотрит на Вольфи друг. – Устроим испытания?
Вальтер обожает устраивать «испытания». И Вольфи тоже. То в темноте забраться на церковную колокольню, то руками поймать форелей в ручье около мельницы, то на спор залезть на электрический столб. А только испытания в Мрачные ночи – это совсем-совсем другое.
Мама бы, конечно, сказала «нельзя». Если живешь в Городке Ц., да еще и с такой мамой, как у Вольфи-Кристофа, то вокруг теснятся сплошные «нельзя» и «надо». Нельзя громко играть и смеяться – так делают только трудновоспитуемые. Нельзя быстро бегать – упадешь. Надо слушаться старших, даже если они и неправы. («Старшие лучше знают», – говорит в таких случаях мама.) Надо ходить в церковь, а то соседи не поймут. «Что скажут люди?» – спрашивает тогда мама и строго смотрит на Вольфи. Надо-нельзя-нельзя-надо…
Ходить в покойницкую тоже, конечно, нельзя. Да еще и в Мрачные ночи. Поэтому мама никогда про это и не узнает – решает, как обычно, Вольфи. Она много про что не знает.
– Значит так, входим по одному, – предлагает Вальтер, – доходим до мертвяка, смотрим на него – и можно выходить. А?
– Давай, – обреченно говорит Вольфи. Главное ведь – не показаться трусом. И неизвестно ведь, что хуже – мертвяки, капеллан Кройц, госпожа Берхт или мама, когда рассердится не на шутку.
Вальтер исчезает за дверью покойницкой, и Вольфи кажется, что время притормозило и тянется еле-еле. Вдруг оказывается, что он совсем один на улице, а вечерний полумрак стал густым и пахнет печным дымом. А вдруг не один, и госпожа Берхт притаилась за углом, чтобы наказать его за все проделки в этом году? Вольфи страшно – а вот рыцарю Кристофу все нипочем. Рыцарь Кристоф глядит на Вальтера, вышедшего из мертвецкой – Вальтер такой же белый, как и снег – и знает рыцарь, что, если понадобится, он и Вальтера защитит.







