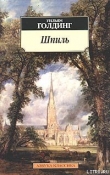Текст книги "Картина"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Но Лосев не дал себя сбить и незаметно переадресовал тост на зампреда, у которого тоже есть своя страсть, свое увлечение. Каменев охотно подтвердил, что если своего пристрастия нет, то и работать неинтересно. Лично он неравнодушен к музею и не скрывает этого. Областной музей – заведение бедное, не доходное, оно держится на сознательности сотрудников малооплачиваемых… И в то же время музей единственно вечное, единственное, что собирает, сохраняет эпоху! Ценность музейных вещей постоянно возрастает…
Лицо его разгладилось, стало округлым и мечтательным, он увлекся, поставил рюмку, забыв про тост. Все, что уходит из жизни, остается лишь в музее. И мы, и наше время, вот эти рюмки и эта лампа, и скатерть, и часы – все сохранится лишь через музеи. Больше того, и герои вашей стройки, с главврачом и первым новорожденным, все дойдет до потомков с помощью музея. И что замечательно – в музее, даже таком небольшом, как областной, хранятся драгоценные вещи, взять те же картины, скульптуры, это как бы золотой запас нашего края. Производственное оборудование морально стареет, да еще как быстро. А экспонаты – наоборот, со временем дорожают, приобретают больший интерес. Золотой этот запас имеет ценность прежде всего для области. Здесь то, что дорого сердцам земляков, истоки патриотизма, чувства родины… А музейные работники! Кто идет в музеи работать – бескорыстные люди! Только влюбленные в искусство – другие там не удержатся: невыгодно!
Теперь, когда Каменев разошелся, как того и хотел Лосев, разговор перестал Лосеву нравиться. Как будто в словах Каменева был умысел, дальний прицел. Словно бы он нажимал на то недоговоренное, насчет картины.
Перед отъездом они остались вдвоем. Каменев взял его под руку, отвел от машины и передал записочку к одному товарищу, влиятельному по части оборудования кинотеатра. Товарищ отдыхает сейчас неподалеку в санатории, и Лосеву самое время в воскресенье съездить к нему, покатать его по окрестным местам. Затем без перехода спросил напрямик:
– Ну так как, Степаныч, отдашь картину? Я тебя не тороплю, мне важно знать в принципе.
– Неудобно как-то.
– Перед кем?
– Перед общественностью.
– У тебя ж предлог несокрушимый… Можешь временно дать, а там посмотрим… Не пожалеешь! Мы это торжественно обставим. Телевидение пригласим.
Примерно к этому Лосев был готов, однако решения у него не было. Он мог Каменеву отказать, но что от этого город выгадает? И с кинотеатром застрянет, и остальное. А если согласиться, то, значит, Жмуркину заводь без боя отдать. И хотя до сих пор у него и мысли не было бороться, завязывать какой-то бой, но тут вдруг почувствовал, что картина и Жмуркина заводь сопряжены между собою, вместе они имеют для него особый смысл, а порознь нет.
Его подмывало поделиться всеми этими соображениями с Каменевым. Приятельствовали они много лет, доверяли друг другу, а вот что-то мешало. Не потому, что именно Каменев, нет, Лосев чувствовал, что просто язык не поворачивается говорить о таких странных вещах.
– Не торопите меня, – Лосев вспомнил, что Каменев недолюбливает Уварова, какие-то у них трения. – Я хочу Уварова поприжать на этой художественной арене. С неожиданной стороны, а?
Каменев остановился, посмотрел на Лосева запоминающе.
– Ну, ну… Уваров тебе, конечно, не уступит. – Он вдруг усмехнулся. – Ты, значит, собираешься ему подвесить невнимание к искусству? Будешь защищать эстетические ценности? Ну что ж, правильно, это полезно выявить – его отношение к живописи. Да и вообще к культуре. Пусть узнают. А? Что-то в этом есть. А? Небось под это ты с него чего-то выжмешь? С меня и с него? Хозяйственный ты мужик, Лосев. Только смотри, себя не перехитри!
Лосев рассмеялся невинно, как бы признаваясь, что Каменев видит его насквозь, от него не скроешься. А Каменев смотрел на него без улыбки, вообще безо всякого выражения на лице.
Продолжая прятать глаза в улыбке, Лосев обронил невзначай:
– Далась вам эта картина. Не Репин ведь, как вам сказали, и не Рембрандт.
– Эх, Лосев, Лосев, цивилизованный ты человек, ничего не скажу, а мыслишь недалеко. Я ведь почему еще заинтересован. – Он вздохнул мечтательно. – Под твоего Астахова мы можем еще кое-чего выставить. И того же Астахова, и других. Приобрести можно будет несколько приличных полотен, обменять с другими музеями. – Он нежно взял Лосева под руку. – Мои музейщики такие берутся подвиги свершить! У них, знаешь, какие планы… Двадцатые, тридцатые годы собрать. Физиономия у нас своя появится, ездить к нам начнут. Это ж большое дело!
– Надо же, – с чувством ахал Лосев. – Да это колоссально!
Прояснилось, какая у Каменева заинтересованность. Это было полезно, чтоб в каком-то смысле не продешевить. Этой картинкой, если умеючи, можно кой-чего вытянуть, и немало.
Машина отъехала, клубя пылью. Все, кто провожали, посмотрели на Лосева. Он вертел в руках конверт с запиской влиятельному товарищу. Лицо его почему-то вдруг скривилось, приобрело то яростно-жесткое выражение, при котором никто не решался обратиться к нему. Все молча смотрели, как он, не читая, разорвал конверт, потом еще раз и еще, аккуратно бросил обрывки в урну и зашагал к исполкому.
Иногда, проходя мимо школы, Лосев видел автобус или сваленные у подъезда зеленые рюкзаки, и у него появлялось тягостное чувство, какое бывало, когда он оттягивал неприятный разговор или визит в больницу.
Однажды он столкнулся с Тучковой, она покраснела, будто застигнутая врасплох, остановилась, он тоже остановился. Тучкова опустила голову, ровненький пробор ее и тот был красный. Запинаясь, она сказала, что пришел ответ от Ольги Серафимовны. Тучкова послала ей фотографии и написала про филиал; Ольга Серафимовна тоже считает, что Лосев все уладит, в крайнем случае можно подключить ему в помощь Бадина… Впрочем, лучше ему самому прочитать, письмо у Тучковой дома, она может занести ему или как он скажет…
Он ждал еще чего-то, но она замолчала, не поднимая глаз.
– Как-нибудь занесите, – сказал Лосев. – Но напрасно вы ее заверили. Кто вас уполномочивал? Легко сказать – уладит! Не так эти вещи решаются, – все больше досадуя, говорил он, глядя на ее выгоревшие волосы.
Она стояла перед ним, не поднимая головы.
– Да и некогда мне возиться с этим, – сказал он с неясной ему самому злорадностью. – Дома угрозы расселять надо. А куда? А? А ты говоришь – пейзаж. Не до пейзажей мне. То-то вот.
Так он и ушел, не услышав от нее ни слова. Ему хотелось обернуться, но он боялся, что она все еще стоит с опущенной головой. Долго еще он ощущал спиной это молчание, оставленное позади.
Как назло, в этот же день, к вечеру, появился Рогинский, вернее пробился к нему во время перерыва на совещании строителей. Поблагодарил за транспорт и показал две старенькие цветные открытки, изображающие Жмуркину заводь. Одна совсем давняя, еще до сооружения дома Кислых; оказывается, тогда на этом месте стояла купальня, мостки были, кабины для раздевания, и выше, на берегу, раскинулся красивый павильон с полосатыми тентами, вазами, фонариками. На второй открытке был уже дом Кислых, но затянутый какими-то полотнищами, увешанный флагами и сфотографированный с улицы, так что Жмуркина заводь угадывалась позади дома. У парадной стоял городовой в белой рубашке, шароварах и с шашкой.
Рогинский ловил интерес в глазах Лосева и все допытывался: «А? Здорово?» – и сам восхищался. Открытки он взял из коллекции Поливанова, у которого много иконографического материала и в том числе и по Жмуркиной заводи.
– Как старик поживает? – спросил Лосев.
Рогинский посерьезнел, скривил губы, показывая, что дела Поливанова плохи, и настолько, что говорить об этом не стоит.
– Передайте ему, что я зайду в воскресенье, – сказал Лосев, не успев сообразить, зачем он это делает.
7
Он полагал, что найдет поливановский дом безошибочно. Между тем на улице Володарского его не было. Посмеиваясь над собой, Лосев свернул в Заячий переулок, оттуда вышел на Крайнюю, постоял в раздумье, сверяясь с забытым, чисто механическим ощущением, вызывая память ног, и ноги повели его вправо, вправо, к маленькому двухэтажному деревянному дому с оштукатуренным низом. Дом был окрашен незнакомо, весь зеленым, только оконные резные наличники белым и белым же дверной косяк с карнизом. Бывая на Крайней, Лосев, может, и проходил этот дом, но никак не связывал его с поливановским, столько лет прошло, вся улица изменилась, и дом загримировался. А вот сейчас подошел к той парадной с козырьком, с почтовой щелью, с железками, чтобы подошвы обчищать, и застучало сердце. Посмотрел в угловое окно второго этажа. Вечернее низкое солнце ослепило стекла. Лосев пальцем постучал по трубе трижды, усмехнулся. Где под звонком висела эмалированная табличка «Доктор Цандер», – никаких следов от нее не осталось, все было закрашено, зашпаклевано. От поворотного звонка осталась ямочка. Парадным ходом давно не пользовались. В глухой калитке Лосев повернул тяжелое кованое кольцо, вошел во двор.
Сад разросся, однако был ухожен не в пример прошлому. Тогда беседка разваливалась, заросла кустами акаций. Теперь беседку свеже выкрасили голубеньким с синим, мелкая ее выемочная резьба проступила как новенькая. Беседка была та же самая, в которой часами гоняли чаи, Поливанов там ораторствовал, призывал и наставлял. Лосев и внимания не обращал на эту беседку, она даже казалась тогда старорежимной уступкой древнему испуганному доктору Цандеру, которому когда-то принадлежал весь дом. Починенная беседка выглядела редкостной игрушкой, может, одна такая и сохранилась на весь город, а ведь было их в каждом садике…
Зато сам Юрий Емельянович Поливанов изменился, да так, что Лосев не узнал его. То есть, конечно, понял, что это он, но никак не мог соединить с тем Поливановым, никак не мог его состарить до такого. Потому что это было не от старости. Щеки его запали, весь он исхудал, особенно страшна была его тонкая, вся в обвислых складках пятнистая шея, нижняя губа оттопырилась, и бескровно-белое его лицо приобрело выражение брезгливое. Сквозь кожу просвечивала сухость черепа, костей, напоминая Лосеву школьный клацающий скелет.
«Как же так?.. Как же так?..» – мысленно повторял Лосев, ничего не понимая. Со времен его детства Поливанов оставался неизменным. Властный рокочущий здоровяк, огромный, тяжелый, летом в коломянковой куртке, зимой в овчинном полушубке с папахой, Поливанов стал такой же принадлежностью города, как водонапорная башня, как полегший дуб в парке. Лосев был уверен, что когда б он ни пришел в этот дом, он застанет Поливанова таким же и, откладывая год от году это свидание, нисколько не беспокоился.
Как же так, твердил он ошеломленно, да что же это такое?
По дороге сюда он готовился к попрекам, к язвительным подковыркам Поливанова: не стыдно, позабыл старика, стал начальством, зазнался, теперь мы тебе не нужны, мы люди маленькие, мы ему не пара, а, между прочим, старый-то друг лучше новых двух… – весь тот набор, который Лосеву приходилось выслушивать и от других. Поливанов делал бы это со вкусом, с грохотом, а главное, имел на это право. Лосев приготовил выложить ему кое-что в ответ. Но сейчас все ответы и накопленные претензии отодвинулись, помельчали и остались лишь жалость да тоска перед непоправимостью.
Во тьме запавших глаз Поливанова было что-то пустое, взгляд то появлялся, то пропадал, прерванный этой пустотой, ничем. Лосев вдруг почувствовал, что на него смотрит смерть, работающая, живая, не та, что в покойнике застылом, холодном, превращенном в предмет, где смерть уже не присутствует, а есть лишь ее след, ее результат. В Поливанове смерть жила, вовсю жила, в полном цвету. Она свила гнездо между его широкими, крепкими костями и высасывала и поедала его тело. Она хозяйничала в Поливанове, она существовала в нем и отдельно от него, временами выглядывая вместо него из глазных впадин. Зрелище этой действующей, торжествующей смерти было отвратительно и страшно.
Поливанов полуобнял Лосева, а сам следил за его лицом. Лосев закрылся белозубой улыбкой. Это он умел. С веселым открытым взглядом похвалил бодрость и энергию Поливанова так, что тот успокоился. Причем слушал с жадной доверчивостью, будто слово Лосева что-то значило, решало.
В доме расположение комнат осталось тем же. В маленьком зальце стояли те же кадки с китайскими розами. Крашеный дощатый пол блестел. Шкаф, этажерка, все солидное, старое стало красиво. Солнце высветило стены, пронизало зелень листьев, и Лосеву вспомнилось, как он мальчиком приходил не сюда, а к дяде Феде, там тоже было похожее зальце, вдоль стен стояли стулья в холщовых чехлах, диванчик стоял зачехленный. Никто из детей в доме никогда не видел, какая обивка под чехлами. Чемоданы были в чехлах, книги все были обернуты, сама тетя Надя постоянно ходила в переднике, и только по праздникам вынимали бостоновые костюмы, выходные туфли, доставали драповые пальто, шляпы, на стол ставили фарфоровые чашки. Вспоминалось это сейчас с усмешкой над той скудной нафталинной жизнью, и при этом почему-то приятно было увидеть у Поливанова позабытые гнутые венские стулья с соломенными сиденьями, конторку с зеленым сукном, по верху огороженную точеными перильцами, на стене расписные доски, иконы, висела знакомая эмалированная табличка «Доктор Цандер Х., по внутренним болезням». И рядом высокие, в дубовом футляре английские часы, похоже те самые, что стояли в прихожей у Цандера рядом с чучелом медведя.
Лосев шумно хвалил сбереженную старину, и Поливанов, довольный, рассказывал, что все это он собирает для будущего музея, все завещано городу, когда-нибудь ведь займутся и культурой, не все же строить стадионы да кабинеты начальников. Лосев пропустил это мимо ушей и с той же восторженностью перешел в столовую, где, видно, к его приходу были приготовлены открытки, альбомы и какие-то рулоны в черных гранитолевых футлярах.
Кроме тех двух открыток, у Поливанова имелся толстый альбом, большая коллекция собранных за разные годы почтовых открыток с видами Лыкова. Поливанов одну за другой показывал их Лосеву, поясняя, какой год, что за здание, как будто Лосев был приезжим. На цветных дореволюционных открытках пестрела и ярмарка 1903 года, карусель, городовой и площадь с новеньким пожарным депо и каланчой, которую после нынешней войны снесли, и монастырь с кладкой из красного ракушечника и белого камня… Некоторые открытки Лосев знал, но многие держал в руках впервые, он и не подозревал, что их существует столько. На обороте кое-где сохранились николаевские марки и были строки, написанные красивыми косыми почерками, какими ныне не пишут.
Павильон на берегу Жмуркиной заводи, по словам Поливанова, построен был к приезду цесаревича Александра, проект делал вице-губернатор Жмурин, кстати способный архитектор, имеется альбом его проектов по Лыкову. Когда-то в этом городе собирались делать курорт, проводить здесь торговые ярмарки.
Поливанов и прежде умел рассказывать. Сейчас слова его обрели особую значительность. У него не было сил, как прежде, вскакивать, бегать, стучать палкой, он вкладывал в голос эти свои привычные размашистые жесты.
Сидя в высоком резном кресле, посверкивая глазами из-под косматых седых бровей, он напоминал Ивана Грозного.
Про стройку он не спрашивал, про намерения Лосева тоже не спрашивал, но каждая фраза звучала уличающе, с каким-то намеком.
Иногда в голосе его пробивался смешок, как бы предвкушение.
Появился Рогинский. Сверху спустились две старухи, одна накрашенная, коротко стриженная, с папиросой, другая с мягко-добрым лицом, мягкими руками, вся тряпично-ватная, Лосев смутно помнил ее – тетя Варя, сестра Поливанова. Следом за ними пришел молодой длинноволосый, нагловато-заносчивый паренек. На нем был пиджак с металлическими пуговицами, под рубашкой вывязан шелковый шарф. При виде Лосева он насупился, попятился, но Поливанов подозвал его и представил как своего молодого друга, Константина, юношу одаренного, склонного к истории, рабочего по положению, музыканта по призванию… Все это говорил он в пику тому, что мог подумать Лосев, и Константин, или как его тут звали – Костик, успокоился, зажевал резинку с тем же нагловато-заносчивым выражением.
Из задней комнаты Костик принес папку с проектом дома Кислых, который, оказывается, был недостроен, предполагались еще боковые флигели. Проект напоминал сгоревший павильон Ивана Жмурина. К реке вели каменные спуски, на отмели опять же была купальня, по откосу стояли скамейки… Имелось еще несколько листов соседних участков набережной и площади.
Перед Лосевым появлялся недостроенный, несбывшийся город старинной прелести. Он был и похож, и непохож на Лыков, выученный с детства. Ладный, чистый и словно бы забытый. Такого города никогда не было, но что-то подобное было, давнее, как вкус чая с топленым молоком, одно из самых ранних его детских воспоминаний…
В проектах и планах будущих пятилеток Лосев четко представлял себе многоэтажные, с лоджиями, здания центра, плоские крыши коттеджей (это он отстоял их!) – целый район к Ольгиной роще, центральный бульвар и в конце площадь, главная площадь, мощенная белыми плитками, с краю у нее огороженный петровский дуб на фоне гостиницы. Все это было вычерчено, промерено, сосчитано в рублях, метрах, разрисовано архитекторами, внесено в списки и сметы и виделось Лосевым реально, так что кроме того города, в котором он жил и работал, для него существовал уже другой Лыков. Теперь же выплывал из прошлого наивно-мечтательный городок, затейливый, непрактичный, как старые бронзовые часы или эта садовая беседка. Но что-то в нем было. Какая-то отдельность, красота. Уютность. Неважно, что он остался в эскизах, в этих перспективах с блеклыми нежно-голубыми, розовыми отмывками. На длинной молочно-коленкоровой кальке, которую разворачивали перед ним, были подробно выписаны кареты, лошади, шли дамы с маленькими кружевными зонтиками, кудрявились аккуратные деревья.
В своих выступлениях и докладах Лосев привык говорить про неблагоустройство дореволюционного Лыкова, невылазную грязь, лачуги, бараки, где ютились рабочие кожевенного завода, про кабаки, пожары, эпидемии, про отсутствие водопровода. Все это было правильно, но сейчас впервые Лосев увидел, что имелось и другое, что в том, прошедшем, веке жили люди, которые тоже мечтали про другой Лыков. Городская управа хлопотала о строительстве каменного моста, в конце концов через земство и Столыпина добились ассигнований и мост построили, тот самый, по которому он ежедневно ездит. Стараниями земства были открыты три новых начальных училища, что тоже было непросто и потребовало долгого хождения по департаментам вплоть до князя Мещерского, которому преподнесли через его сестру каких-то особой красоты охотничьих собак.
Тут в рассказе Поливанова появилась фигура самого Ивана Жмурина, из местных дворян, который начал службу городским головой и отличался тем, что всех, уличенных во взятках и поборах, заставлял вносить такие же суммы на строительство водонапорной башни. Когда его перевели в губернию, он и там продолжал заботиться о лыковских обывателях. Пользуясь приездом наследника, он замостил почтовый тракт, идущий сквозь Лыков. Городской парк, оказывается, заложен был и разбит также с его помощью. Будучи за границей, он специально ездил к знаменитому Пюклеру, садовому художнику, консультировался с ним о характере лыковского парка. Был он картежник, гуляка, и, видно, не без его участия купец Остроумов, после знаменитого загула с утоплением парохода, решился соорудить к приезду наследника мраморные ворота. И соорудил – из лучшего крымского золотистого мрамора, а потом под каким-то предлогом ворота эти разобрали и мрамор пошел на внутреннюю отделку актового зала и вестибюля Земледельческого училища. Там, где теперь техникум.
– Вот оно что! – сказал Лосев. – Мне и в голову не приходило, откуда у нас такая роскошь.
– А ты как полагал? Все, душа моя, имеет происхождение, – сказал Поливанов. – У всего есть история. Думаешь, только мы старались? До семнадцатого года тоже чего-то пытались, находились людишки, которые заботились и двигали Россию.
На старинной, толстого картона фотографии с титулом владельца: «Королевский фотограф Вильгельма Второго и герцога Вюртембергского Эдмунд Рисе» – стоял в черном сюртуке, в светлом цилиндре рослый красавец Иван Жмурин. Военная выправка и легкость были в его фигуре. Подкрученные усики торчали вверх, и под ними с трудом удерживалась улыбка. Ему было лет сорок, и глядел он на Лосева с такой симпатией и пониманием, как будто что-то знал про него.
– Хорош гусар? – спросил Поливанов. – Увеличь портрет и повесь у себя в присутствии. А что? Твой предшественник. Верой и правдой служил. Невозможно? Небось считаешь: ежели до тебя что и сотворили, то все не так, самое толковое началось с твоего прихода. И самое главное.
– А как же, – согласился Лосев. – Нынешнее начальство всегда самое лучшее начальство.
Попробовал представить себе портрет Жмурина у себя в приемной и ряд портретов тех, кто были градоначальниками, городскими головами, председателями горсоветов. Сколько их перебывало!
– Богатые материалы у вас, – сказал Лосев. – Поучительные. И по дому Кислых есть?
– А как же, – сказал Поливанов. – Ну-ка, Костик.
Сквозь распахнутые двери соседней комнаты Лосев увидел стеллажи, тесно набитые картонными папками. Одну из таких папок Костик принес и положил, но не перед Лосевым, а перед Поливановым.
Там хранились рисунки внутреннего оформления, плафонов, какие-то вырезки из газет, письма… Никогда Лосеву и в голову не приходило, сколько может существовать документов об этом доме, о Кислых, о его семье.
– Тут еще не все, – хвалился Поливанов. – И про их предков есть, а про потомков, которые во Франции проживают, про них Рогинский собирает.
– Досье. Про других тоже собираете? – спросил Лосев.
– Про всех выдающихся лиц, – сказал Рогинский. – Революционеров, деятелей искусства и прочих интересных… Это Юрий Емельянович завел…
Рогинский, обычно говорливый, был краток, уступая подробности и всю площадку Поливанову.
– Думаешь, помер и быльем поросло? Эх, знал бы ты… От каждого человека, душа моя, письменные следы остаются. – Поливанов склонил голову на плечо, словно бы примериваясь, оглядел Лосева. – И какие. Особенно при развитом бюрократизме. Ты вот поговорил с человеком тет-а-тет – и спокоен, концы в воду. А он, мазурик, жене про это сообщил, а та тетке своей написала, а тетка в дневник… Про кого хочешь я тебе разыщу. А уж если человек в должности большой, то ой сколько можно выяснить! Взять того же Жмурина. Такие, душа моя, секреты!.. – Он даже прицокнул от удовольствия, и все заулыбались.
Обычно в любом из лыковских домов Лосев держался по-хозяйски, потому что принимали его как хозяина города, а так как он был человек общительный, компанейский, то само собой становился как бы центром, главой, слушали его, понимая, что он знает больше других, сверялись с ним, смеется он или суровится; если кто с ним и заспорит, то Лосев был даже доволен, поскольку мог на нем показать свою силу.
Здесь же царил Поливанов, все здесь внимали Поливанову, слушали его как оракула, наперебой заботились о нем. Неужели когда-то и Лосев студентом вот так, раскрыв рот, сидел перед Поливановым?
От него ждали и сейчас того же. Он разглядывал все эти редкостные бумажки и картинки под устремленными к нему ожидающими взглядами.
Поливанов выкладывал все новые козыри.
Лосев хвалил, вежливо и преувеличенно. По тому, как слаженно помогали Поливанову, похоже было – все они о чем-то договорились; один Лосев не знал, когда и откуда начнется… Он только примерно догадывался, чувствовал, как устремление вел разговор Поливанов, не позволяя ни себе, ни кому другому отклоняться.
Взял он, к примеру, такого земского деятеля, как начальник Земледельческого училища Коротеев. Сколько сделал этот начальник для народного просвещения уезда. По нынешним временам ему бы Героя Труда дали. А?
– Не меньше, – поддержал Рогинский. – А мы… Улица была названа в его честь, и ту переименовали.
– Вот именно, – сказал Костик, и все посмотрели на Лосева.
– А этот пожарник…
– Исленев, – подсказала Поливанову дама с папироской.
– Исленев, он на свои средства оборудовал пожарную команду, несколько раз спасал город от огня… Нет, душа моя, отринуть-то их не хитро, легче легкого, ибо выгодно считать, что в России все никуда не годилось, все было мерзостью, угнетением и дикостью. Так ведь история, она все равно свое возьмет, как ты ее ни переиначивай, как ни гни под себя. Пятьсот лет город жил до нас; не только бунтовали и плакали, были и праздники, и умные дела, и красота. А мы считаем, что только мрак царил. Это же надо себя не уважать, предков своих! Отсюда Россию кожей снабжали, соль варили, тоже о чем-то кумекали. Пятьсот лет в трудах неустанных. Вся история прошла через город наш. Разве мало людишек было достойных! А мы кого-нибудь из них чтим? Кого-нибудь величаем? Кладбище старое разорили! А там, между прочим, была могила Спиридонова, героя Чесменской битвы. Вот она, полюбуйся, душа моя, надгробие какое стояло. Это из старого журнальчика фотография, вырезка. А рядышком с ним лежала актриса Протасова, гремела в середине прошлого века на всю Россию. Была, между прочим, и могила протоиерея Раевского. Из тех Раевских. Просветитель. Не бережем, разоряем. На твоем месте я бы… Хозяина нет у нас. Распустились. Никто никого не боится. Страху мало. Утек страх.
Прозрачно-слабая рука Поливанова погрозила Лосеву, сжала, сгребла что-то невидимое.
Получилось так, что Лосев сидел один, остальные напротив него, с Поливановым посредине; можно подумать – устроили судилище.
– От кладбищ многое и идет… У нас могилы не связывают с воспитанием. А если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают, предков. Нигде на эту тему не выступишь. Вот ты, Рогинский, в своем Обществе охраны памятников можешь лекцию предложить: «О значении кладбищ для человека?»
Рогинский кисло улыбнулся в ответ.
– Кладбище, оно для города летопись, – гремел Поливанов, – исторический мемориал, оно в любом случае ценность…
Лосев вспоминал – когда он был на могиле матери, знал, что ходила туда тетка, жена дяди Феди, и ограду по ее настоянию поставил зав. коммунальным отделом Морщихин, покрасил зачем-то алюминиевой краской. Лосев вдруг рассердился и сказал:
– Между прочим, Юрий Емельянович, кладбище начали разорять в тридцатые годы, вы бы тогда и цыкнули бы.
Не стоило затевать спор, чувствовал, что Поливанов нарочно вызывает его, заводит. Лучше бы поддакнуть, вознегодовать вместе со всеми, так нет, завелся-таки и остановиться не мог.
– …Я вас не виню, я-то понимаю и учитываю. Склепы да памятники были у кого? У купцов да дворян. Простой люд под деревянным крестиком лежал, чего тут разорять. А к богачам и вашим героям известно какое было отношение. Это мы теперь, задним числом, поумнели. Добрые стали, историей занимаемся. Но давайте и свою историю не забывать, отцов наших и дедов тоже понимать надо.
Вот тут Поливанов и произнес тихонечко так, как бы вспомнив, как бы к слову:
– Ты-то отца своего понимал?
– В каком смысле?
– Считал его чудаком, смеялся над его бреднями. А между прочим, душа моя, недавно перечел я кое-что. Весьма любопытная у него философия. Самодеятельная, но гуманнейшая…
– Что вы перечли?
– Его записи. Тетрадочку. Мудрец он, самородок, а ты его разве старался понять?
Но в это время дверь отворилась и вошла Тучкова.
По тому, как ее встретили, обрадовались и как она поцеловала старушек, а Костик вскочил ей навстречу, видно было, что она здесь человек свой. С ее приходом завозились, стали накрывать на стол, и разговор запрыгал в разные стороны – про старые церковные книги, которые собирал Поливанов, про последние раскопы археологов на подворье монастыря, про дожди и яблоки.
Перешли на веранду. Костик и Рогинский помогали носить посуду. Лосев хотел было сесть рядом с Тучковой, оказалось, что это место Костика, во всем тут поддерживался заведенный порядок; видно, часто собирались, шла у них какая-то своя жизнь, Лосеву неизвестная. Казалось, он знал все самое существенное, что совершается в городе. На самом же деле подспудно, в глубине струилась жизнь непредусмотренная, о которой он и понятия не имел.
Загорелые обнаженные руки Тучковой летали над столом. Блестел улыбчивый ее рот. Лосев ни разу еще не видел ее такой. «Красивые руки. Ишь размолодилась», – подумал он с обидой. Он выпил водки, чокаясь одинаково приветливо со всеми. Когда чокался с Тучковой, она посмотрела на него смело, без той распахнутости и восторга, скорее с любопытством. Ей интересно было видеть Лосева в непривычной обстановке, она тоже сравнивала. Она и понятия не имела, что когда-то он был завсегдатаем этого дома, тоже ходил и пивал чаи. Эти молодые воображали, что они тут первые, и Поливанов поддерживал их в этом.
Конечно, в доме многое переменилось. Раньше у Поливанова скрипели расшатанные табуретки, Лосев и не смог бы вспомнить ту мебель, никто не обращал на нее внимания, всюду царил тот послевоенный ералаш, когда умели спать где придется – на полу, на сенных тюфяках, ели из алюминиевых мисок за кухонным столом. За каким угодно столом, было бы что поесть.
Сейчас свирельно напевал желтый фигурный самовар, сияя начищенными медалями, чашки стояли разноличные, каждая произведение искусства, сахар раздобыли откуда-то крепкий и кололи его старинными узорчатыми длинноручными щипцами. Пили вприкуску. В деревянном резном блюде лежали теплые кокорки, ржаные, с картошкой, каких и в деревне уже не пекут. Водка была в екатерининском штофе темно-синего стекла с вензелем. Стояла крынка с топленым молоком, горшок с творогом. Крынка была с зеленоватой поливой, такие Лосев смутно помнил с детства и потом изредка видел в глухих деревнях. Празднично вкусно пахло, хлеб лежал на расписной доске, варенье накладывали серебряной ложкой с витой ручкой. На подставе солонки горела надпись «Без соли стол кривой». Все было здесь стародавнее, позабытое, и каждая вещь вроде бы радовала Лосева, а все вместе раздражало, и чем дальше, тем сильнее.
Смертный вид Поливанова вдруг перестал саднить, словно всегда были эти запавшие щеки, этот проступивший сквозь восковую кожу череп. Нынешний Поливанов отделился от того, памятного, и Лосев слушал его рассуждения о том, как истребляют в Лыкове старину, все неуступчивей. Разговоры эти Лосеву давно обрыдли, страсть к старине, вспыхнувшая в последние годы, раздражала его какой-то крикливостью – наподобие этого сервированного под старину стола.