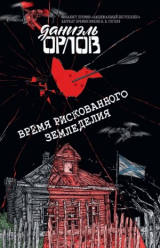
Текст книги "Время рискованного земледелия"
Автор книги: Даниэль Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
9
Предписания получили все одновременно в четверг после майских. Попади бумажки сначала к Лыковым, через неделю к Дадабаевым, потом к Афонину, ещё через месяц к Пуховым и Беляеву, ничего бы не случилось. Каждый бы решил: самого, слава богу, пронесло, не надо и высовываться. Селязинские вообще тихие. За электричество платят по счётчику и вовремя, а если что берут не заплатив, так оно без того их по праву. Кого улучили за постыдным, поругается для порядка с администрацией, на всю улицу главу обматерит да успокоится. После и кусты вырубит на соседнем пустом участке, и траву вдоль дороги скосит. А куда денешься? Должен быть порядок.
Письма соседям Леонид разнёс по дороге домой вместе с «Судогодским вестником» и всем же рассказал, кому такие конверты доставил. Свой вскрыл ещё на работе. Предписывалось в двухнедельный срок, до двадцать шестого мая, снести незаконную постройку три на пять метров, иначе сулили штраф почти с его почтальонову зарплату. К письму прилагался снимок участка откуда-то сверху и с наложенным в компьютерной программе кадастровым планом. Красной штриховкой обозначалась баня, что построил он только-только в прошлом ноябре. Фотография была чёткая, не то что со спутника. Даже рожа мужика в пиджаке, изображённого на рекламном виниле, которым он покрыл крышу, оказалась хорошо видна.
– Вот же твари! – ахнул Леонид и получил выразительный взгляд от Оли Одиноковой, сидящей на приёмке корреспонденции.
Чмарёвское почтовое отделение обслуживало все окрестные деревни, но платили ничтожно мало. Леонид уже четыре года был на округу единственный почтальон, получал полторы ставки. Вторую половину – начальнице, что казалось справедливым и не обидным, потому как работала она за троих. Летом Леонид ездил на китайском почтовом велосипеде, выкрашенном в фирменные чёрно-синие цвета Почты России. Зимой ходил пешком, оттого письма и газеты с ноября по конец марта доставлялись не сразу. Кто торопился, приезжал на почту самостоятельно.
Леонид жил у родника, на самом краю Селязина, в подбрюшии большого Чмарёва. Когда-то между его хозяйством и домом Пуховых было ещё три двора и целый ряд домов напротив, с другой стороны улицы. Но теперь даже фундаментов не осталось. Один дом разобрали и перевезли на другое место в восьмидесятые, тот, что был ближе к дороге на Подолье, однажды загорелся, и следом полыхнули два соседних. Теперь пепелище заросло, и чмарёвские мужики время от времени уныло бродили по участкам с миноискателем, в надежде найти старинную монету или крест, но, разворошив траву и каменистую почву, выуживали на свет лишь гвозди да ржавые дверные петли. А что бы другое, когда почти триста лет жили селязинцы на этой земле незажиточно. Самый крепкий, бывший дом поповой дочки и, как тут называли, «богомолки» Параскевы, построенный на перегибе, самом высоком месте, таком, что из окон видны были не то что Подольевские зады, а крыши дальнего Окунева, стоял с проваленной крышей и торчащими из окон ветвями берёз. Параскева померла в год путча, девяноста пяти лет от роду. Тогда объявились родственники из города, отнесли старуху на погост, честь по чести устроили поминки для соседей, раздразнили местных привезённой «посольской», поснимали урожай с яблонь, а затем пропали.
Пару пустых участков соседи распахали под картофель. Остальные, обильно заросшие терновой сливой, летом скучали опутанные вьюном и сорной травой, а зимой засыпанные снегом. Одичавшие без полива и ухода яблони в саду Параскевы, тем не менее, регулярно плодоносили. Чмарёвские коровы, которых, до того как владелица пилорамы выстроила забор, гоняли через территорию бывшей совхозной фермы, теперь, пройдя вдоль стены заброшенного коровника, сворачивали в заросли, где хрумкали яблоками.
В прошлом октябре Леонид овдовел и теперь жил один. Дочь уже четыре года как окончила колледж, вышла замуж и переехала в Судогду, в квартиру с центральным отоплением и ванной. Неделю после похорон пожила с отцом, но он не выдержал, погнал назад к мужу. Слишком она ему показалась взрослой и чужой. Да и за жизнь в городе дочь отвыкла от местных удобств: сортир на морозе, душ в клети, в загородке. Ныла. Это и понятно, летом нормально, а с конца сентября уже зябко. Нагреешь на печи ведро воды, встанешь ногами в тазик, поплещешься, а не то. Полина-покойница, пока была жива, Леонида пилила, чтобы наконец построил новую баню. Старая же, возведённая ещё дедом жены перед самой империалистической, ушла по окна в болотину за родником. Уже и брёвен купил и по сырому успел снять кору, но тут Полина нехорошо заболела, и стало вовсе не до строительства. Лежали брёвна полтора года вдоль забора.
Если горе, либо водкой глушить, либо работой. После сороковин, пришедших почти на начало рождественского поста, вернувшись с панихиды, что отслужил отец Михаил, Леонид вылил остатки водки в бачок с краской. На следующий день он соорудил вороток с лебёдкой, а дальше в одиночку возвёл баню под крышу за месяц. Дочь звонила, предлагала мужа в помощники, но Леонид отказался. Не то чтобы он зятя чурался, нормальный парень, мент. Но человек только с суток пришёл, ему бы выспаться, а тут тесть со своей баней. Нет уж. Пусть потом приезжает париться.
Строил после работы и по выходным. Стропила из сушины поднял, на обрешётку пустил обрезки с пилорамы, торопился до снега принести их с огромных куч под селязинской горкой. Крышу покрыл плотным винилом с портретом какого-то мужика в галстуке. Это спасибо Афонину. Тот работал монтажником в рекламной фирме, поделился тем, что осталось после выборов. Двери сколотил сам, не велика наука, а рамы попросил Пухова за копеечку, чтобы с проклейкой: у того лучше получится, всё-таки плотник. Только печку Леонид не стал складывать из кирпича, как думал вначале, а купил готовую, сварную из толстой нержавейки. Ушло ползарплаты, но не пожалел. С конца декабря по март он с этой печкой в обнимку как с женой жил. В жизни столько не парился, как этой зимой. И не пил. Вовсе. А тут штраф и предписание снести.
Лыкову, к которому Леонид зашёл первому, назначалось оформить в аренду картофельное поле, распаханное на соседнем свободном участке. На снимке сверху это картофельное поле было обведено по контуру красной линией, поверх мелкой штриховки указывалась вычисленная программой площадь 0,014 га. Штрафом в письме также грозили, но сумму называли совсем страшную, исходя из кадастровой стоимости земли. Огромный, похожий на раздавшегося в талии медведя Лыков со свёрнутым на сторону носом и низким лбом растерянно тёр себе то бровь, то переносицу и смотрел на Леонида:
– Только жить по-человечески начал! Это какая же падла донесла?
Шурик Дадабаев, Шарофиддин по паспорту, а в крещении Александр, единственный в Селязине, кто не матерился, был религиозным человеком и в Чмарёвском храме Симеона Столпника служил алтарником при отце Михаиле на воскресных литургиях. Открыв конверт и развернув бумагу, он выругался столь грязно и столь непонятно-витиевато, словно все его степные предки до десятого колена стояли сзади и, похлопывая плётками по сапогам, подсказывали слова.
– Что? – участливо наклонил голову Леонид.
– Пруд. Пруд детям выкопал в конце участка. Как у всех. Пишут, если, чурка проклятый, не закопаешь свой сраный арык, мы тебе сыктым сделаем. Что за люди, Лёнька? Что за власть такая? Нет у русского человека угла, куда забиться, чтобы не нашли, не увидели. Скоро налоги на фруктовые деревья брать будут, как при Хрущёве. Мне ещё отец рассказывал. Это всё беспилотник поганый на Благовещенье летал. Хотел его из рогатки сенькиной сбить, да замешкался.
И верно. В конце марта несколько дней подряд над селязинскими дворами кружил дрон. Первым его заметил дадабаевский старший сын Арсений. Говорили, пожарники смотрят, чтобы никто не жег траву после зимы. Ну и не жгли. Дрону махали рукой, мол видим тебя, ничего такого не делаем. А если что погорело, так то и не мы вовсе. Мы, напротив, кругом молодцы, потому как потушили. Поди докажи, что не так.
Афонина грозили оштрафовать за веранду, пристроенную со стороны сада. У Пухова никто не отозвался, и Леонид просто сунул письмо в ящик.
Беляеву посулили штраф в несколько тысяч и предписали демонтировать забор, выступающий за фасад дома на два метра. После того как старый сгнил и рухнул под бампером незадачливого Паши-коллектора, Беляев заказал у Дадабаева сварить раму для ворот и накрутить на неё сетку рабицу. По совету Пухова сам протянул верёвку от края участка бабы Маши до края пуховского, забил по этой линии новые столбы, плотно утрамбовав щебнем и залив лунки устьев цементным раствором.
– Это что за херь? У вас так всегда?
Городскому Беляеву полученный документ показался несусветной дикостью.
– А что у остальных?
Леонид рассказал.
– Неужели платить собираетесь?
Вечером было слышно, как зычно и нетрезво матюгается приехавший с работы Пухов, грозится порушить всё к эдакой матери, как рыкает в сумерки бензопилой, как принимается что-то пилить с той стороны дома, где ещё с середины прошлого лета на прикреплённом к сараю флагштоке то набухал вечерними туманами, то тяжелел инеем военно-морской флаг, но солидарный крик жены и дочери остановил, разбушевавшуюся стихию.
В пятницу к вечеру обычно тихое Селязино нехорошо гудело. Может быть, потому что замолкла работающая до того в три смены пилорама, но даже в низину, где стоял дом Леонида, доносился разноголосый мат мужиков и визгливый бабский перелай, пока на дальнем краю деревни, где первые дворы примыкали к забору, выстроенному вокруг два десятка лет как остановленного тока, не застрекотала сенокосилка кого-то из дачников.
Назавтра Леонид ждал дочь с зятем. К их приезду накануне варил щи, ставил в погреб. После работы вспомнил повод да зашёл в магазин у остановки, где жена Лыкова продала ему поллитровку «Русского Малюты».
– А болтали, ты больше не пьёшь, – покачала она головой, принимая от Леонида сотню и сгребая мелочь с пластмассовой тарелочки.
– Не пью, – смутился Леонид и пожалел, что, как обычно, не выбрал лабаз напротив почты, там работали чмарёвские, и на селязинцев им было плевать.
– Вот и не пей. Глядишь, всё наладится.
Что должно наладиться, Леонид понял не сразу. Полину уже не вернуть, а в остальном, по местным понятиям, всё у него и так в полном ажуре: работа, дом, дочь замужем за полицейским капитаном, которому до майора всего два года. И самому Леониду летом должно было исполниться только сорок три. Возможно, лыковская жена намекала, что не век ему ходить вдовцом. Так это и вовсе не её дело. А до чужого он не охотник.
На Леонида имели виды многие, в том числе замужние, но ко всем на своём участке он относился одинаково доброжелательно. Оля Одинокова, совсем молодая женщина, но из серьёзных, передавая ему пачки корреспонденции, вздыхала чуть ли не в голос. Но тоска по Полине, с которой четверть века прожили в счастье и покое, хотя и женился, как говорили в Чмарёве, «по залёту», не отпускала.
Они даже и не гуляли до того случая, когда ровно двадцать семь лет назад, таким же тёплым майским днём, после субботних танцев, он вдруг вызвался её проводить. Разгорячённый выпитым на крыльце клуба портвейном, Леонид по дороге увлёк девушку на сеносушильню, где, на её же модном плаще цвета фуксии, расстеленном поверх колкого сена, оба лишились невинности. Где-то в темноте огромного, продуваемого ветрами каркаса, накрытого сваренной из листового железа крышей, были слышны вздохи. В разных концах сумерка этого приюта вспыхивали яркие точки сигаретных огоньков и поверх покровительственного басовитого матерка парней шелестел девичий смех. Сюда многие приходили заниматься любовью.
Потом они шли тропинкой через поле до Селязина мимо совхозного выпаса, и здесь в поле в четверть первого ночи было ещё светло, словно в далёком Ленинграде, куда возили их с классом на экскурсию. Только не торчал в небе чугун и асфальт пролётов разведённых мостов. Когда они остановились в месте, где тропа упиралась в дорогу на Подолье, он взял девушку за плечи, повернул к себе, решившись поцеловать, и вдруг разглядел. И словно бы они до того не учились в параллельных классах и не виделись ежедневно в школьной столовой, словно бы не встречал её в магазине, на купалке у моста через Войнингу, на остановке автобуса во Владимир или на рынке в Судогде. Словно бы несколько минут назад не рыдала она беззвучно от боли и наслаждения, обхватил ладонями его голову. Будто позволила посмотреть на себя впервые. И лукавый кривляющийся бесёнок, только что распихивавший в его ноги и руки до самых кончиков пальцев колкое горделивое ликование, что стал мужиком, что трахнулся с бабой, вдруг замешкался, не поспевая за колотящимся сердцем. Замешкался, да и был облачком пара выдохнут в ладан ночного разнотравья, под нездешние звуки медляка «Children's Crusade», доносящиеся от клуба, под шелест высоких частот и тирольский вокал Стинга над Синеборьем, от Чмарёва и до далёкого Смыкалова.
Эту песню в тот год ставили ровно перед старой доброй «Ticket to the Moon», предназначенной с незапамятных времён для последнего и белого танца. И Леонид взял за руку Полину и повлёк вверх по дороге, высохшей вослед за первой майской жарой и сжавшей под вечер сиреневые кулачки цикория, до сада Параскевы, где в зарослях чубушника позади старой ветлы они вновь рухнули в весенний обморок.
Леонид всякий раз потом, проходя мимо, замирал в тени этой огромной, разлапистой старой ветлы и смотрел на Синеборье, видное отсюда чуть ли не лучше, нежели от кочегарки. Никто не знал границ Синеборья, вряд ли они даже были определены. Начиналось оно несомненно здесь, елово-берёзовым подлеском на задах их с Полиной тридцати пяти соток, а где заканчивалось, вопрос спорный. Как-то попал он в Судогодскую больничку с подозрением на язву желудка. Лежал в палате с мужиками из окрестных деревень. Зарубались по этому поводу, что Синеборье, а что уже и не Синеборье. Словно это так важно. Были бы пьяные, подрались. А так просто нервно бегали во двор курить. Ну как объяснить, что прав? Не проговоришься, что начало ему – стон девушки, в которую влюбляешься в десятом классе, а конца его и нет вовсе. О том промеж мужиков не принято, засмеют. И нефиг. А теперь и курить бросил.
Сгорела Полина от той же болезни, от которой и тётя Люда Семрина, Леонидова тёща. Тётя Люда не позволяла звать себя ни мамой, ни по отчеству – Людмилой Анатольевной, только тётей Людой. И такое имя казалось Леониду уютным, очень подходящим этой красивой большой женщине, тогда совсем молодой, всего-то тридцати пяти лет.
– Дядя Лёня, – представился он два десятка лет спустя молодому розовощёкому лейтенанту, приехавшему знакомиться с будущим тестем в парадной полицейской форме, – а это тётя Полина. Никаких отчеств. У нас не принято.
То, что Полина беременна, всем стало понятно в конце второй четверти. До того она аккуратно скрывала растущий живот под вязаными балахонами да под дутой синтепоновой курткой. Беременная школьница – всегда чрезвычайное происшествие.
Уже, казалось бы, десятый класс, скоро выпускной, в мае семнадцать. А семнадцать – это вовсе самостоятельный возраст. Тётю Люду вызвали в школу, прямо в учительскую. Леонид забрался на брусья школьного стадиона и в освещённых окнах хорошо мог различить её, стоящую на фоне дверного проёма. Она держалась спокойно, иногда что-то говорила. Это было понятно не по тому, как шевелятся губы, с такого расстояния не различить, а по тому, что тётя Люда вдруг начинала чуть кивать головой. Она всегда кивала, когда говорила. Эту манеру переняла и Полина, а потом их с Полиной дочь. Педсовет, как называлось судилище, куда вызвали тётю Люду, затянулся больше чем на час. Леониду вдруг показалось, что он обязан пойти туда и встать рядом, принять огонь на себя, сказать, что виноват только сам. В конце концов, что сделают? Из комсомола выгонят? Да он и так не в комсомоле, нет уже никакого комсомола, был, да вышел ещё минувшим августом. Из школы? У него и прогулов нет, и оценки, пусть не самые распрекрасные, но четвёрок и пятёрок больше, нежели троек. Биология и химия не в счёт. Так что? Матери наябедают? А матери всё равно придётся рассказать, не сегодня, так завтра. В тюрьму же не посадят – несовершеннолетний. Хотя, конечно, классно попасть в тюрьму из-за любви. Леонид слез с брусьев, обошёл школу, вошёл в дверь, в предбаннике постукал друг о друга зимними кроссовками (это отчим привёз из Москвы), махнул рукой уборщице: «Я в учительскую, вызывают» – и побежал вверх по лестнице. Свет горел только на повороте перед кабинетом биологии. В коридоре, как и на лестнице, было темно.
У самых двойных дверей в вестибюль второго этажа от окна словно метнулась тень, и вот уже Полина крепко держала его за рукав.
– Не ходи. Мама сама. Только всё испортишь. Специально тебя караулю.
Леонид невсерьёз повырывался, скорее для порядка, но послушался. Они под руку спустились к раздевалке. Полина под тяжёлым взглядом уборщицы забрала куртку, оделась, намотала сверху шарф.
– Я в вашем возрасте… – начала говорить уборщица, но слушать её не стали. Смеясь выбежали за дверь, которая сзади привычно хлопнула, поджатая тугой пружиной. Назавтра начинались длинные зимние каникулы.
Вообще селязинцы знали, что Леонид ходит к младшей Семриной. Подольских в Селязине не трогали. Основные стычки у селязинцев были с ближайшими соседями – чмарёвцами. Эта иррациональная вражда тянулась с незапамятных времён, с грибного соперничества, когда между большим Чмарёвым и маленьким в одну улицу Селязиным ещё шелестели кроны берёзовой рощи, в которой и те и другие собирали по утрам лисички. На месте рощи после возникла совхозная ферма с коровами, ремонтные мастерские и ток, остался только небольшой кусочек вокруг озерца и привычная деревенская неприязнь.
Дом, где родилась и жила Полина, стоял с самого края Селязина. Леониду достаточно было подняться мимо силосной ямы по дороге, как уже можно было сворачивать на тропу к роднику, им самим и натоптанную. Он старался быть незаметным, но его всё равно замечали. Повезло, что в тот год старшие парни уже решили свои сердечные дела, кто-то даже успел обжениться, а младшие и одноклассники Леонида хороводились с чмарёвскими барышнями. С Полиной летом пытался гулять сын дачников, даже прижимался в видеосалоне, но осенью и зимой он не появлялся. Да и Полине случайный ухажер был неинтересен.
Тётя Люда про то, что дочь в положении, узнала первой. Та сама и рассказала, попросила совета. Бывает ещё, пусть редко, но бывает, когда дочь с матерью лучшие подруги. Так повелось, что после того как в год московской Олимпиады утонул на водопаде близ Лаврово Семрин-старший, они стали спать в одной кровати. Полина рассказывала, что проспала в обнимку с мамой почти до тринадцати лет. Замуж тётя Люда не вышла, хотя звали. Работала в бухгалтерии совхоза, получала хорошую зарплату. Если что требовалось по хозяйству, просила соседей, расплачиваясь всегда деньгами, долги и обязательства не копила. А когда появился Леонид, тот сразу взял хозяйство в свои руки. Теперь он каждый день провожал Полину после уроков. Пока мать девушки была на работе, он уже успевал перетаскать с родника воду в бочку для полива или расколоть с два десятка поленьев на мелкие чурки для растопки. Перед самым возвращением со службы Семриной-старшей обнимал Полину, целовал и торопился нижней тропой в Подолье. Если женщина выбирала дорогу не через ток, а заходила в магазин и шла потом по тропе мимо сеносушильни и кочегарки, то видела его, спешащего полем в серо-голубом кружеве цикория и пастушьей сумки. В августе Леонид набрался смелости и в выходной день, надев светлую рубашку и галстук, пришёл в гости. Принёс банку венгерского компота из слив и железную коробку с немецким печеньем. Очень смущался. Но уже через час сидел на диване рядом с тётей Людой и рассматривал Полинкины детские фотокарточки.
Свадьбу спешно сыграли в январе, за день до окончания зимних каникул. То ли тётя Люда договорилась в судогодском ЗАГСе, то ли так было положено по закону, но расписали молодых быстро. Мать Леонида поцеловала сына в макушку и перекрестила, отчиму было всё равно, лишь бы Леонид свалил куда, хоть к жене, хоть в армию, да хоть на зону. Он к женитьбе пасынка отнёсся по-деловому: всё организовал, снял зал для банкетов в Судогде, подарил денег на хозяйство и отпустил жить в Селязино, в большой столетний тёщин дом с резными подзором и очельями. Эти очелья, как и наличники, Леонид ещё осенью заново покрасил белой масляной краской, отчего дом казался удивлённо приподнявшим брови. Дочь родилась в конце марта, а уже к двадцатому октября тётя Люда померла. Случилось всё быстро. Врачи сказали, что у неё это давно, только пила таблетки и не жаловалась. Так и Полина, не жаловалась, а потом стало поздно.
Утром Леонид встал как обычно, прибрался после вчерашнего в доме. Последний раз так крепко он выпил, когда били коллектора. Почти отвыкшая от водки голова болела. В полдень начал топить баню. Свои приехали только к обеду. Первым делом Леонид отправил зятя с дочерью париться, а сам с трёхлетней внучкой устроился на крыльце сарая, вырезал из ветки собачку и слушал доносящиеся из парной хлёсткие шлепки веника и визг дочери.
– Повезло вам, дядь Лёня, с печкой. Знатная баня! У начальника РУВД паримся, вся прелесть, что на берегу, можно в воду сигануть. Но пара такого не даёт, кубатура иная. – Зять выпил стопку и теперь сидел на солнышке, вытянув босые ноги с розовыми крупными ногтями.
– Что толку? – Леонид поднял брошенный зятем окурок и затушил в банку из-под зелёного горошка. – Велят сносить. Штрафом пугают.
Зять нахмурился. Леонид сходил в дом, вернулся и протянул давешнее письмо. Зять присвистнул, раскрыл конверт и бегло просмотрел содержимое.
– Ну, это пока даже не постановление, только предписание. А вот когда по результатам повторного облёта уже мы приедем, там будет протокол, административка и штраф. На этой неделе нас три раза в Красный Богатырь отправляли оформлять. Сейчас самый сенокос, – зять ещё раз взглянул на дату предписания, – похоже, что в Селязино к концу мая. У нас это, наверное, даже в плане. Кампания идёт, машину не остановишь. Из районной администрации указания спускают. Они все документы одним числом выписывают, чтобы летать потом удобнее. Ну и нам оформлять проще.
– И не договориться? – Леонид почувствовал, что ноги у него неприятно тяжелеют, как бывало перед дракой в юности или если вдруг грипп.
– Когда повторный снимок в базу внесут, нет. Там уже галка, что предписание выслано. Туда же отметку о протоколе, потом о решении суда, потом об оплате, ну и далее, до бесконечности. Всё через вычислительный центр во Владимире, чтобы, как это модно, никакой коррупции, ну и вообще.
– Что же делать?
– Дядь Лёнь, надо было заранее разрешение оформлять.
– Так кто знал! Раньше ничего не оформляли. Надо тебе баню, строишь баню. Надо крыльцо, строишь крыльцо, сарай – да сколько угодно. Земля-то своя.
– Ничего здесь своего нет, видимость одна. Может, было когда-то, да и то профукали. Своё только у тех, у кого деньги. А у кого их нет или мало, тому не положено. Погоди, дядь Лёнь, ещё не такое начнётся, ещё пожалеете райкомы с парткомами. Родичи мои, дня не проходит, вспоминают. – Зять сморщил нос. – Только без толку.
Когда приезжала дочь, Леонид стелил молодым в спальне, внучку клал в гостиной. Сам и так спал на кухонном диванчике. На их с женой кровати заснуть не получалось, хотелось выть. Стоило бы переклеить обои, убрать вещи жены из шкафа и комода. Но и это за семь месяцев, прошедших с похорон, сделать не решился. Он регулярно пылесосил во всём доме, включая спальню, вытирал пыль с письменного стола Полины, с телевизора, с кожуха японской швейной машинки, что подарил жене аккурат в тот год, когда уволился с прежней работы. Но была эта комната теперь вроде для гостей. Он уже так и говорил дочери: «ваша комната».
Вот и сейчас Леонид разложил диван на кухне, выключил верхний свет, поправил торшер у изголовья и только собирался прилечь с книжкой, как услышал, как кто-то постукивает в окно. Он накинул на плечи куртку и вышел по двор. У калитки стоял Пухов.
С Пуховым, который был старше Леонида на двенадцать лет, хотя и оказались соседями, поначалу почти не общались, лишь «здрасьте-здрасьте». Мать Пухова ещё в семидесятые разругалась с тётей Людой, да так, что в скандал втянули обе деревни, а вылилось всё в товарищеский суд. Поводом послужил всё тот же ключик, источник, тощая струйка воды, испокон веку вытекающая на краю деревни из-под огромного камня. Пуховской матери, кстати, троюродной сестре матери Полины, показалось, что Семрины берут слишком много воды, не только для питья, но и на полив.
– Ладно бы просто брали, – призывала к участию мать Пухова селязинцев, – так хотя бы чистили водозабор, падалицу в канавке выбирали. Не дождёсси! Всё пусть другие, не они!
Была это, конечно, откровенная напраслина. Однако, когда семьи живут друг подле друга не то что десятилетиями, а более сотни лет, подобного мусора между дворами набирается достаточно. Леонид с Пуховыми в контры не вступал, но и друзьями их тоже не называл. Просто соседи. Не ругались, но и вместе не выпивали.
– Привет, сосед! – поздоровался Пухов и протянул руку. – Чё мент твой говорит? Будут штрафовать?
Пухов казался нетрезв, но не так чтобы очень, а лишь до хитроватого блеска в глазах и глянцевого румянца. Он выслушал Леонида с широкой улыбкой, и по всему выходило, что ответ его не удивил, а лишь подтвердил что-то, что он и без того знал, и даже, напротив, раззадорил. Леониду почудилось, что сосед даже чуть подпрыгивает от возбуждения.
– Беляев в своих интернетах нашёл, что эти пидоры только два дрона купили. Больше у них бюджетом не предусмотрено: тендер-херендер. Два – не двадцать, справимся. Да хоть бы и двадцать, нехер им тут летать! Ты эта, с нами?
– Куда? – не понял Леонид.
– В дружину. Поставим дозоры, возьмём ружья. Сунутся, посбиваем к едреням.
Леониду стало кисло во рту, как в детстве, когда облизывал контакты батарейки.
– Если поймают, посадят за порчу казённого имущества.
– Всё продумано. Не узнают. Беляев с Лыковым план рисуют. Лыков был против, чтобы тебя звать, потому как твой зять – мент. Ну а я говорю: и что же, что мент? И хорошо, что мент. Авось, если что, посмотрит не туда или предупредит.
– Ты семью мою только в это дело не путай!
Леониду ярко представился солнечный день, полицейский козелок, покачивающийся на рытвинах единственной улицы Селязина, и сам он внутри козелка, старающийся жадным взглядом впрок лет на пять распихать по карманам памяти родные пейзажи.
– Хер с ним, с ментом. Но ты, эта, нам точно нужен. Каждый человек на счету. Дадабаев брата зовёт, Афонин шурина. Остальные кто сам, кто с сыновьями. Как в былые времена.
– В былые времена, если что не так, жгли усадьбу и всей деревней в мещеру уходили. А куда сейчас уйдёшь? И лесов нет, и людей не осталось.
– Ты, эта, Опанасенко, не юли. С нами или как? – Пухов выстрелил окурком в сторону родника и посмотрел на Леонида в упор.
Леонид молча кивнул.
– Вот и молоток! Своим подольским тоже письма счастья отнёс? Есть там кого из мужиков привлечь, чтобы днём дежурили?
Леонид подтвердил, что и в Подолье получили, и в Окунево.
– Люди до зарезу нужны. Секреты надо ставить с севера и юга. Неизвестно, по какому маршруту полетят. Лыков клянётся, что со стороны Окунева пойдут, из-за Войнинги. Там их машина с оператором остановится. От Чмарёва ближе, но мы спрашивали, никто не видел, чтобы дроны запускали.
Леонид называл фамилии бывших соседей и одноклассников. Пухов одобрительно кивал.
– И ещё. Эта… – Пухов опять замялся. – Не против, если завтра у тебя соберёмся? Живёшь один, вдовец, места много. У всех либо жёны, либо дети, либо мамаши-пенсионерки. А чем меньше бабы о том знают, тем лучше. Эх, сюда бы башенку нашей бэ-чэ два да ещё комплекс радиопомех с семёрки! – Пухов оскалился, словно собрался чихнуть или зарычать, отчего усы его встопорщились и сам он стал похож на морского котика. – Ничего-ничего, сосед! Не на тех они напали. Беляев говорит, что надо возвращаться к классовому сознанию. Селязинцы за всё Синеборье в ответе. Глядишь, по мещере докатится до Рязани, по ополью до Волги. А там… – Пухов мечтательно поднял глаза к небу.
Леониду совсем не хотелось знать, что потом. Ему только жаль было своей бани и почему-то Полинки. В сознании баня и покойная жена вдруг оказались неразрывны.
– У каждого свои мёртвые, которых надо защитить, – пробормотал он под нос, когда они попрощались с Пуховым.
Леонид сказал это тихо, но Пухов, вероятно, что-то расслышал. Уже отошедший порядком, он остановился и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Леонида.
– Говорю, живы будем, не помрём.
Пухов кивнул, поднял руку вверх со сжатым кулаком и пошёл к себе. Леонид постоял немного на крыльце, вдыхая влажный с дымком весенний воздух. На перегибе возле дома Лыкова зажёгся фонарь, следом зарозовела, нагреваясь, лампа на столбе перед калиткой Пухова. Запустилась пилорама, и звук от неё, мокрый от вечернего тумана, пробежал мимо Леонидова забора и далее по давно уже не торной и потому заросшей ивняком и ольшаником нижней дороге к Подолью.








