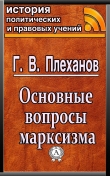Текст книги "Г. В. Плеханов"
Автор книги: Д. Заславский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
А теория самобытности русского исторического процесса, социалистическое славянофильство? Этому врагу Плеханов, казалось, наносил смертельные удары, находясь лицом к лицу с ним. Но прошло немного времени, и Плеханов нашел своего врага позади себя, в рядах своей собственной партии. И пробрался он туда не без помощи самого Плеханова.
6
Угрожал, однако, в это время другой враг. Едва покончив войну с народничеством, Плеханов ополчается на войну с ревизионизмом. Это был не русский враг. Революции и социализму в России он угрожал лишь косвенно. Но ни в одной стране социалисты не восстали против него с такой непримиримостью, с такою страстью, как в России. И будь Бернштейн социалистом русским, а не германским, его личная социалистическая карьера была бы давно кончена. Поединка с Плехановым он бы не выдержал.
Бернштейн пытался преждевременно и несколько поспешно обобщить явления социалистической жизни Западной Европы за последние десятилетия XIX-го века. Это был период бурного развития капитализма и в то же время весьма мирной парламентской жизни. В этих условиях социалистические партии, особенно германская, очень быстро росли, приобретали все больше мест в парламенте и становились внушительной силой в государстве и в муниципальной жизни. Казалось, что пролетариат мирным путем подходит к власти. Частично вопрос о власти уже возникал во Франции, где пред социалистами раскрывались двери в правительственный коалиционный кабинет. В Германии приходилось казуистически изощряться над вопросами более мелкого, но щекотливого свойства: можно ли социалистическому депутату того или иного ландтага, как представителю наиболее влиятельной партии, бывать на торжественном приеме у местного монарха? Бернштейн на основе опыта вошедшей в русло жизни решил, что устарела не только традиционная революционная фразелогия, но устарела и традиционная историческая концепция. Капиталистический мир отнюдь не идет к неизбежному краху. Он перерождается и может путем эволюции перейти к социализму. Рабочий класс станет у власти не после переворота и диктатуры, а после длительной и мирной парламентской борьбы. Вследствие этого, Бернштейн предлагал основательно пересмотреть и принципиальные основы социал-демократической программы и тактические ее положения. В нашумевшей книге Бернштейна были смелые и парадоксальные слова. Такова знаменитая формула: «для меня цель – ничто, движение – все». Теоретический багаж его был невелик. Позиция представляла противникам много незащищенных мест. Но нет сомнения, Бернштейн подметил и верно оценил чрезвычайно важные и серьезные тенденции в социалистическом движении. История не оправдала его общего прогноза. Мирный период закончился величайшим крахом, из которого капитализм еще не выкарабкался. За мировой войной последовали революции, перевороты, военные мятежи. Но вместе с тем в огне войны и революций происходил и тот пересмотр основных понятий марксизма, на котором почти 25 лет назад настаивал Бернштейн. Тогда Каутский открыл против него, против «ревизионизма» и «реформизма» крестовый поход и одержал блестящую победу. Но нынешний Kayтский уж не так далек от Бернштейна. То, что Каутский теперь пишет о диктатуре пролетариата, прозвучало бы два десятилетия назад возмутительной ревизионистской ересью, и его критики из коммунистического лагеря указывают на это с полным основанием.
Ревизионизм был международным явлением в социализме. Он имел много талантливых защитников. Во Франции Жорес скреплял его своим авторитетом. Но сторонники «ортодоксии» были сильнее. На их стороне было и теоретическое преимущество, и славные революционные традиции, и симпатии рабочих масс. На левом их крыле были русские социалисты во главе с Плехановым. Он вносил в борьбу с ревизионизмом весь свой революционный пыл и, как всегда, был непримирим, беспощаден в насмешках над противником, зол в полемических выпадах. Он брал под свою защиту все традиционные положения марксизма, не допуская умаления их ни на волос, не позволяя прикоснуться ни к «теории краха», ни к «диктатуре пролетариата», ни к философским и этическим моментам в марксизме.
И западно-европейские и русские радикальные социалисты вели кампанию против ревизионизма. Но было глубокое различие между Каутским и Плехановым. Для Каутского спор с ревизионистами был серьезным разногласием в пределах социалистической партии. Каутский знал, что в словах Бернштейна есть отражение подлинной жизни, и за Бернштейном стоит профессиональное рабочее движение, стоит значительная часть партии, а за Жоресом – симпатии десятков тысяч французских рабочих. Для Каутского, а еще больше для Бебеля, война с ревизионистами всего меньше была литературной полемикой. В повседневной партийной жизни, среди рабочих, надо было решать спорные вопросы, и тут нельзя было ни отделаться от противника, ни разделаться с ним ловким полемическим выпадом. Стотысячные организованные рабочие массы, дорожащие своими союзами, вождями, связями, обязывали к ответственным и осторожным решениям. И отсюда то странное «добродушие», которого никогда не могли понять и с которым не могли примириться русские марксисты. Бебель произносил резкую речь на партейтаге, Каутский разражался убийственной статьей в «Neue Zeit», – и все же Бернштейн и его сторонники оставались в партии, продолжали занимать видные посты и с величайшим уважением относились друг к другу Бебель и Жорес.
Для Плеханова это был только «оппортунизм» – главный и смертельный враг революционного марксизма. Он, как и все русские социалисты, находился в том счастливом положении, что мог считать себя свободным от исторического груза тяжелых и медлительных рабочих партий, профессиональных союзов, тред-юнионов. Борьба с ревизионизмом была для Плеханова только литературной борьбой. Он не мог противопоставить противникам ни опыта практического руководства рабочим движением, ни политического парламентского стажа. Зато у него был огромный неизрасходованный запас революционного темперамента, революционные русские традиции и революционные русские перспективы. Он выступал как литератор и интеллигент. Этого было бы еще недостаточно. Но он был русским революционным литератором и интеллигентом. На международных социалистических конгрессах («второго интернационала») все делегаты представляли рабочих своей страны; русские – представляли идею революции, революцию в чистом ее виде. И неудивительно, что ревизионизм открыто проник только в западные социалистические партии, и всюду – в Германии, Австрии, Франции, Италии, – образовались реформисты и радикалы, правые и левые. И только в России были исключительно левые, а правых совсем не было и быть не могло. Ревизионизм в России почитался не разногласием, а преступлением, предательством, изменой социализму. Попытка замолвить и в России словечко в пользу Бернштейна была сразу пресечена, и Кускова с Прокоповичем оказались за пределами социализма и партии. «Vademecum» Плеханова это даже не полемика с русскими ревизионистами, а нечто вроде уголовного расследования. Стремительностью отпора ревизионизму в России надолго отшиблена была всякая охота к самостоятельной критике марксизма. Плеханов авторитетом своим освящал эту жестокую войну с ревизионизмом и эту же непримиримость и жестокость переносил и в разногласия европейские. Это создало ему заслуженную репутацию самого левого из европейских вождей международного социализма.
На международных социалистических конгрессах в Париже 1900 г. и в Амстердаме в 1904 г., где происходили генеральные сражения между реформистами и радикалами, Плеханов выступал против всяких компромиссов, был левее Каутского, левее Адлера, которых обличал в уступчивости и оппортунизме. Радикалы победили, но Плеханов остался недоволен: почему не исключили ревизионистов? С крайней враждой Плеханов относился к Жоресу. В своих статьях о конгрессе в Амстердаме он пишет о нем с насмешкой, как о мещанине, не способном понять дух классовой борьбы, подчеркивает его ограниченность, беспринципность.
Ему не нравится даже красноречие Жореса. В речах «незаметно крепкой мускулатуры логики». «Длинные и широковещательные, ноздреватые и громкие, – пишет Плеханов, – они производили на меня почти комическое впечатление полным несоответствием очень бедного содержания с крайне пышной формой».
Плеханов не понимал Жореса, и в этом непонимании (вероятно, взаимном) обнаруживалось различие между двумя талантливейшими представителями международного социализма классической его эпохи. Оба они призваны были стать вождями пролетариата в своей стране, создателями национальной социалистической школы. Но Жорес был сыном своего народа, пережившего ряд революций, народа со старой культурой и богатым опытом демократии; Жорес был государственным человеком, близким к политической жизни и к власти, близким в то же время и к французскому рабочему и крестьянину. Франция была для него не отвлеченной величиной, видной издали и сквозь призму литературных отражений, а наглядной конкретностью. Жорес был марксистом. В «Социалист. Истории» он показал мастерское умение пользоваться анализом экономических отношений для освещения всей сложной политической жизни. Но слова о свободе, о личности, справедливости, гуманности и демократии не были для него словесными завитушками на революционной программе. И он говорил об этом с пафосом и вдохновением, внося идеалистическую ноту в свои речи и статьи.
Вот это и смешило Плеханова, казалось ему тогда, в девяностые годы, комическим. Революция съедала в нем без остатка все другие чувства, кроме политических. «Salus revolutiae – suprema lex», – говорил он на втором съезде рос. с.-д. раб. партии, а революция предъявляла в России требования жестокие и беспощадные. Отсутствие практического опыта, пустота окружающей отвлеченности, литература вместо живого дела создавали эту единственную в своем роде прямолинейность. В этом была, конечно, и ее сила. Там, где Жорес с вниманием, интересом, по необходимости с терпимостью, останавливался перед упрямым жизненным явлением, растущим не по указке, и принужден был подчас обходить его стороной, Плеханов шел прямо вперед по гладкой дороге начертанной схемы, никуда не сворачивая, ни за что не зацепляясь.
7
Рабочее движение начиналось в России, как и на Западе, с объединения передовых рабочих на основе общности профессиональных интересов и общего стремления к культуре. Рабочие тянулись к лучшей жизни и к свету. В царской России легального выхода для этих стремлений не было, и нелегальные революционные кружки заменяли рабочим и профессиональный союз, и образовательное общество. На западе профессиональное и просветительное движение предшествовали образованию среди рабочих социалистических партий и революционных организаций. Политическая агитация встречала пред собой не девственную сырую толщу рабочих масс, а более или менее обработанную почву с пустившими иногда глубоко корни традициями. Иной раз это облегчало работу пионеров социализма, а иной раз и мешало им. Профессиональные союзы, как грузный балласт, придавали устойчивость движению и партии; но они же сообщали ему медлительность, неповоротливость. Отсюда шла в рабочую среду психология деловитости, трезвенности, практического расчета.
В России революционное и социалистическое движение возникло одновременно с профессиональным и просветительным. Первые практики-социалисты, имевшие дело непосредственно с рабочими, чувствовали, что рабочие тянутся прежде всего к защите экономических своих интересов и к образованию, и свою организационную и пропагандистскую работу приспособляли к нуждам и запросам рабочего движения. В нелегальных кружках создавались первые кадры рабочих, будущих руководителей рабочих организаций. Но это был медленный, невероятно тяжелый в русских условиях процесс, и требовал он крайней выдержки. Ее не было. История не оставляла времени для долгой воспитательной работы в пролетариате. Полиция уничтожала организации, едва они успели окрепнуть. А в воздухе чувствовалось скопление революционного электричества; интеллигенция рвалась на политическую борьбу и в нетерпении от демонстраций переходила к террору. Возрождались приемы народовольчества.
В рабочем движении стали усиливаться тенденции к ускорению процесса социалистического и революционного созревания масс. Интеллигенция стремилась выйти из кружков на улицу, к непосредственным политическим действиям. Передовые рабочие неохотно следовали за революционерами, упирались. У них не было таких иллюзий. Они знали рабочую среду, не приукрашивали ее и относились с недоверием к сознательности, стойкости и убежденности рядовых рабочих. Среди рабочих и практиков рабочего движения родилась теория «рабочедельцев» (по имени журнала «Рабочее Дело»), согласно которой только из экономической борьбы и через экономическую борьбу пролетариата может вырасти социал-демократическая партия. Эта теория была очень распространена среди влиятельных деятелей рабочих организаций в России, но она встретила энергичный и боевой отпор со стороны заграничных вождей. Это было время борьбы с ревизионизмом, когда всякая осторожность, постепенновщина, практицизм были взяты под подозрение. В «рабочедельстве» была усмотрена преступная связь с российским отражением бернштейнианства, с «экономизмом». Экономическая борьба! Но ведь в профессиональном рабочем движении Германии и гнездилась ересь ревизионизма. Оттуда и шло угашение революционного духа. А в России революция стояла в порядке ближайшего дня, и на политической революционной борьбе, а не на мелких экономических вопросах надо было воспитывать пролетариат, пред которым стояла непосредственная задача руководства всей революцией, захвата власти, диктатуры. Не в профессиональных работниках, а в профессионалах– революционерах нуждался рабочий класс России, в боевом командном составе, сплоченном железной дисциплиной, строго централизованном, вышколенном.
«Рабочедельству» во всех его видах был объявлен крестовый поход. Во главе его шел Плеханов. Первые ростки рабочей демократии, – такой же, какая создавалась на Западе, – были растоптаны во имя революции. Блестящего полемического обстрела не могли выдержать скромные работники. Им не под силу была теоретическая защита своих позиций. Против них выступала блестящая фаланга писателей и вождей, объединившихся вокруг знаменитой «Искры». Объединение социал-демократических организаций в российскую социал-демократическую партию произошло через разгром ряда сложившихся кружков, где воспитывались возможные русские рабочие – руководители профессионального и культурного рабочего движения.
Плеханов возглавлял эту кампанию. Программная и теоретическая подготовка социал-демократии в России была в общих чертах завершена. Теперь на очереди стояли организационные задачи и непосредственное политическое руководство партией. Исключительная и доминирующая роль литераторов в движении закончилась. Требовались вожди, организаторы, стратеги, люди действенной натуры и сильной воли; люди, умеющие владеть партией и подчинять ее себе.
Плеханов считался вождем и главой партии, – украшением и гордостью ее. Он не уклонялся от этого звания, на которое имел право и по таланту, и по историческим заслугам, и по авторитету. Он писал политические руководящие статьи, принимал участие в организационном строительстве, давал советы и указания. Но здесь, рядом с ним, вырастали и другие; у них был не столь блестящий литературный талант, но они с неменьшей авторитетностью разбирались в организационных и в политических вопросах. У них было больше связи с революционными кругами в России; была большая действенность в натуре. Они относились с величайшей почтительностью к Плеханову, как к учителю своему. Но уже не он вел их, а скорее они вели его.
В 1902 г. вышла книжка Ленина «Что делать?» Это была яркая, талантливая формулировка задач социал-демократической партии в революции, направленная против всякого оппортунизма, реформизма, экономизма, принижения роли пролетариата, прославлявшая революционный его авангард, активное меньшинство, сплоченное в строго централизованную партию. Это было первое теоретическое обоснование большевизма, крайней левой революционной тактики в социализме. Книга имела огромный, совершенно исключительный успех. Ею зачитывались, как в свое время книгой Бельтова. Стало ясно, что на горизонте русского социализма, рядом с Плехановым, взошла новая звезда.
Книга Ленина при своем появлении не встретила возражений. Она была принята как последовательное изложение тактических и организационных выводов из принципиальных положений революционной социал-демократии. Между Плехановым и Лениным было почти полное согласие. Впоследствии Плеханов находил, что Ленин «перегнул палку в другую сторону», борясь с «экономистами». Но это относилось скорее к тону, к излишней решительности тезисов Ленина. По существу, Плеханов видел в книге Ленина развитие своих собственных взглядов.
Предстояло провести их в жизнь. Это должен был сделать второй съезд рос. с.-дем. партии в Лондоне в 1903 г. Надо было утвердить программу, устав партии, избрать центральные органы и оформить партийное единство.
Торжественное открытие съезда было и личным торжеством Плеханова. «Российская социал-демократическая рабочая партия», которую он имел право назвать своим духовный детищем, становилась реальным явлением. Правда, рабочих на съезде почти еще не было. Плеханов видел перед собою только интеллигентов. Но эти интеллигенты говорили от имени рабочих и были искренне убеждены, что они выражают настроения и интересы значительной части русского пролетариата.
Плеханов открыл съезд и был избран единогласно председателем. Товарищами председателя были Ленин и Павлович. Благодаря за оказанную ему честь, Плеханов сказал: «Я объясняю себе эту великую честь только тем, что в моем лице организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая двадцать лет тому назад, в 1885 г., впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе».
Плеханов называл себя – не без кокетства – ветераном. Но он совсем не походил на ветерана. Он был полон энергии, жизнерадостен, остроумен. Делегатам, видевшим его впервые, он импонировал своим умом, блестящей эрудицией – и своим европейским изяществом. В его голосе, фигуре, в манерах чувствовалась властность вождя, и странным могло показаться, что он, – такой барин с виду, – является вождем глубоко демократической по виду, небрежно одетой, неряшливой, не умеющей гладко говорить социал-демократической интеллигенции.
Но он и не был вождем. Он только казался и числился вождем, пока не было партии. Но стоило ей собраться, и стало ясно, что Плеханов не годится в руководители русского партийного дела. Он председательствовал, он подавлял своим авторитетом, к нему относились с величайшим уважением, но душой съезда, его подлинным руководителем был Ленин. Он направлял железной рукою политику руководящей «искровской» группы. Повинуясь его дирижерской палочке, будущие меньшевики произвели беспощадную «чистку» партии от всяких умеренных, оппортунистских, ревизионистских элементов, выбросили «рабочедельцев», выбросили Бунд – и остановились в страхе перед перспективой: на расчищенном месте остаться наедине с диктатурой Ленина. Плеханов был главным козырем в ликвидации всех неправоверных. Проект программы был составлен Плехановым совместно с Лениным. Оппозиция вскрывала в этой программе те элементы, которые теперь получили бы название большевистских, главные полемические удары направлены были против книги Ленина «Что делать?». Но и Плеханов, и Мартов, и Троцкий взяли под свою защиту все положения и программы Ленина, и его книги. Они все выступали сплоченно, пока не встал вопрос о власти в партии, связанный неразрывно с вопросом о власти в революции.
Были попытки указать, что есть различие между Плехановым и Лениным. Плеханов отвечал остроумно: «У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона – он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной». Отчет в этом месте замечает: «тов. Ленин, смеясь, качает отрицательно головой».
До последней минуты казалось действительно, что между Плехановым и Лениным царствует полное согласие и Ленин является талантливым истолкователем основных положений плехановского марксизма. Конечно, Ленин был уже и тогда «большевиком». Но ведь именно Плеханову принадлежит на этом съезде авторитетное истолкование принятой социал-демократической программы в большевистском духе. Нельзя отрицать, что Плеханов па этом лондонском съезде 1903 г. санкционировал позднейшее, через 15 лет, упразднение коммунистами демократии во имя интересов социалистической революции. Этот эпизод так интересен, что на нем стоит остановиться подробнее.
При постатейном обсуждении программы были сделаны несущественные поправки к параграфу второму ее – о всеобщем избирательном праве. Возник вопрос о принципиальности некоторых демократических требований (напр., пропорционального представительства). Делегат Мандельберг (псевдоним — Посадовский) поставил вопрос прямо: «нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или другим основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам пашей партии? Я решительно высказываюсь за последнее. Нет ничего такого среди демократических принципов, чего мы не должны были бы подчинить выгодам нашей партии».
Эта речь уже тогда, в 1903 г., вызвала сильное волнение среди делегатов. Кто-то крикнул:
– И неприкосновенность личности?
Мандельберг ответил уверенно и твердо:
– Да. И неприкосновенность личности.
Вслед за Мандельбергом слово получил Плеханов. И часть съезда была не мало поражена, когда он начал свою речь словами;
– Вполне присоединяюсь к словам тов. Посадовского.
И далее в небольшой, но очень выразительной речи Плеханов развивает мысль об относительности всех демократических понятий, для которых «успех революции – высший закон». Если революция требует ограничения демократии, то «перед таким ограничением преступно было бы останавливаться». И тут же Плеханов сослался на исторические примеры. Итальянские республики лишали некогда дворянство политических прав. Точно так же и «революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов».
Плеханова слушали, конечно, с глубоким вниманием. Его не прерывали. Но возбуждение съезда росло – и, наконец, прорвалось. Переходя к вопросу о демократии в России, Плеханов сказал: «Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент – своего рода chambre introuvable, то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его через два года, а если можно, то через две недели».
В этом месте раздались аплодисменты. Часть делегатов стала шикать. Это вызвало возмущение – свистать Плеханову! На протесты Плеханов заявил: «Почему же нет? Я очень прошу товарищей не стесняться». Встал В. Розанов (Егоров) и объявил: «Раз такие речи вызывают рукоплескания, то я обязан шикать». Председателю удалось восстановить порядок. Тот же Розанов заявил, что «тов. Плеханов не принял во внимание, что законы волны одни, а законы конституции – другие. Мы пишем свою программу на случай конституции». Бундовец Медем был более решителен и последователен. Он сказал, что слова Плеханова – это подражание буржуазной тактике. «Если быть логичным, то исходя из слов Плеханова, требование всеобщего избирательного права надо вычеркнуть из нашей программы».
На этом инцидент закончился, и никто ему особого значения не придал. Вряд ли Плеханов реально представлял себе, что он может и будет разгонять парламенты, упразднять печать и вводить смертную казнь для политических противников. Его радикализм был чисто литературный. Он решал политическую теорему на бумаге и приходил к весьма решительным выводам. Это была геометрия и алгебра революции без попытки применить ее к реальным явлениям жизни. Ленин в этом споре не участвовал. Если присутствовал, то, вероятно, улыбался насмешливо. Для него уж и тогда это был спор не только о словах. В противоположность своим противникам, он обладал не только сильной логикой, но и сильной волей. Он знал, чего хотел, и уже тогда видел свою цель.
Съезд, созванный для объединения партии, завершился расколом. Со времени этого съезда ведут свое начато большевики и меньшевики. Казалось сначала, что разделил их пустяк – организационные разногласия. Но прав и последователен был Ленин, который связывал воедино непримиримую программу, непримиримую революционную тактику со столь же непримиримым партийным уставом. Для тех особых задач завоевания политической власти, которые содержала программа, нужна была и особая боевая партия. Меньшевики, напротив, осуществление весьма боевых задач возлагали на партию, лишенную устойчивого центра и воинской дисциплины. В действительности у них было совсем иное представление о революции, о власти, демократии, и за непримиримой революционной фразеологией скрывались примирительные тенденции, нерешительные, робкие и противоречивые. Совершенно естественно было, что, стремясь к политической твердой и революционной власти в стране, большевики прежде всего стремились укрепить свою власть в партии и в рабочем классе, отбрасывая всякую игру в демократизм. Две революции это подтвердили. Меньшевики боялись с самого начала государственной власти, не стремились к ней, уклонялись от нее. Их пугала и централизованная «якобинская» власть партии и власть в партии.
Все это выяснилось впоследствии, когда пропасть между большевиками и меньшевиками углубилась до того, что перебросить мост через нее было уже невозможно. Ленин, впрочем, понимал глубину раскола. Догадывались о ней и меньшевики, искавшие все же примирения. А Плеханов? Вот когда бы должны сказаться талант и авторитет вождя, обаяние имени и личности. Но Плеханов больше других растерялся. Ленинцы и мартовцы заняли определенные позиции. Голоса разделились почти поровну. Мнение Плеханова могло бы дать перевес одним или другим. Но он колебался и молчал, потом присоединился к Ленину. «Еще сегодня утром, – говорил он, – слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то оный на бок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина». Это была, конечно, победа Ленина. Но уж не Ленин шел за Плехановым, а Плеханов за Лениным. Съезд избрал Плеханова на высший пост в партии. Он должен был объединить и примирить враждующие части. Однако, сделать это он не мог. Среди разгоревшихся фракционных страстей он тщетно взывал к чувству партийного единства. Его не слушали, хотя именем его охотно пользовались. Он недолго пробыл с Лениным, потом перешел к меньшевикам, потом и от них ушел и вскоре снова оказался одинок. Он был слишком индивидуален, слишком интеллигент и литератор, чтобы подчинить себя целиком интересам того или иного фракционного кружка. Он не привык и не мог подчиняться дисциплине. Его властной натуре удовлетворила бы собственная плехановская фракция, и вокруг него действительно всегда был кружок своих, преданных ему людей. Беда их была в том, что вождь их не знал и не любил практической политической жизни, организаторской стряпни, был только литератором, а не стратегом. И поэтому плехановцы были осуждены на бездействие или только на мелкую партийную борьбу, так легко вырождавшуюся в интриги и фракционные дрязги в условиях эмигрантской жизни.
Фракционные страсти разгорались, литературная полемика перешла в ожесточенную перебранку по наилучшим образцам российской словесности этого рода. Плеханова сначала щадили; камни летели через его голову. Но и его зачислили по разряду оппортунистов, когда он разошелся с большевиками. Плеханов отвечал со свойственным ему остроумием. И вскоре имя его без всякого пиетета трепалось на страницах партийной печати. Плеханов не был академиком, ученым, бесстрастным наблюдателем. Он вмешивался в партийные споры, принимал участие в партийных делах. За это ему влетало «в числе драки». Но он не мог и связать себя прочно и длительно с определенным кружком или фракцией. В результате у него оказалось в партии очень много врагов и слишком мало друзей.