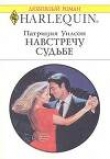Текст книги "Кокон"
Автор книги: Чжан Юэжань
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Чэн Гун
Ты, наверное, помнишь, какими пустынными были окрестности Наньюаня во времена нашего детства. Медуниверситет тогда считался восточной окраиной города, дальше стояла только электростанция, а за ней уже начинались пшеничные поля и деревня. Деревенские приходили к кампусу торговать яблоками и земляным орехом. А один мужчина приносил в столовую мешочек домашних яиц, чтобы выменять их у отца Большого Биня, который там работал, на пару ведер помоев. Тогда в округе не было ни высоток, ни тем более рынка электроники. Только две пузатые дымовые трубы электростанции, их тогда еще не загораживали высотки, и казалось, что трубы совсем рядом. В солнечные дни они выпускали косые струи дыма, а когда город накрывало пыльной бурей, ливнем или метелью, трубы превращались в жуткие ноги шагающего к нам инопланетянина. Эта картина всегда вызывала у меня ассоциации с концом света.
Тогда университет занимал мало места, напротив единственного кампуса был выстроен микрорайон для сотрудников, который мы вслед за взрослыми называли Наньюанем. И моя бабушка, и твой дед жили в Наньюане, только он в восточном секторе, а она в западном, секторы разделялись столовой, стоянкой для велосипедов и маленькой рощицей. По утрам мы с тобой встречались в этой роще и вместе шли в школу. Школа для детей сотрудников находилась в юго-западном углу Наньюаня, и я жил к ней ближе всех.
Папа отправил меня в Наньюань, когда мне было шесть, спустя два года тебя привезла сюда твоя мама. Ты была недовольна переездом и первое время ходила очень угрюмой. Не интересовалась, где находится почта или книжный магазин, отказывалась говорить с хозяйкой местной лавочки и называть ей свое имя, а когда мы всем классом поехали на загородную прогулку, ты спряталась за искусственной горкой, только чтобы не попасть на общую фотографию. Ты говорила нам, что приехала сюда ненадолго и скоро папа тебя заберет. Глядя на тебя, я вспоминал, каким сам был два года назад. И вместе с тобой я снова стал фантазировать, представлять, что меня увезут отсюда со дня на день. Вся разница в том, что ты уехала из Наньюаня три года спустя, а я прожил здесь еще почти двадцать пять лет. Когда я пришел работать в “Фармацевтику Уфу”, Большой Бинь, представляя меня сотрудникам, упомянул, что мы с ним оба выросли в Наньюане. Я поправил его, сказав, что приехал в Наньюань, когда мне исполнилось шесть. Большой Бинь усмехнулся: какая разница? Решил, я придираюсь к мелочам. Ему не понять, как важны для меня те шесть лет. Пусть вся память о них сотрется, я буду хранить даже пустое место, которое от нее останется. Кажется, я никогда не рассказывал тебе о той жизни. Почему-то все самое важное я от тебя утаил.
Если верить гадателю, отсчет судьбы у меня начинается с шести лет, а через каждые десять лет после отсчета судьба делает крутой поворот. Старики говорят, что до отсчета жизнь человека – перышко, улетит с любым ветерком. По-настоящему она начинается только после отсчета судьбы, это все равно что дереву пустить корни в землю. А я бы и дальше жил без корней. По мне, так этот “отсчет” больше похож на взнуздывание коня: судьба хватает вожжи, и отныне человек вынужден идти вперед по выбранной ею тропе. Я всегда с грустью вспоминаю первые шесть лет своей жизни – тогда судьба меня еще не отыскала.
Кроме Сяо Гуна, у мамы никого больше нет. И у Сяо Гуна никого нет, кроме мамы. Когда я был маленьким, мама часто повторяла эти слова, потом прижимала меня к груди, нежно гладила завиток у меня на затылке и спрашивала: Ведь правда? Дождавшись моего кивка, она облегченно вздыхала. Конечно, правда – считал я, тут и спрашивать нечего. Но мама не уставала повторять вопрос снова и снова.
Тогда я понятия не имел, что живу в огороженном мамой замкнутом, узком пространстве, мне казалось, что мир и правда такой маленький. Я не ходил в детский сад, никогда не играл на улице, у мамы не было друзей, она не навещала родных, даже с соседями не общалась, только здоровалась, если встречала их во дворе. Людей, которых я знал в лицо, можно было пересчитать по пальцам. Больше всего времени мы с мамой проводили дома, никуда не выходя. Наша квартира состояла из двух крошечных комнаток – тридцать квадратных метров, забитых вещами. Маме нравилось покупать что-нибудь в дом, и хотя жизнь у нее была тяжелая, с этой маленькой радостью она не хотела расстаться. Музыкальная шкатулка с игрушечной каруселью, кукла под зонтиком (их достала бывшая мамина одноклассница, которая работала на импортной оптовой базе), бракованная ваза для цветов, купленная по дешевке на распродаже у стекольного завода, старый немой радиоприемник, найденный на блошином рынке… Как вьющая гнездо ласточка, мама что ни день приносила в клювике новую покупку. Дома эти безделушки стояли на самых видных местах, а нужные вещи вроде ботинок, зонтика или таза для умывания мама ссылала подальше за их невзрачность. Задыхаясь, они толпились под кроватью, иногда задирали простыни, чтобы высунуть голову и глотнуть немного воздуха. Время не проникало в запаянную консервную банку нашей квартиры, и дни текли необычайно медленно.
Кроме безделушек для дома, мама любила покупать одежду. Правда, многие ее обновки тоже становились безделушками для дома – мама ни разу их не надевала. Но они были великолепны: пальто с изысканным воротником, юбка с необычным подолом, шерстяная кофта, совсем не колючая, такая мягкая, что мне хотелось зарыться в нее лицом. Один розовый свитер, слишком яркий и потому ни разу не надетый, мама отдала мне, и я подкладывал его под голову вместо подушки. Я обожал вдыхать его необычный запах, сладкий аромат подгнивших яблок. У меня тоже были красивые наряды, пусть и не так много, как у мамы. Жилеточка с пряжкой на спине, драповое пальто в крупную красно-черную клетку, а еще белый свитер с вышитым на груди якорьком. К сожалению, ни одна вещь как следует на мне не сидела, почти все оказывались велики, но мама говорила, что пройдет пара лет, и они станут впору. Мы редко выходили из дома, но мама наряжала меня на каждую прогулку. Помню, однажды мы встретили во дворе тетушку Мэйчжэнь, соседку с нижнего этажа. Смерив нас завистливым взглядом, она потянулась пощупать воротник маминого бежевого пальто из драпа: “Ты смотри… Тоже заграничные родственники прислали?” Мама только улыбнулась. Я задрал голову и уставился на нее: ни разу не слышал, чтоб у нас за границей были какие-то родственники.
Днем я чаще всего даже не помнил, что у меня есть еще и папа. Домой он приходил всегда ночью, волоча за собой облако перегара, казалось, из алых прожилок в его глазах вот-вот брызнет кровь. Папа нигде не работал, но был вечно занят – говорил, что занимается перевозками, и целыми днями болтался где-то без дела. Много пил и играл – вероятно, карты и алкоголь помогали ему выпустить лишнюю энергию. А если и этот способ отказывал, он бил маму.
С самого раннего детства я постоянно видел, как он избивает маму, а еще видел, что она давно к этому привыкла. Маме хотелось одного: чтобы я успел заснуть до того, как все начнется. Если же я не спал или просыпался от шума, она надеялась, что я притворюсь спящим, не буду плакать или кричать, тогда все быстрее закончится. Я так и делал – смирно лежал в темноте, стараясь не шевелиться и не дышать. В награду или в утешение, когда расправа завершалась, мама возвращалась в мою постель и давала подержаться за грудь, пока я засыпал. В напитанных лунным светом сумерках маленькие конусы ее грудей напоминали белоснежный алтарь. Я припадал к нему, и все кошмары обходили меня стороной.
Но иногда она не возвращалась. В промежутках между снами я вылезал из постели и подходил к двери в другую комнату. Мама с папой лежали на большой кровати. И бурая папина лапа скрывала под собой мой алтарь.
Проснувшись утром, мама возвращалась в нашу комнату, садилась у изголовья кровати и, обхватив себя за плечи, бездумно смотрела в одну точку. Я разглядывал волдыри, вздувшиеся на ее руках от затушенных окурков, осторожно к ним прикасался, с наслаждением скользя кончиками пальцев по глянцевым бугоркам. Я пересчитывал синяки на ее теле, один за другим, как облака перед дождем. Новый синяк, старый синяк, они никогда не проходили до конца. Потом я вырос и узнал, что не все женщины могут похвастаться такой кожей – тонкой, почти прозрачной, открывающей глазу темно-голубые прожилки, до того нежной, что ткни ее пальцем – порвется. Мне нравилось смотреть на истерзанную маму, в такие минуты она была необыкновенно красива. И я думал, что она тоже должна нравиться себе после побоев, что для них она и рождена.
У мамы за границей действительно были родственники, но об этом я тоже узнал не скоро. Ее дед по отцовской линии в 1949 году бежал на Тайвань, а оттуда в Америку. Правда, насколько мне известно, с ней он связи не поддерживал. Мамин отец был единственным ребенком в семье, мать растила его одна. Вскоре после маминого рождения ее бабушка и отец умерли от болезни, а следом умерла и мать, погибла от голода в один из “трех горьких годов”[22]22
“Три горьких года”, или “три года стихийных бедствий” – принятое в Китае название великого голода 1959–1961 годов.
[Закрыть]. Девочку взяла на воспитание семья двоюродного дяди, сына младшего брата бежавшего на Тайвань дедушки. Во время “культурной революции” дядину семью целыми днями таскали на митинги из-за родственных связей за границей. И мама росла в постоянном страхе, что однажды они не выдержат и прогонят ее из дома.
Тень страха навсегда осталась в ее глазах, как след убегающего животного в отложениях мелового периода. Ее красота и страх питали друг друга, и, наверное, впервые увидев маму у входа в выставочный павильон, где она работала консультантом, папа почувствовал в ней нечто такое, что ему захотелось безжалостно истребить. А мама слишком долго жила под чужой крышей и мечтала поскорее обзавестись собственной семьей, потому и стала встречаться с этим мужчиной, который так нахально за ней увивался. Она быстро поняла, что он мерзавец, но была уже беременна. И чтобы не доставлять приемной семье новых хлопот, решила выйти за него. Много лет спустя я повел свою девушку в аптеку за таблетками для экстренной контрацепции и вдруг понял, что если бы такие таблетки придумали раньше, мама вообще не стала бы моей мамой.
Папа с детства был мерзавцем. Не окончив начальную школу[23]23
В начальной школе китайские дети проводят шесть лет, затем три года учатся в средней школе первой ступени, после чего переходят в среднюю школу второй ступени (старшую школу).
[Закрыть], спутался с компанией хунвэйбинов[24]24
Хунвэйбины – молодежные революционные отряды.
[Закрыть] и творил всевозможные зверства. Лихие времена прошли, но папу было уже не остановить, он без всякого повода лез в драку, ни дня не работал, а когда деньги заканчивались, искал, кого бы еще обобрать. Он пырял людей ножом, сворачивал им носы, но и самому, конечно, доставалось: левую ногу ему сломали, он немного на нее припадал, и от одной его ковыляющей походки на душе становилось тревожно. Папа вырос в Наньюане, здесь все его знали, завидев, прятались, а за глаза называли Бедовым Чэном. Уверен, когда ты приехала в Наньюань, тебе сразу о нем рассказали.
Хоть я и не видел папу в деле, думаю, дрался-то он неважно, просто не умел сдерживать свой гнев. В нем кипела жгучая ненависть, которую было некуда направить, и папа срывал зло на первом встречном. Однажды летом мы втроем в кои-то веки выбрались из дома, поехали в Наньюань отмечать бабушкин день рождения. Душным безветренным вечером мы стояли на остановке и ждали автобус. В толпе оказалась одна очень красивая женщина, она была немного моложе мамы, одета в белое платье с большими оборками на воротнике, сзади вырез спускался чуть ниже, открывая шею. Папа стоял с сигаретой в зубах и таращился на эту женщину. Наконец пробормотал:
– Потаскуха!
Он подошел к ней сзади, встал на цыпочки и прищурился, будто пытается рассмотреть иероглифы на маршрутной табличке. Потом, словно между делом, поднял руку и затушил окурок о воротник ее платья. Женщина смотрела на дорогу, откуда должен был приехать автобус, и ничего не заметила, люди вокруг тоже. Только мы с мамой следили глазами за тем, как огонь пожирает оборку на воротнике, заглатывая нитку за ниткой. Мама крепко сжала мою руку, словно боялась, что я закричу. До чего же долго тянулась та минута и каких усилий нам стоило удержаться на месте! Огонь отгрыз кусочек оборки, оставив на его месте черные отпечатки своих зубов. Подошел автобус, женщина шагнула в салон. Мама выпустила мою руку.
Думаю, эта бессмысленная ненависть сидела в его генах. Потому что, оказавшись в Наньюане, я узнал, что моя бабушка здесь даже известней папы. Все помнили, как она заявилась в больницу при университете и стала последними словами бранить неизвестно чем насолившую ей молоденькую медсестру, доведя ее до выкидыша. И едва ли соседи забыли, как она каждый день приходила к порогу старшей медсестры – с плевательницей, полной мусора, поскольку старшая посмела вступиться за свою подчиненную. Правда, люди говорили, что бабушка не всегда была такой злобной, характер ее стал портиться после “культурной революции”, когда дедушку изувечили и превратили в “растение”. Но еще они говорили, что до своего превращения дедушка тоже отличался крутым нравом, он тогда был заместителем директора больницы и спуска никому не давал. Так что я до сих пор не знаю, в генах ли дело.
Мама бабушке не нравилась. Вообще-то ей ни одна женщина не смогла бы угодить. Всех людей на свете, за исключением членов семьи, бабушка считала злодеями и врагами. Разумеется, маму своим вниманием она тоже не обошла. Заставляла часами стоять коленями на стиральной доске, охаживала скалкой. Но мама давно к такому привыкла.
По контрасту с бабушкой и папой тетя казалась единственным нормальным человеком в семье. Нраву она была трусливого и робкого, с детства была приучена к роли покорной жертвы, и когда мама взяла на себя часть ее ноши, тетя вздохнула свободнее. Между ними даже завязалась короткая дружба, но держалась эта дружба в основном на тете. Она находила разные способы угодить маме: доставала ей рецепты на лекарства, делилась талонами в баню для сотрудников университета. Тетя благоговела перед мамой из-за ее утонченных манер и изысканной речи, к тому же мама была и очень красивой женщиной. Такая красота похожа на драгоценное ожерелье, и пусть оно никогда не станет твоим, все равно хочется рассмотреть его поближе, представить на себе. Следом неизбежно приходит уныние, и порой, не выдержав, тетя нашептывала бабушке гадости про маму, чем быстро разрушила их дружбу.
Правда, отдалились они друг от друга вовсе не из-за тетиной тяги к подстрекательствам, а из-за меня. С тех пор как я стал что-то понимать, мама намеренно избегала папиных родственников, не позволяя им вторгаться в нашу жизнь. Она мечтала со всех сторон окружить меня красотой. Вскоре после моего рождения тетя пришла к нам в гости и застала маму на балконе – мы с ней грелись на солнышке, а из магнитофона рядом лилась симфоническая музыка. Мама приложила палец к губам, жестом велев тете не шуметь, пока я слушаю симфонию. Смотри, как ему нравится Бетховен, сказала мама. Такой малыш, разве он понимает, ответила тетя. Ей это показалось забавным. Он все понимает, я и сама иногда удивляюсь, улыбнулась мама. Она ставила мне симфоническую музыку, рассказывала сказки, развешивала по стенам репродукции Ван Гога и Шагала. Тогда у нее были грандиозные планы, мама задалась целью вырастить из меня необыкновенного человека. Но ее рвение таяло по мере того, как я подрастал. Беспощадная рутина стирала мамино терпение в порошок.
Я и правда не помню, когда мы с ней впервые пришли в продовольственный магазин “Тайкан”. Как ни допытывался папа, все было бесполезно, может, не дави он на меня так сильно, я бы и вспомнил. Помню только, что мы всегда отправлялись туда после обеда. Мама брала меня за руку, мы пересекали дорогу и заходили в “Тайкан” купить сладостей к чаю. Тот мужчина работал там продавцом, каждый день он имел дело с пирожными и конфетами, поэтому от него сладко пахло, и слова его были липкими, как леденцы. Я забыл его имя, а может, никогда и не знал. Для меня он был просто лакричным дядюшкой. Когда мы с мамой приходили в магазин, лакричный дядюшка обязательно насыпал мне в карман целую горсть лакричных леденцов в разноцветных фантиках из вощеной бумаги.
– Зачем так много, пары штучек хватит, – весело улыбалась мама. – Иначе мне будет совестно к вам заглядывать.
Спустя пару дней мама снова взяла меня в магазин. Карман мой опять наполнился леденцами. После обеда в магазине было пусто, мама облокотилась на прилавок и болтала о чем-то с лакричным дядюшкой. Прилавок был высокий, выше моей макушки, я стоял под ним и грыз леденцы, а мятые фантики разглаживал и складывал из них человечков. Вдруг я услышал тонкий мамин плач, такой пронзительный, что даже тень у ее ног задрожала. Я потянулся взять маму за руку, но ее руки были уже заняты.
На прощанье лакричный дядюшка снова насыпал мне леденцов. Так много, что я долго не мог их доесть, даже спать ложился с леденцом во рту, и все мои сны пахли прохладной лакрицей.
Однажды утром, проснувшись после лакричного сна, я увидел, что в комнате пусто – мама исчезла. Она ушла второпях, ничего с собой не взяла, но казалось, что все ушло вместе с ней. Мне остались только два гнилых зуба, испорченных леденцами.
Не знаю, почему мама не взяла меня с собой. Может, я чем-то ее разочаровал и она решила меня бросить. Но я еще очень долго не верил, что это всерьез. Я думал, что мама обязательно за мной приедет, вот только устроится на новом месте. Мне не хотелось переезжать к бабушке, я предпочел бы дожидаться маму дома. Но папа и не собирался спрашивать мое мнение. Он хотел одного – скинуть меня на кого-нибудь и забыть о моем существовании.
Весенним вечером я стоял у двери и смотрел, как папа, не церемонясь, заталкивает все мое имущество в два плетеных нейлоновых мешка. Небо постепенно гасло, темнота заполняла опустевшую комнату, и белые стены, лишившиеся рамочек и фотографий, уже не так бросались в глаза. Я сел на корточки и незаметно вытащил из груды старья, которую папа собирался отвезти на свалку, жестяную лягушку на пружинке и несколько стеклянных шариков. Папа привязал к багажнику мешки с моими вещами, и мы отправились к бабушке: он сел на велосипед, мне велел бежать следом. Сначала он ехал медленно, но в рыночной толчее потерял терпение и налег на педали. Я бежал за ним со всех ног, чуть не опрокинул прилавок с фруктами, налетел на какую-то девочку, выбил вертушку у нее из рук. Стеклянные шарики выскочили из кармана и покатились по земле. А я из последних сил бежал, потому что теперь и папа в любую секунду мог исчезнуть.
Бабушкина квартира тоже состояла из двух маленьких комнаток. Я тогда решил, что все люди на свете живут в квартирах из двух маленьких комнат. У бабушки почти не было нормальной мебели, ее заменяли разнокалиберные сундуки и коробки, и от этого квартира походила на склад. Я огляделся по сторонам, ища глазами какую-нибудь красивую безделушку вроде вазочки или фото в рамке, но обнаружил только квадратные настенные часы, по низу циферблата шла красная надпись: “90 лет со дня основания Медицинского университета”. Потом я понял, что бабушка большая поклонница таких красных надписей, они были повсюду – и на алюминиевых кружках, и на тазах, и на термосе. Только годовщины стояли разные, где-то отмечалось основание университета, где-то – создание партии.
Подошло время ужинать, на столе появилось несколько черных мисок. В комнате было всего три стула, и для меня тетя принесла табурет от швейной машинки. Бабушка жаловалась, что четвертый стул разломал папа, обещал купить взамен новый, да так и не купил. Потом она стала перечислять все не исполненные папой обещания: забыл купить пирожки, божился, что вставит ей золотые зубы, – она перечисляла и перечисляла, вспомнила все до последнего. Говоря, бабушка почти не шевелила языком, слова выкатывались прямо из ее гортани, не успевая принять нужную форму. Этим диковинным клекотом бабушка напоминала какую-то птицу вроде турача. А папа невозмутимо жевал, точно вообще не понимает ее язык.
Табуретка подо мной была низенькая, приходилось сидеть очень прямо и вытягивать шею, но мои палочки все равно не знали, в какую миску им опуститься. Все три миски казались одинаковыми, и мясо, и баклажаны, и кабачки плавали в одинаково коричневой соевой гуще. Пампушки столько раз разогревали на пару, что тесто, набравшись воды, размякло и висело уродливыми лохмотьями. Взяв пампушку, я украдкой поднял глаза на бабушку и тетю. Понадеялся, что они выбросят эти лохмотья, но они их съели. А бабушка даже отщипнула кусочек и макнула в соевую гущу. Папа вообще заглатывал пампушки целиком, вместе с бахромой. Они втроем были похожи на настоящую семью, я понял, что помощи ждать бесполезно, оторвал кусочек пампушки и положил в рот. Он растаял на языке, словно ломтик сала, меня замутило и едва не вырвало.
Папа ушел сразу после ужина. Бабушка кричала ему в спину, что он должен каждый месяц исправно платить за мое содержание. Я собрал со стола грязную посуду, отнес на кухню и встал у раковины; тетя подавала чистые чашки, а я сухой тряпкой усердно вытирал капельки воды. Я догадывался, что тетю задобрить проще, чем бабушку. Она домыла посуду, отчистила плиту, расставила все по местам, и тогда я пошел вслед за ней в комнату.
Свет в комнате был такой тусклый, что казалось, будто в воздухе не хватает кислорода. Над столом висела единственная лампа, ее зеленый пыльный плафон отбрасывал огромную тень, напоминавшую крыло летучей мыши. Черно-белый телевизор громко и неразборчиво гудел, бабушка лежала на диване у окна. Это был очень старый диван, плетенный из бамбукового стебля, стебли во многих местах сломались и торчали наружу пеньками. В центре дивана была продавлена вмятина, куда идеально помещалось плоское бабушкино тельце. Казалось, она лежит в гнезде, свитом на макушке дерева. Я подумал, что бабушка спит, только было выдохнул, как она резко села, прищурилась и оглядела меня с головы до ног. А потом из сморщенного лица раздался турачий клекот:
– Живо снимай с него одежду!
Не успел я ничего сообразить, как тетя поймала меня за руку. Одернула мою полосатую кофту и начала расстегивать пуговки.
– Да чего ты возишься, рви! – скомандовала бабушка.
Тетя рванула борта кофты, и пуговки посыпались на пол. Потом ухватилась за ворот и стянула ее с меня через голову.
– И штаны! Штаны тоже снимай! – орала бабушка.
Присев на корточки, тетя обхватила меня одной рукой, а другой принялась стаскивать вельветовые брюки.
– А ты мамкины одежки за сокровище почитаешь? Ха-ха! – Бабушка встала и, сложив руки на груди, плюнула на пол. – Все с мертвых детей снято! С трупиков сгнивших, в которых опарыши копались! А теперь личинки и на тебя переползли, в уши тебе залезли!
– Неправда! – закричал я.
– Бабушка тебя не обманывает. – Тетя подняла с пола кофту, вывернула ее наизнанку и показала мне шов с ярлычком, густо исписанным английскими буквами. – Это ношеная одежда, твоя мама покупала ее на рынке Хайю, там продается разный мусор, который привозят контейнерами из-за границы.
Перепуганный, я стоял посреди комнаты, послушно переставляя ноги, чтобы тетя вынула их из скатанных у щиколоток штанин. Закончив, она подняла брюки, держа их двумя пальцами за края:
– Смотри, какой цвет яркий, сразу видно, что их стирали-то всего пару раз. С мертвого сняли, иначе кто бы стал выбрасывать такую хорошую вещь?
– Хватит трясти этой поганью! – Бабушка злобно ткнула тетю в плечо. – Живо перебери его мешки, снеси мертвяцкую одежду во двор и сожги!
Я смотрел, как тетя достает из мешка мой свитер с вышитым на груди якорьком, ветровку с капюшоном, кепку… Она вынимала вещи по одной, словно давая мне в последний раз на них посмотреть. По комнате плыл такой знакомый запах, теперь я не знал, кому он принадлежал – маме или тем мертвым детям. Всю одежду тетя запихала в пустую коробку и ушла с ней во двор.
– Где еще встретишь этакую злодейку, чтоб родного сына с мертвецов одевала…
Бабушка зловонно зевнула, потянулась и ушла в свою комнату.
Я остался стоять в одной майке и подштанниках. Постоял немного, а потом громко заплакал. Я рыдал, сам не зная, почему плачу – потому что у меня отобрали любимую одежду, потому что я испугался личинок с мертвых детей, которые заползли мне в уши, или потому что мама меня обманула. Я догадался, что сладковатый запах гниющих яблок с того розового свитера, что я подкладывал под голову вместо подушки, был запахом духов какой-то мертвой женщины. Прекрасные некогда воспоминания теперь вызывали ужас. И мама, ближе которой никого не было, превратилась в незнакомку. Я понял, что больше никогда не смогу любить ее так, как раньше.
Устав плакать, я заснул, привалившись к табурету от швейной машинки. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулся я от тетиных шагов. Она взяла два стула, приставила их к своей односпальной кровати, потом вытащила из сундука в изголовье белое стеганое одеяло и постелила его сверху.
– Вставай, будешь спать со мной. – Тетя подняла меня с пола. – Майку с подштанниками тоже надо сменить. Так бабушка сказала…
Тетя сняла со спинки кровати зеленую пижамную кофту:
– Надень пока. В ней поспишь, а завтра куплю тебе две смены нового белья.
Я не двинулся с места. Тогда тетя опустилась на корточки и стала меня переодевать. Снимая подштанники, она нечаянно стянула с меня и трусы. Мой крохотный пенис выскочил на свет лампы, и тетино лицо мгновенно залилось краской. Испугавшись, что я замечу ее смущение, тетя быстро натянула на меня пижамную кофту.
Кофта была женская, и на мне она превратилась в платье до пят. Тетя нырнула в длиннющие рукава и выудила оттуда мои руки.
– Готово. – Закатав мне рукава, она уселась на кровать и оглядела меня. Я отвернулся. – Вот, это тебе. – Тетя достала из кармана конфету и вложила ее мне в руку.
Гладкая и прохладная вощеная бумага приятно скользила в ладони. Опустив голову, я увидел, что это один из леденцов лакричного дядюшки.
– Когда жгла одежду, нашла у тебя в кармане штанов, – объяснила тетя. – Тут всего одна конфетка, если хочешь, я потом еще куплю.
– Не надо. – Я крепко сжал леденец в кулаке и втянул кулак обратно в рукав.
Перед сном тетя распустила волосы, выключила свет и улеглась на кровати рядом со мной. Наверное, было слишком темно, к тому же я грустил по маме, а может, тетины характерные острые скулы и выпуклый лоб спрятались за волосами, но когда я взглянул на нее, она показалась мне немного похожей на маму. Я с трудом переборол желание потянуться руками к ее груди. Скоро она тихонько захрапела.
В темноте я развернул шуршащий фантик и положил в рот последний леденец.
Будь у меня другой выбор, я бы ни за что не перенес на тетю привязанность к маме. Ты хоть и видела мою тетю, но, скорее всего, совершенно не помнишь, как она выглядит. Она с детства носила короткую стрижку и никогда не поднимала глаза на собеседника, словно жена-подросток[25]25
В бедных семьях старого Китая был распространен обычай отдавать девочку на попечение родителей ее будущего мужа. Обычно такие малолетние невесты становились самыми бесправными членами семьи.
[Закрыть], которой крепко достается в доме будущего мужа. В детстве тете помешали вырасти два обстоятельства: голод и страх. Из-за голода она осталась маленькой и худенькой, кое-как преодолела метр пятьдесят. А страх вынуждал ее все время сутулиться, вжимать голову в плечи, стараясь казаться еще меньше. Тетя моя вовсе не уродина, у нее приятные черты лица, вот только росла она осторожно, стараясь не выделяться, не привлекать к себе внимания. Для нее внимание было равноценно огромной опасности, она бы хотела, чтобы люди ее вовсе не замечали. В компании тете неизменно удавалось сделать так, что все быстро забывали о ее существовании.
Однажды она подарила мне набор акварельных карандашей. В благодарность я решил нарисовать ее портрет. Густо залившись краской, тетя кое-как просидела под моим взглядом пятнадцать минут. Наверное, до меня ее никто так внимательно не рассматривал, я был первым.
Я попал в бабушкин дом весной, пропустив набор в детский сад. Бабушке было лень хлопотать и устраивать меня туда посреди года, поэтому она решила, что я посижу дома до осени, а там пойду в школу. В Наньюане жило много детей, но все они ходили в сад, так что друзей у меня не было, и я с весны до самой осени играл один. Скоро папа сошелся с какой-то вдовой и почти перестал появляться в Наньюане, деньги тоже задерживал. Вспоминая об этом, бабушка очень сердилась и срывала зло на мне: гонялась за мной с метлой, кричала, что завтра же выставит меня из дома. На самом деле от меня была пусть небольшая, но польза – я пропалывал ее грядки, поливал люффу и кабачки. Бабушка выращивала овощи на заднем дворе, но весной всегда начинала скучать по диким растениям и травам, истекала слюной, мечтая о пельменях с пастушьей сумкой или яйцах, обжаренных с цветками софоры. По утрам она вешала мне на спину корзину и отправляла рвать бутоны софоры или выкапывать какие-нибудь корешки. Еще я собирал тополиные сережки – такие штуковины, похожие на волосатых гусениц, – бабушка мелко крошила мой улов, смешивала с фаршем и лепила пирожки баоцзы. На местном диалекте тополиные сережки зовут “напрасными хлопотами”, так люди смеются над тополем – пустоцвет, не завязывает плодов, только зря старается. Ребенком я не понимал, что значит это название, но, повторяя его вслед за взрослыми, чувствовал легкую грусть. Стоя под высоким тополем, я взмахивал бамбуковой палкой, задирал голову и смотрел, как сверху одна за другой сыплются напрасно распустившиеся тополиные сережки.
Я слонялся повсюду с корзиной за спиной. Тогда Наньюань казался мне огромным, чтобы пройти из конца в конец, нужна была целая вечность. Но времени у меня хватало, при желании я мог целый день болтаться на улице, бабушка точно не стала бы меня искать. Радиус моих прогулок постоянно увеличивался, скоро я стал выходить и за пределы Наньюаня, заглядывал в университетский кампус, в больницу, в магазинчик у ворот – в общем, обошел все доступные места в округе.
Однажды я вышел из Наньюаня и сам не заметил, как очутился на одной из соседних улиц. Там стояла церковь, которую я прежде ни разу не видел. Выглядела церковь очень внушительно: бурые каменные стены, вонзающийся в небо крест. Ворота были открыты, изнутри доносилось пение. Я прошел через церковный двор, остановился у дверей и заглянул внутрь. Все люди в церкви стояли, священник что-то говорил, а они повторяли за ним, как младшеклассники. Некоторые женщины даже плакали, причем все громче и громче, слезы они не вытирали, и никто не подходил к ним, чтобы утешить. Когда служба закончилась, женщины мигом пришли в себя, заговорили, заулыбались, будто вовсе и не плакали. А потом одна за другой потянулись из церкви. Три пожилые дамы, сидевшие в первом ряду, заметили меня у входа.