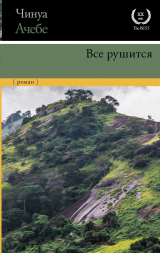
Текст книги "Все рушится"
Автор книги: Чинуа Ачебе
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Кое-кто еще не посадил свой ямс. Это были беззаботные лентяи, всегда старавшиеся оттянуть расчистку полей на как можно более дальний срок. В этом году они оказались «мудрецами». Качая головами, они выражали сочувствие соседям, но в душе радовались тому, что толковали как собственную дальновидность.
Когда дожди наконец вернулись, Оконкво высадил оставшийся еще у него ямс. Утешался он только тем, что ямс, посаженный им до засухи, был его собственным, из прошлогоднего урожая. Так что у него все еще оставалось восемьсот клубней, одолженных у Нвакиби, и четыреста взятых у отцовского друга. Поэтому ему было чем начать все сначала.
Но безумие природы продолжалось. Теперь дождь лил как никогда прежде: день и ночь, бурными потоками, безжалостно смывавшими посадки ямса, с корнем выворачивая деревья, повсюду образуя глубокие промоины. Потом дождь ослабел, но продолжал идти день за днем без перерыва. Период ясной солнечной погоды, который обычно случался в середине сезона дождей, так и не наступил. Ямс выпустил пышную зеленую листву, но любой земледелец знал, что без солнца клубни расти не будут.
В тот год сбор урожая был печальным, как похороны, и многие мужчины плакали, выкапывая жалкие подгнившие клубни. Один человек привязал конец своей накидки к ветке дерева и повесился на ней.
Тот трагический год Оконкво до конца жизни вспоминал с дрожью. Позднее, думая о нем, он всегда изумлялся: как ему удалось выстоять под таким бременем отчаяния? Он считал себя сильным борцом, но тот год был способен и льву разорвать сердце.
– Раз уж я пережил тот год, – говорил он бывало потом, – то смогу пережить все, – и считал, что обязан этим своей несгибаемой воле.
Его отец Унока, который в тот ужасный месяц сбора урожая был уже немощен, сказал ему:
– Не отчаивайся. Да ты и без моего совета не отчаешься. У тебя мужественное и гордое сердце. А гордое сердце способно пережить любую общую беду, потому что такая беда не уязвляет твоей гордости. Куда горше и труднее пережить личный провал.
Таким был Унока в свои последние дни. С возрастом и хворобами его разговорчивость усугубилась. И терпение Оконкво было на пределе.
Глава четвертая
– Глядя на губы властителя, – говорил старик, – можно подумать, что они никогда не сосали материнскую грудь.
Он имел в виду Оконкво, который так неожиданно поднялся из пучины нищеты и несчастий и стал одним из тузов племени. Старик не испытывал недоброжелательства к Оконкво. Он даже уважал его за трудолюбие и успешность. Но он, как и большинство других, был поражен его грубостью по отношению к менее успешным соплеменникам. Всего неделю назад один из них на собрании рода, посвященном предстоявшему празднику почитания предков, позволил себе не согласиться с Оконкво, и тот, не глядя на него, отрезал:
– Это собрание – для мужчин.
У возразившего ему не было титулов, и только поэтому Оконкво косвенно обозвал его бабой. Он знал, как убить в человеке дух мужества.
Все участники собрания встали на сторону Осуго, когда Оконкво унизил его. Старейший из присутствовавших строго напомнил: те, кому благосклонные духи помогают раскалывать кокосовые орехи, не должны забывать о скромности. Оконкво извинился за свои слова, и собрание продолжилось.
Но на самом деле было бы несправедливо сказать, что раскалывать кокосовые орехи Оконкво помогали благосклонные духи. Он раскалывал их сам. И никто из тех, кто знал, как яростно боролся он с нищетой и бедами, счастливчиком его бы не назвал. Уж если кто и заслужил успех, так это Оконкво. В раннем возрасте он завоевал славу величайшего борца всех здешних мест. Это не было везеньем. Самое большее, что можно было признать, так это то, что его чи, его личный бог-покровитель, оказался хорошим. Но у народа ибо есть пословица: если мужчина говорит «да», то и его чи скажет «да». Оконкво произнес свое «да» очень твердо и решительно, поэтому и чи его поддержал. И не только чи, но и все соплеменники, так как они привыкли судить о человеке по делам рук его. Поэтому-то жители всех девяти деревень именно ему поручили предъявить военный ультиматум врагам в случае отказа отдать юношу и невинную девушку в искупление убийства жены Удо. И так велик был страх врагов перед Умуофией, что они приняли Оконкво по-королевски и выдали ему девочку, которая должна была заменить Удо его убитую жену, и юношу по имени Икемефуна.
Старейшины племени решили на время поручить Икемефуну заботам Оконкво. Но никто не думал, что время это продлится так долго – целых три года. Казалось, что, приняв такое решение, все просто забыли о мальчике.
Поначалу Икемефуна жил в постоянном страхе. Раз или два даже собирался бежать, но не знал, как это сделать. Он постоянно думал о матери, о своей трехгодовалой сестричке и горько плакал. Мать Нвойе была к нему очень добра, обращалась с ним как с одним из собственных детей. Но он лишь твердил: «Когда меня отпустят домой?» Узнав, что он отказывается есть, Оконкво пришел в хижину с большой палкой и стоял над ним, пока он, дрожа, судорожно глотал свой ямс. Несколько минут спустя, спрятавшись за хижиной, мальчик изверг из себя все съеденное. Мать Нвойе нашла его и приложила ладони к его груди и спине. Икемефуна проболел три базарные недели, а когда выздоровел, то, судя по всему, заодно оправился и от страха и тоски.
По характеру он был жизнерадостным ребенком и постепенно прижился в семье Оконкво, особенно подружился с детьми. С Нвойе, сыном Оконкво, двумя годами младше, они стали неразлучны, потому что Икемефуна, казалось, знал все. Он мог вырезáть дудочки из бамбуковых стеблей и даже из слоновой травы[13]13
Злак с мощной корневой системой и высокими (до 3-
7 м) стеблями диаметром до 2,5 см. Широко распространенная кормовая культура в тропических и субтропических странах.
[Закрыть]. Знал названия всех птиц и умел устраивать хитрые ловушки для маленьких грызунов, обитающих в буше. И еще он знал, из какого дерева получаются самые гибкие луки.
Даже самому Оконкво мальчик нравился, но он, разумеется, этого не показывал. Он вообще никогда открыто не выражал своих чувств – кроме гнева. Обнаруживать привязанность было проявлением слабости, считал он, единственное, что следует демонстрировать, – это сила. Поэтому он обращался с Икемефуной так же, как со всеми, – сурово. Но не было никаких сомнений, что мальчик ему нравился. Иногда, отправляясь на общие собрания деревни или на общинные праздники в честь предков, он позволял Икемефуне сопровождать его как сыну, нести его скамеечку и его мешок из козьей шкуры. И мальчик действительно называл его отцом.
Икемефуна прибыл в Умуофию в вольготное время между сбором урожая и посадками. А от болезни оправился всего за несколько дней до Недели мира. И было это в тот год, когда Оконкво нарушил мир и был, как предписывал обычай, наказан жрецом богини земли Эзеани.
Законный гнев Оконкво спровоцировала его младшая жена, которая отправилась плести косички к подруге и не вернулась вовремя, чтобы приготовить дневную еду. Сначала Оконкво не знал, что ее нет дома. Но так и не дождавшись еды, пошел к ней посмотреть, чем она занята. В хижине никого не оказалось, и очаг был холодным.
– Где Оджиуго? – спросил он у второй жены, вышедшей из своей хижины, чтобы набрать воды из гигантского чана, стоявшего посреди двора в тени небольшого дерева.
– Пошла плести косички.
Гнев стал подниматься в груди Оконкво, он закусил губу.
– А где ее дети? Она взяла их с собой? – холодно поинтересовался он с несвойственной ему сдержанностью.
– Они здесь, – ответила его первая жена, мать Нвойе.
Оконкво наклонился и заглянул в ее хижину. Дети Оджиуго сидели и ели вместе с детьми его первой жены.
– Она перед уходом попросила тебя их накормить?
– Да, – солгала мать Нвойе, пытаясь загладить легкомыслие Оджиуго.
Оконкво понял, что она говорит неправду, и пошел обратно в свой оби ждать возвращения Оджиуго. А когда та вернулась, жестоко избил ее. В гневе своем он позабыл, что шла Неделя мира. Две старшие жены, выбежав из своих домов в страшной тревоге, умоляли его не делать этого в священную неделю. Но Оконкво был не из тех, кто, войдя в раж, способен остановиться на полпути, даже из страха перед богиней.
Соседи Оконкво, услышав, как кричит его жена, сбежались и стали через стену вопрошать, что происходит. Кое-кто даже перелез во двор, чтобы увидеть все собственными глазами. Неслыханное дело: побить кого-то на священной неделе!
Еще до того как наступили сумерки, Эзеани, жрец богини земли Ани, явился в оби Оконкво. Тот вынес орех кола и поставил его перед жрецом.
– Убери свой орех. Я не стану есть в доме человека, который не уважает богов и предков.
Оконкво пытался объяснить ему, в чем провинилась его жена, но Эзеани, казалось, не обращал на его слова никакого внимания, а когда Оконкво замолчал, стукнул об пол коротким посохом, чтобы подчеркнуть важность своих слов, и сказал:
– Слушай меня. Ты в Умуофии не чужак и не хуже меня знаешь, что праотцы повелевают нам: прежде чем опустить первое семя в землю, в течение недели никто не должен даже грубого слова сказать соседу. Эту неделю мы живем в мире со всеми соплеменниками и чтим богиню земли, без благословения которой не вырастет ни травинки. Ты совершил большое зло. – Он снова тяжело стукнул посохом по полу. – Да, жена твоя провинилась, но даже если бы ты вошел в свой оби и застал на ней любовника, все равно, избив ее, ты совершил бы тяжкий грех. – Снова удар посоха об пол. – И теперь твой грех может погубить все племя. Богиня земли, которую ты оскорбил, может отказать нам в своей милости, и все мы умрем. – Он сменил тон с гневного на командный. – Завтра доставишь в святилище богини Ани одну козу, одну курицу, кусок ткани и сто каури. – Он встал и покинул хижину.
Оконкво сделал так, как велел жрец, присовокупив к дани еще и кувшин пальмового вина. В глубине души он раскаивался, но был не таким человеком, чтобы ходить по соседям и признаваться, что совершил ошибку. Поэтому люди сочли, что он проявил неуважение к богам племени. А враги говорили, что богатство ударило ему в голову. Они называли его нза – по имени маленькой птички, которая, наевшись до отвала, настолько осмелела, что стала перечить своему чи.
В течение Недели мира никто не работал. Люди ходили в гости друг к другу и пили пальмовое вино. В этом году все только и говорили что об оскорблении Ани, которое позволил себе Оконкво. За многие годы это был первый раз, когда человек нарушил заповедь священной недели. Даже старожилы могли припомнить разве что один-два таких случая, да и то в туманном прошлом.
Огбуэфи Эзеуду, самый старый человек в деревне, жаловался двум своим гостям, что наказание за нарушение мирной заповеди Ани стало в их племени слишком мягким.
– А ведь так было не всегда, – говорил он. – Отец рассказывал мне, а ему рассказывал его отец, что в былые времена того, кто нарушал мир, волочили по земле через всю деревню, пока дух не покидал его тело. Но потом этот обычай отменили, потому что он сам осквернял мир, который был призван охранять.
– Вчера кто-то мне сказал, – вставил мужчина помоложе, – что умереть на Неделе мира среди некоторых племен считается непристойностью.
– Это правда, – ответил Огбуэни Эзеуду. – У ободоани, например, есть такой обычай. Если человек умирает на Неделе мира, его не хоронят, а относят в Поганый лес. Это плохой обычай, люди соблюдают его по недомыслию. Они оставляют большое количество женщин и мужчин без погребения. А что в результате? Их племя кишит злыми духами непогребенных мертвецов, жаждущих причинить зло живым.
По окончании Недели мира все мужчины со своими домочадцами приступали к расчистке буша под новые поля. Срезанные кусты оставляли высыхать, а потом поджигали. Как только дым начинал подниматься к небу, со всех сторон слетались коршуны и парили в небе над горящими полями в немом прощании. Приближались дожди, и коршуны улетали до следующего сухого сезона.
Несколько дней, следовавших за Неделей мира, Оконкво готовил свой ямс: осматривал каждый клубень, определяя, годится ли он для посадки. Иногда он решал, что клубень слишком велик, чтобы высаживать его целиком, и ловко разрезал его в длину острым ножом. Его старший сын Нвойе и Икемефуна помогали ему, поднося клубни из амбара в длинных корзинах, пересчитывая готовые к посадке клубни и складывая их в кучи по четыре сотни. Иногда Оконкво доверял каждому из них самому подготовить по нескольку клубней. Но всегда находил ошибки в их работе и грозно их за это ругал.
– Ты что, думаешь, что готовишь ямс для кухни? – строго вопрошал он Нвойе. – Еще раз разрежешь клубень такого размера – челюсть тебе сломаю. Ты считаешь, что ты еще ребенок. У меня в твоем возрасте уже было свое хозяйство. Ну а ты, – обращался он к Икемефуне, – у вас там, откуда ты родом, что, ямс не выращивают?
В душе Оконкво понимал, что мальчики еще слишком малы для того, чтобы в полной мере постичь сложное искусство подготовки ямса к посадке, но не сомневался, что начинать учиться никогда не рано. Ямс символизировал достоинство мужчины, и Оконкво, который мог прокормить своим ямсом семью от урожая до урожая, безусловно, заслуживал большого уважения. Он хотел, чтобы и его сын стал уважаемым земледельцем и большим человеком, и старался вырвать ростки лени, которые, как ему казалось, уже пробились в сыне и тревожили отца.
– Я не потерплю, чтобы мой сын не мог поднять голову на сходе племени, скорее задушу его собственными руками. И если ты будешь вот так стоять и бессмысленно глазеть на меня, – он выругался, – Амадиора[14]14
Амадиора – у народа ибо один из самых популярных богов, бог грома и молнии.
[Закрыть] тебе голову разнесет на куски.
Несколько дней спустя, когда два-три сильных ливня увлажнили землю, Оконкво и вся его семья вышли в поле с корзинами посадочного ямса, мотыгами и мачете – и посадка началась. Ровными рядами, тянувшимися вдоль всего поля, они сгребали землю небольшими кучками и в каждую закапывали клубень.
Ямс, король полей, был очень взыскательным владыкой. В течение трех или четырех лун он требовал тяжелого труда и постоянной заботы от зари до заката. Молодые ростки нужно было оберегать от земного жара, обкладывая их мясистыми листьями агавы. Когда дожди усиливались, женщины сажали между ямсовыми грядами маис, дыни и бобы. Потом приходила пора подвязывать ростки ямса, сначала – к коротким палочкам, потом к высоким и прочным древесным веткам. За время созревания ямса женщины трижды пропалывали поле в строго определенное время, ни раньше, ни позже.
И вот пришли настоящие дожди, такие обильные и непрекращающиеся, что даже деревенский колдун, вызывающий дождь, больше не утверждал, будто способен ими управлять. Он не мог остановить дождь теперь, так же как не мог вызвать его в разгар сухого сезона, не рискуя очень серьезно своим здоровьем. Для человеческого организма состязание с подобными погодными крайностями было чрезмерно и опасно.
Поэтому в середине сезона дождей никто не пытался вмешаться в разгул природы. Порой ливень лил такой плотной стеной, что земля и небо смешивались в одну серую пелену, и невозможно было понять, снизу или сверху раздаются басовые раскаты громов Амадиоры. В такие дни в каждой из бесчисленных крытых пальмовыми листьями хижин Умуофии дети рассаживались вокруг очага, на котором их матери готовили еду, и рассказывали разные истории или в отцовском оби грелись у дровяного костра и лакомились початками маиса, которые поджаривали на нем. Это был короткий период отдыха между суровым и тяжким сезоном посадки и таким же тяжелым, но веселым месяцем сбора урожая.
Икемефуна уже чувствовал себя членом семьи Оконкво. Он все еще вспоминал мать и трехгодовалую сестренку, и случались у него приступы тоски и подавленности. Но они с Нвойе так привязались друг к другу, что подобные приступы находили на него все реже и становились все менее тягостными. Икемефуна был неистощимым кладезем народных сказок. Даже те из них, которые Нвойе уже знал, Икемефуна рассказывал как-то по-новому, привнося в них колорит другого племени. Это время Нвойе до конца жизни вспоминал очень живо, во всех подробностях. Он даже помнил, как хохотал, когда Икемефуна сказал, что маисовый початок, в котором осталось всего несколько зерен, правильно называть эзе-агади-нвайи, что означало «старушечьи зубы». Нвойе мысленно сразу же перенесся в дом Нвайеке, которая жила возле дерева удала. У нее было всего три зуба, и она не выпускала трубку изо рта.
Постепенно дожди ослабевали, между ними случались просветы, небо и земля снова разделились. Теперь вода падала с неба тонкими косыми струями сквозь солнечный свет и легкий ветерок. Дети больше не сидели по домам, а носились на открытом воздухе и пели:
Дождик струится, и солнышко сияет,
А Ннади все стряпает и сам все съедает.
Нвойе всегда было интересно, кто такой Ннади, почему он живет совсем один, сам себе готовит и сам же все съедает, и в конце концов он решил, что Ннади, должно быть, живет в стране из его любимой сказки, где король – муравей, у которого роскошный двор, где все всегда танцуют и жизнь никогда не кончается.
Глава пятая
Приближался Праздник нового ямса, и настроение в Умуофии царило приподнятое. В этот праздник положено было благодарить Ани, богиню земли и источник всяческого плодородия. Ани играла в жизни племени бóльшую роль, нежели любое другое божество. Она была непререкаемым судьей в вопросах морали и правил поведения. А что еще важнее – состояла в тесном общении с духами предков племени, чьи тела были преданы земле.
Праздник нового ямса отмечался каждый год перед началом сбора урожая в честь богини земли и духов предков. Ямс нового урожая нельзя было есть, пока они не получат свою долю в виде жертвоприношения. Мужчины и женщины, молодые и старые, с нетерпением ждали этого торжества, потому что оно открывало сезон изобилия и знаменовало начало нового года. Вечером накануне праздничного дня те, у кого еще оставался ямс старого урожая, избавлялись от него. Новый год следовало начинать со вкусным свежим ямсом, а не со сморщенными волокнистыми прошлогодними клубнями. Все кухонные котлы, калебасы и деревянные горшки тщательно вымывались – особенно деревянная ступа, в которой толкли ямс. Фуфу[15]15
Фуфу – густая каша (тесто) из толченых в ступе вареных корнеплодов, которую скатывают в маленькие шарики и проглатывают целиком вместо хлеба, с супом или соусом.
[Закрыть] с овощным супом был главным угощением на празднике. Его готовили столько, что, как бы ни объедалась им вся семья и сколько бы гостей и родственников она ни пригласила из соседних деревень, в конце дня все равно его оставалось немерено. Из уст в уста передавался рассказ о некоем богатом человеке, который выставил перед гостями такую гору фуфу, что сидевшие на одном конце стола не видели, что происходит на другом, и один из гостей только поздно вечером заметил свойственника, прибывшего уже после начала трапезы и обосновавшегося на противоположном конце стола. Только тогда они поздоровались и пожали друг другу руки поверх снизившейся, но все равно еще немалой кучи фуфу.
Словом, Праздник нового ямса для всей Умуофии был поводом для радости. И всем «мужчинам с сильной рукой», как называли зажиточных односельчан в народе ибо, полагалось приглашать на него как можно больше гостей из самой дальней округи. Оконкво всегда звал родственников своих жен, а поскольку их у него теперь было три, гостей набиралась целая толпа.
Но Оконкво никогда не был таким энтузиастом праздников, как большинство людей. Он любил хорошо поесть и мог выпить один-два кувшина пальмового вина, но всегда чувствовал себя неуютно в ожидании праздника и во время застолий. Ему было бы гораздо приятней вместо этого трудиться на своем поле.
До праздника оставалось всего три дня. Жёны Оконкво до блеска натерли стену усадьбы и свои хижины красной глиной, а потом разрисовали их белой, желтой и темно-зеленой красками. После этого они уселись окрашивать друг дружку соком дерева бафия и наносить красивые черные узоры на животы и спины. Детей тоже украшали, особенное внимание уделяли волосам, которые выбривали замысловатыми узорами. Три женщины взволнованно судачили о приглашенных родственниках, а дети предвкушали, как эти родственники по материнской линии будут их баловать. Икемефуна тоже волновался. Здешний Праздник нового ямса представлялся ему событием гораздо более грандиозным, чем в его родной деревне, которая казалась уже далекой и которую он помнил весьма смутно.
И вдруг разразилась буря. Оконкво, бесцельно бродивший по своим владениям, подавляя в себе гнев, вдруг нашел повод дать ему волю.
– Кто загубил это банановое дерево? – спросил он.
На усадьбу мгновенно опустилась мертвая тишина.
– Кто загубил это дерево, спрашиваю? Вы что, все оглохли и онемели?
На самом деле дерево было живехонько. Вторая жена Оконкво просто срéзала с него несколько листьев, чтобы завернуть в них приготовленную еду, в чем и призналась честно. Без лишних слов Оконкво жестоко избил ее и оставил вместе с ее единственной дочерью в горьких рыданиях. Ни одна из двух других жен не осмелилась вмешаться, если не считать их робкие мольбы с безопасного расстояния: «Хватит, Оконкво».
Утолив таким образом свой гнев, Оконкво решил отправиться на охоту. У него было старое заржавленное ружье, изготовленное умельцем-кузнецом, уже давно обосновавшимся в Умуофии. Но будучи большим человеком, чье могущество признавалось повсюду, охотником Оконкво был никаким. Если говорить начистоту, он не убил и крысы из этого ружья. И когда он велел Икемефуне принести ружье, жена, которую он только что избил, пробормотала что-то насчет ружей, которые никогда не стреляют. На ее беду Оконкво услышал это и сам ринулся в свой оби за заряженным ружьем, а когда выбежал обратно, прицелился прямо в нее; она тем временем уже перелезла через низкую ограду амбара. Оконкво спустил курок, раздался оглушительный выстрел, сопровождаемый воем его жен и детей. Опустив ружье, он перепрыгнул через ограду и влетел в амбар, женщина лежала там, потрясенная и испуганная, но невредимая. Он издал тяжелый вздох и, сжимая ружье, пошел прочь.
Несмотря на это происшествие, Праздник нового ямса отмечался в доме Оконкво очень весело. Рано утром, принося в дар духам предков новый ямс и пальмовое масло, он попросил их в новом году защищать его, его детей и их матерей.
В течение дня из трех окружающих деревень прибывали его свойственники, и каждая новая группа гостей приносила с собой большой кувшин пальмового вина. Ели и пили до позднего вечера, пока гости не начали расходиться по домам.
Второй день нового года был днем больших соревнований между деревней Оконкво и соседними деревнями. Трудно сказать, что доставляло людям большее удовольствие – застолья в веселой компании первого дня или состязания в силе второго. Только у одной женщины не было на этот счет никаких сомнений – у второй жены Оконкво, Эквефи, которую он чуть не застрелил. Ни один праздник в году не радовал ее больше, чем состязания в силе. Много лет назад, когда она слыла первой красавицей деревни, Оконкво покорил ее сердце, положив на лопатки Кота в величайшем на памяти жителей деревни поединке. Тогда она не вышла за него только потому, что он был слишком беден, чтобы заплатить за нее выкуп. Но спустя несколько лет сбежала от мужа и стала жить с Оконкво. Все это было давно. Теперь Эквефи было сорок пять лет, и она сильно настрадалась в свое время. Но ее любовь к борцовским состязаниям за минувшие тридцать лет ничуть не убавилась.
Еще не наступил полдень второго дня Праздника нового ямса. Эквефи со своей единственной дочерью Эзинмой сидела у очага и ждала, когда закипит вода в котелке. Курица, которую Эквефи только что зарезала, лежала в деревянной ступке. Как только вода закипела, она одним ловким движением сняла с огня котелок и вылила кипяток на курицу. Относя пустой котелок на круглую подставку в углу, где было его место, она взглянула на свои ладони, они были черны от сажи. Эзинму всегда изумляла способность матери снять с огня кипящий котелок голыми руками.
– Эквефи, – спросила она, – а это правда, что взрослых людей огонь не жжет? – Как и большинство детей, Эзинма называла мать по имени.
– Да, – ответила Эквефи, у которой не было времени на разговоры. Ее дочке исполнилось всего десять лет, но она была разумна не по годам.
– А вот мать Нвойе на днях уронила горшок с супом так, что тот даже разбился, потому что был горячим.
Эквефи перевернула курицу в ступе и стала ее ощипывать.
– Эквефи, – сказала Эзинма, пристроившись помогать матери ощипывать птицу, – у меня веко дергается.
– Это к слезам, – ответила мать.
– Нет, вот это веко, верхнее.
– А это значит, что ты что-то увидишь.
– А что я увижу? – спросила девочка.
– Откуда мне знать? – Эквефи хотела, чтобы девочка сама догадалась.
– А! – воскликнула та. – Я знаю – это будут борцовские состязания.
Наконец курица была чисто ощипана. Эквефи попробовала было выдрать ороговевший клюв, но он оказался слишком прочно вросшим. Тогда, развернувшись на своей низкой табуретке, она сунула клюв в огонь на несколько секунд, после чего он с легкостью вышел наружу.
– Эквефи! – окликнули ее из другой хижины. Это была мать Нвойе, первая жена Оконкво.
– Это меня зовут? – Так было принято отвечать, если тебя звали снаружи. Здесь никогда не говорили в ответ «да» из страха, что звать мог злой дух.
– Пусть Эзинма принесет мне огня. – Ее собственные дети и Икемефуна ушли на речку.
Эквефи положила несколько раскаленных углей на черепок от разбитого горшка, и Эзинма отнесла их через чисто выметенный двор матери Нвойи.
– Спасибо, детка, – сказала та. Она чистила новый ямс, а в корзине рядом лежали зелень и бобы.
– Давай я разведу тебе огонь, – предложила Эзинма.
– Спасибо, Эзигбо. – Она часто так называла девочку, слово означало «милая».
Эзинма вышла, принесла пучок хвороста из большой вязанки, предназначенной для растопки. Об подошву ступни поломала ветки на мелкие кусочки и начала дуть на угли.
– Ты себе так глаза сожжешь, – сказала мать Нвойе, подняв голову от ямса, который чистила. – Возьми опахало.
Она встала и сняла опахало с балки, на которой оно висело. Как только она встала, шкодливая козочка, которая до того, как положено, поедала очистки, вонзила зубы в целый клубень, откусила два больших куска ямса и выскочила из хижины, чтобы безопасно сжевать добычу в козлятнике. Мать Нвойе ругнулась ей вслед и уселась обратно чистить ямс. Над огнем, который разводила Эзинма, столбом поднимался густой дым. Девочка продолжила раздувать огонь опахалом, пока над очагом не взметнулись языки пламени. Мать Нвойе поблагодарила ее, и она отправилась обратно в свою хижину.
И как раз в этот момент до них донесся отдаленный бой барабанов. Он шел от ило – деревенской площади для развлечений. Каждая деревня имела свою ило, обычно ровесницу самой деревни, на ней происходили все важные церемонии и устраивались танцы. Сейчас барабаны отбивали ритм, возвещающий о начале состязаний, – быстрый, легкий и веселый, его разносил по округе ветер.
Оконкво откашлялся и задвигался в такт барабанам. Их рокот всегда, с юности, воспламенял его. Он дрожал от желания победить и покорить. Это походило на вожделение к женщине.
– Мы опоздаем на состязания, – сказала Эзинма матери.
– Они не начнутся, пока солнце не перевалит на закат.
– Но барабаны уже бьют.
– Да. Барабаны начинают бить в полдень, но соревнования начнутся не раньше, чем солнце начнет клониться к закату. Пойди посмотри, вынес ли отец ямс для дневной еды.
– Вынес. Мать Нвойе уже готовит.
– Тогда ступай принеси наш. Нужно поторопиться с готовкой, а то опоздаем на состязания.
Эзинма побежала к амбару и принесла два клубня, лежавшие под его низенькой оградой.
Эквефи быстро очистила их. Шкодливая коза шныряла вокруг, поедая очистки. Женщина нарезала ямс мелкими кусочками и принялась готовить похлебку с курицей.
В этот момент они услышали плач, доносившийся из-за стены, огораживавшей усадьбу. Голос был похож на голос Обиагели, сестры Нвойе.
– Это не Обиагели плачет? – крикнула Эквефи матери Нвойе через двор.
– Да, – отозвалась та. – Наверное, свой кувшин для воды разбила.
Теперь плач слышался уже совсем близко, и вскоре во двор цепочкой вошли дети, все несли на головах сосуды с водой, соответствующие возрасту каждого ребенка. Первым, с самым большим сосудом, шел Икемефуна, за ним по пятам – Нвойе и два его младших брата. Обиагели замыкала шествие, по ее лицу в три ручья текли слезы. В руках она несла круглую матерчатую подушечку, которую подкладывают на голову под ношу.
– Что случилось? – спросила ее мать, и Обиагели поведала свою печальную историю. Мать утешила ее и пообещала купить ей другой кувшин.
Младшие братья Нвойе хотели было рассказать матери, как все было на самом деле, но Икемефуна строго посмотрел на них, и они осеклись. А дело было в том, что Обиагели решила исполнить иньянгу с кувшином на голове. Водрузив его на макушку и сложив руки на груди, она начала вращать бедрами, как это делают взрослые девушки. Когда кувшин упал и разбился, она разразилась безудержным смехом, а плакать начала, только когда они подошли к дереву ироко, росшему за оградой их усадьбы.
Барабаны продолжали отбивать ритм, непрерывный и неизменный, уже слившийся со звуками жилой части деревни. Он словно бы стал биением ее сердца. Воздух, солнечный свет и даже деревья пульсировали в такт ему и будоражили жителей.
Эквефи отложила мужнину часть похлебки в отдельную миску и накрыла ее крышкой. Эзинма понесла миску в оби отца.
Оконкво сидел на козлиной шкуре и уже ел то, что приготовила его первая жена. Обиагели, принесшая еду из хижины своей матери, примостившись на полу, ждала, когда он поест. Эзинма поставила стряпню своей матери перед ним и устроилась рядом с Обиагели.
– Сядь как положено сидеть женщине! – рявкнул на нее Оконкво. Эзинма свела ноги вместе и вытянула их перед собой.
– Папа, ты пойдешь смотреть состязания? – поинтересовалась она после приличествующей паузы.
– Да, – ответил Оконкво. – А ты?
– Да, – сказала Эзинма и после еще одной паузы спросила: – Можно я понесу твою скамеечку?
– Нет, это дело мальчиков.
К Эзинме Оконкво испытывал особую привязанность. Она была очень похожа на мать, а та когда-то слыла первой красавицей в деревне. Однако свое расположение он выказывал крайне редко.
– Обиагели сегодня разбила свой кувшин, – сообщила Эзинма.
– Да, она мне рассказала об этом, – ответил Оконкво, продолжая есть.
– Папа, – вставила Обиагели, – нельзя разговаривать во время еды, а то перец может попасть не в то горло.
– Совершенно верно. Ты слышала, Эзинма? Обиагели младше тебя, а разумнее.
Он снял крышку с миски, присланной второй женой, и начал есть из нее. Обиагели забрала пустую миску и пошла обратно в хижину своей матери. Тут вошла Нкечи с третьей миской. Нкечи была дочерью Оконкво и его третьей жены.
Вдали продолжали бить барабаны.








