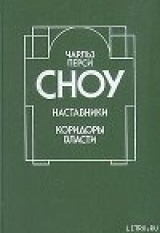
Текст книги "Наставники"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
40. «Моя жизнь сложилась неудачно»
Измученный бессонной ночью, я проснулся на следующий день – семнадцатого декабря – около одиннадцати. За окном выл порывистый западный ветер, тяжелые тучи ползли над самыми крышами, утро было сырым и пасмурным. Днем ко мне зашел Рой, мы затопили в гостиной камин – не из-за холода, потому что западные ветры всегда приносят дождливую оттепель, а чтобы посидеть у живого огня, – и принялись обсуждать поведение Кристла. Почему он упорствовал – упорствовал вопреки здравому смыслу? Что его так обрадовало под утро? Может быть, ему хотелось доказать Брауну, что он остался верен их дружбе, хотя в предвыборной борьбе практически перестал поддерживать Джего? Да, он, несомненно, стремился продемонстрировать Брауну свою дружескую лояльность, это нам было ясно; но мы понимали, что он преследует и еще какую-то цель.
Нашу беседу прервал двойной, но неторопливый и спокойный стук в дверь.
– Дядюшка Артур собственной персоной, – объявил Рой, и мы приветливо улыбнулись входившему в гостиную Брауну. Но его ответная улыбка была вежливой, и только.
Он сел рядом с нами у камина, рассеянно посмотрел в огонь и озабоченно сказал:
– Я как раз думал повидаться с вами обоими. Мне передали, что вчера была названа моя кандидатура – без моего разрешения. Вы участвовали в этом?
Он был расстроен и возмущен. Я объяснил ему, какие мы с Роем взяли на себя обязательства.
– Меня по-настоящему обрадовала эта возможность, – сказал я. – Мне очень хочется, чтобы вы стали ректором. Это будет просто замечательно, если вы поселитесь в Резиденции.
Браун промолчал. Через несколько минут он сказал:
– Я знаю, что вы действовали из добрых побуждений.
– Доброта тут ни при чем, – возразил я. – Мы намеренно объявили, как мы к вам относимся.
– Я понимаю, у вас были добрые намерения.
– Кристлу представился случай заявить, что вы будете хорошим ректором, – проговорил Рой, – и он им воспользовался.
– Так он мне и сказал.
– И это правда.
– Он должен был сообразить, что я ни в коем случае не разрешу выдвигать сейчас мою кандидатуру, – проворчал Браун. – Я не хочу мешать Джего и вносить разлад в нашу партию, а, упомянув мое имя, Кристл только этого и добился. Мне очень жаль, что он так безответственно воспользовался моим именем. И я вынужден вам сказать, что, поддержав его, вы тоже поступили крайне безответственно.
– Мы сказали только то, что думали, – возразил я.
– Это-то мне понятно, – сказал Браун, стараясь сохранить свою всегдашнюю объективность. – Мне непонятно, как получилось, что вы, человек, безусловно, хладнокровный и проницательный, позволили вовлечь себя в эту безответственную авантюру. Уж вам-то должно быть ясно, что в нашем нынешнем и без того запутанном положении, да еще за три дня до выборов, нельзя противопоставлять своего союзника своему же кандидату – даже если вы говорите при этом только то, что думаете. Вы подыграли нашим противникам – ни больше, ни меньше. А меня использовали как пешку в этой игре.
– Вы разговаривали с Кристлом?
– Разговаривал. Я сказал ему, что не хочу быть пешкой в чужой игре – и не буду.
Браун полностью утратил терпимость, доброту и способность логически мыслить – при мне такого не случалось с ним ни разу, даже когда он узнал об измене Пилброу. Вышло так, что по вине Кристла он нарушил свой собственный «кодекс порядочности». Ему было приятно ощущать свою тайную власть в колледже, он с удовольствием ею пользовался, однако я давно заметил, что он скрупулезно придерживается выработанных им самим правил поведения и очень дорожит своей репутацией – его нежелание давить на Льюка в начале предвыборной кампании послужило этому наглядным примером. Он опасался, что коллеги могут счесть его пешкой в чужой игре или интриганом, который решил воспользоваться нашими трудностями и с помощью своего друга тихой сапой пробраться в ректоры. А кроме всего прочего, он обладал глубочайшим чувством собственного достоинства и был убежден, что линию своего поведения может определять только он сам.
Ну и, наконец, он был чрезвычайно практичным человеком, а поэтому еще злее ополчился на Кристла: он твердо знал, что у него нет ни малейшей надежды пройти сейчас в ректоры и что Кристл выдвинул его кандидатуру только для очистки совести. Он ясно понимал, понимал лучше, чем кто-нибудь другой, что колебания и внутренние противоречия перерастают у Кристла в непреклонную решимость жить и мыслить самостоятельно, – вот что приводило Брауна в бешенство, вот почему он так гневно обвинял нас с Роем. Кристл вырвался из-под его влияния и впервые за двадцать лет начал действовать ему наперекор. А ведь лиха беда начало – Браун предвидел, чем это может кончиться, а когда Кристл пришел к нему со своим предложением, он понял, что окончательно проиграл.
Браун распрощался с нами очень холодно, сказав перед уходом, что письменно известит всех членов Совета о своем категорическом отказе баллотироваться в ректоры. Я подозревал, что с нами он разговаривал гораздо резче, чем с Кристлом: при нем он наверняка сдерживался, а на нас откровенно сорвал свою злость.
Когда он ушел, Рой глянул на меня и сказал:
– Похоже, что у Джего не осталось никаких надежд, старина.
– Ты прав.
– Надо что-то сделать. Если мы перетянем кого-нибудь в свой лагерь, все, может, и образуется.
Мы решили поговорить сначала с Пилброу, а потом с Деспардом и сразу после чая отправились к Пилброу. Но ничего у нас не вышло. Рой пустил в ход все свое обаяние – он был обаятелен от природы и умел этим пользоваться. Он обхаживал старика, словно женщину: поддразнивал его, говорил серьезно, шутил, подольщался, насмешничал, даже пригласил погостить у него весной в Берлине, когда он опять поедет туда читать лекции, – все без толку. Пилброу по достоинству оценил Роев спектакль – ему нравились артистичные молодые люди, – но остался непреклонным: он считал, что обязан проголосовать за Кроуфорда. Я завел политический разговор, Рой превзошел в искусстве обольщения самого себя, но мы решительно ничего не добились, а хитрющий старикан вырвал у нас обещание пообедать в Лондоне на следующий день после выборов с каким-то писателем-эмигрантом.
В общем, мы ушли от Пилброу ни с чем, и Рой насмешливо сказал:
– Я навеки опозорился.
– Постарел ты, братец, вот в чем все дело.
– Отправляйся-ка ты к Деспарду один, – сказал Рой. – Если уж я не сумел повлиять на добряка Юстаса, то с Деспардом у меня и вовсе ничего не получится.
Деспард-Смит относился к Рою с недоуменно-опасливой подозрительностью, и после обеда я пошел к нему один. Он занимал квартиру в третьем дворике, по соседству с Найтингейлом и неподалеку от дома Джего. В трапезной его не было, и, поднявшись к нему, я увидел на большом прямоугольном сундуке возле двери присланные из кухни тарелки с обедом. Дверь была приоткрыта, но в гостиной никого не было, и огонь в камине уже погас. Я подошел к двери в другую комнату, постучал и, услышав весьма неприветливый отклик: «Кто там?», назвался. Деспард не ответил, в комнате послышался какой-то шум, а минуты через две щелкнул отпираемый замок, и дверь приоткрылась. Глаза у Деспарда были воспалены, он злобно посмотрел на меня и сказал:
– Я очень занят, Элиот. Очень.
– Но, может быть, вы все же уделите мне пять минут?
– Вы не представляете себе, как я занят, Элиот. Со мной последнее время никто не хочет считаться.
От него разило спиртным; обычно он держался с торжественным и мрачным достоинством, а сейчас выглядел просто угрюмым и разозленным стариком.
– Мне хочется сказать вам пару слов о выборах, – объяснил я. Он посмотрел на меня и неприязненно проговорил:
– Ну что ж, зайдите на минутку.
Комната, загроможденная, по меркам двадцатого века, старомодной мебелью – столиками, шкафами, горками с керамикой, – казалась темноватой и тесной. Стены были увешаны фотографиями его университетских однокашников – молодых людей в широкополых соломенных шляпах и с усами. На столе, затянутом зеленым сукном, я заметил книгу и пустой стаканчик, а у стола стояло старинное кресло с подголовником. Деспард угрюмо сказал: «Разрешите предложить вам вечернюю ч-чарочку», – и открыл шкаф, стоявший возле камина. На полках шкафа я разглядел батарею пустых бутылок; Деспард вытащил початую бутылку виски и чистый стаканчик.
Он налил мне немного виски, наполнил свой стаканчик до краев и, не садясь, отхлебнул большой глоток.
Его нельзя было назвать пьяным, но чувствовалось, что он под хмельком. В колледже поговаривали, что он пьет в одиночку; но друзей у него не было, жил он замкнуто, и никто не знал о нем ничего определенного. Да про него особенно и не говорили: по-видимому, он был слишком суровым и неинтересным человеком, чтобы возбуждать о себе какие-нибудь толки. Его угрюмая внушительность служила ему надежной защитой от сплетен.
– Мне хотелось спросить вас, довольны ли вы результатами предвыборной борьбы, – сказал я.
– Разумеется, нет, – ответил Деспард. – Будущее колледжа представляется мне необычайно мрачным.
– Еще не поздно… – начал я.
– Поздно, давно поздно, – перебил меня Деспард.
Я заговорил о наших кандидатах, но Деспард-Смит опять прервал меня, и на мгновение мне показалось, что его можно будет переубедить.
– Джего принес себя в жертву нашему сообществу, – сказал он. – Именно так и должны поступать работники колледжа. А Кроуфорд всю жизнь думал только о себе и поэтому, стал выдающимся ученым. Если ректором у нас будет выдающийся ученый, престиж нашего колледжа, безусловно, возрастет. Но никто не понимает, как опасно возводить в ректоры большевика.
Он назвал большевиком Кроуфорда – типичного либерала из академических кругов, но мне было некогда изумляться: подбадриваемый вспыхнувшей надеждой, я принялся торопливо перечислять достоинства Джего, которых не было у Кроуфорда, однако Деспард прервал поток моего красноречия: уставившись на меня воспаленными, красноватыми глазами, он сказал:
– Наши коллеги сами во всем виноваты. Я предупреждал их, но они всегда поступали по-своему. Наш колледж ждет к-катастрофическая будущность. Я предупреждал их, когда они решили избрать в ректоры Ройса. Но им не было дела до моих советов, и они вступили на очень скользкую дорожку. – Деспард сунул палец под жесткий от крахмала воротник сутаны и тут же со щелчком выдернул его. Он сказал прокурорским тоном: – Им следовало возложить это бремя на меня. Но они отговорились тем, что я неизвестен в научных кругах. Вот как они отблагодарили меня за тридцатилетнее жертвенное служение нашему колледжу.
Я успел пробормотать всего несколько слов: он залпом осушил свой стаканчик и, злобно посмотрев на меня, продолжал:
– Моя жизнь сложилась неудачно, Элиот. Счастливой ее никак не назовешь. Никто не оценил моих заслуг перед нашим сообществом. Это постыдная для колледжа история. Если я открою людям, как несправедливо ко мне здесь относились, наш колледж вызовет всеобщее негодование. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, она представляется мне сплошной цепью неудач. И виноваты в этом мои коллеги.
Если бы Деспард-Смит просто жаловался на жизнь, ему можно было бы посочувствовать. Но этот семидесятилетний, в одиночку пьющий старик не жаловался: он обвинял. «Моя жизнь сложилась неудачно», – сказал он, сказал не жалуясь, а именно обвиняя, с твердой уверенностью в том, что он имеет на это право.
– И теперь вы помогаете им выбрать в ректоры Кроуфорда? – спросил я.
– Им следовало возложить это бремя на меня еще десять лет назад, – ответил Деспард. – Тогда колледж был бы сейчас совсем другим.
– А вам не кажется, что взгляды Джего созвучны вашим?
– Джего справился с обязанностями старшего наставника гораздо лучше, чем я предполагал, – сказал Деспард-Смит. – Но у него нет деловой хватки.
– По-моему, это вовсе не значит…
– У Ройса тоже не было деловой хватки, но они его выбрали, – проговорил Деспард.
– Я все же не понимаю, почему вы поддерживаете Кроуфорда.
– Он создал себе имя, а это очень важно для ректора. Меня бы они не избрали, потому что я неизвестен в научных кругах. А Кроуфорд – известен. Тут уж никто не сможет возразить. А если им не понравится, как он руководит колледжем, что ж, в течение ближайших пятнадцати лет им волей-неволей придется его терпеть.
Он валил себе еще виски, но мне на этот раз выпить не предложил.
– Могу сказать вам, Элиот, что мне нравится Джего. Если бы в ректоры выбирали за душевные качества, я без колебаний предпочел бы его Кроуфорду. Но Кроуфорд создал себе имя. А Джего не сумел. Он принес себя в жертву нашему сообществу. Когда человек соглашается занять в колледже какой-нибудь административный пост, он обрекает себя на жертву. Никто не оценит его заслуг перед колледжем. Джего ждет тяжкая расплата за его жертвенное служение нашему сообществу. Ему, как и мне, предстоит узнать, что такое человеческая неблагодарность.
Моя надежда угасла. Зато теперь я понял, почему Деспард с самого начала поддерживал Кроуфорда, «большевика». Ему импонировал успех; он мрачно восхищался удачливыми людьми и очень любил власть. Он с удовольствием стал в свое время казначеем, хотя и считал теперь, что «принес себя в жертву». Но его не избрали ректором, и он до сих пор не мог этого забыть – старая рана кровоточила вот уже десять лет. Не тогда ли – десять лет назад – начал он коротать свои одинокие вечера с бутылкой виски?
По роковому для Джего стечению обстоятельств Деспард видел в нем наследника своих неудач. Ему нравился Джего, он, вероятно, мечтал о дружбе, но не умел сделать первого шага к сближению. И вот обнаружив, что Джего может стать его товарищем по несчастью, решил добиться этого любой ценой – именно потому, что тот ему нравился. Джего должен был принести себя в жертву. Деспард думал о своей «неудачной» жизни, предполагал, что Джего ее повторит, и ощущал в душе садистскую привязанность к собрату по неудачам.
41. Разговор о звездах
Теперь нам оставалось только ждать. Мы с Роем считали, что больше ничего сделать не можем, но нас измучила то затухающая, то вспыхивающая надежда. В принципе – если мы правильно предугадали намерения Гея – потенциальным большинством голосов по-прежнему располагал Джего. Однако все могло измениться в любую минуту: выборы приближались, а мы до сих пор ничего не знали наверняка. Нам очень хотелось выяснить, что теперь собирается предпринять Кристл, – ведь его затея с оппозиционной группой провалилась, и он должен был проголосовать за одного из основных кандидатов. Он молчал, и мы считали, что это хороший признак: дурные вести не лежат на месте. Восемнадцатого декабря, за сорок восемь часов до выборов, ничего нового не произошло. Я не виделся ни с Брауном, ни с Кристлом, но зато получил Браунову записку – его слова во время разговора со мной и Роем звучали гораздо резче, чем витиевато-вежливый письменный отказ баллотироваться в ректоры, посланный всем членам Совета. «Безмерно гордясь тем, что меня упомянули как возможного кандидата на должность ректора, – писал Браун, – и выражая искреннюю благодарность друзьям, я тем не менее должен уведомить всех коллег о моем твердом решении отказаться от соискания этой почетной должности».
Никаких других известий я в этот день не получил и надеялся, что предвыборная кампания завершена.
Вечером ко мне зашел Джего.
– Ну, как, не слышали чего-нибудь новенького? – бодро спросил он, однако в его обведенных темными кругами глазах таилась мучительная тревога.
– Решительно ничего, – ответил я.
– Обязательно скажите, если что-нибудь услышите, – уже не скрывая тревожной подозрительности, попросил он. – Сразу же. Я и так-то весь извелся, а тут еще приходится гадать, откровенны с тобой твои друзья или нет.
– Скажу непременно, – пообещал я.
– Вам, наверно, смертельно надоели мои расспросы. – Он улыбнулся. – Но у вас в самом деле нет никаких новостей? Я сегодня всю ночь думал о загадочном поведении некоторых наших коллег…
– Вас одолевает бессонница?
– Это-то ерунда, – сказал Джего. – Через два дня я прекрасно отосплюсь… Так, значит, старина Браун не захотел быть пешкой в чужой игре? Что ж, мы вернулись к тому, с чего начинали. Им действительно придется выбрать меня или моего соперника… И вы, стало быть, ни о каких переменах не слышали?
Он вел себя очень неровно. Ожидание истомило его, он нередко срывался на подозрительный, даже враждебный тон, иногда рассуждал о выборах с независимым скептицизмом, однако нервное возбуждение не покидало его ни на минуту. И вместе с тем он был уверен в победе. Своей жене он наверняка объявил, что победит, подумал я. Некоторые люди страхуются от разочарований, постоянно повторяя, что ожидают самого худшего. Джего, в своей горделивой опрометчивости, не умел прибегать к таким уловкам. Его оптимизм был наивным и беззащитным. С годами человек выучивается более или менее равнодушно относиться к неудачам и ударам судьбы, но Джего остался таким же легкоранимым, как в юности.
Мне хотелось предостеречь его, однако он не желал слушать предостережений – вернее, слушать-то он их слушал и даже благодарил меня, а огонек возбужденной уверенности по-прежнему мерцал в его глазах. Он плохо представлял себе, о чем шла речь на совещании у Кристла, а про разногласия между Кристлом и Брауном знал и того меньше. Он попросту не хотел этого знать. Его окрыляла надежда, и я подозревал, что еще одна бессонная ночь только укрепит ее…
Перед обедом мы зашли с ним в профессорскую. Там уже сидело четыре человека – Деспард-Смит, Гетлиф, Найтингейл и Калверт, – но беседа у них явно не клеилась, и они напряженно молчали. Мы сразу ощутили эту неловкую напряженность. Можно было подумать, что они разговаривали о Джего и замолчали, когда он вошел в профессорскую, но я сразу понял, что дело не в этом: их сковала напряженная усталость, неизменно охватывающая людей, если им приходится пассивно дожидаться результатов длительной и упорной борьбы. Приугасла даже неистребимо насмешливая веселость Роя. Обедали мы тоже молча; во главе стола восседал Деспард-Смит, по-всегдашнему напыщенно важный и ничуть не похожий на вчерашнего озлобленного, возбужденного алкоголем старика.
Вскоре в трапезную ворвался сияющий от счастья Льюк. Он сел рядом с Калвертом, мгновенно выхлебал тарелку супа, а потом поднял голову и одарил нас всех доброжелательнейшей улыбкой. Он именно сиял от счастья – каждая черта его милого лица искрилась безудержной радостью, которая растопила лед нашего угрюмого молчания.
– Ну, поделитесь с нами вашими успехами, – помимо воли широко улыбнувшись ему в ответ, сказал я.
– Я добил эту штуковину! Представьте себе – добил!
– И что же вам удалось выяснить? – спросил его Гетлиф.
– Да в том-то и дело, что я добил ее окончательно, Гетлиф! Полностью! Я теперь знаю, как обстоят дела с медленными нейтронами! Точно знаю!
– Вы уверены? – усомнился Гетлиф.
– Разумеется, уверен! – воскликнул Льюк. – Неужели вы думаете, что я стал бы трепаться? Уверен на все сто!
Фрэнсис принялся дотошно расспрашивать его, и несколько минут мы слышали малопонятные нам слова – «нейтроны», «столкновение», «торможение», «альфа-частицы»… Гетлиф хмурился, не в силах подавить зависть и надеясь, как мне казалось, обнаружить ошибку в рассуждениях Льюка. Но Льюк, не замечая его враждебной настороженности – сегодня он всех считал друзьями, – отвечал ему с пулеметной быстротой и обстоятельностью человека, который прекрасно понимает суть дела; он увлекся, непрерывно сыпал проклятьями, однако даже мне, профану, было ясно, что его ничуть не затрудняют вопросы Гетлифа. Через несколько минут сомнения Гетлифа рассеялись: он перестал хмуриться, а потом восхищенно улыбнулся. Его собственный недюжинный талант позволял ему радоваться успехам коллег; Льюк, по всей вероятности, сделал крупное открытие, и Гетлиф бескорыстно восхищался им, не скрывая улыбки зрелого мастера, который слушает юного, но блестящего соперника.
– Прекрасная работа! – воскликнул он. – Просто замечательная! Давненько я не слышал о такой превосходной работе!
– Да, ничего себе работенка, – даже не пытаясь казаться скромным, гордо проговорил раскрасневшийся от радости Льюк.
– Вам, я вижу, удалось сделать замечательное открытие, – сказал Льюку Джего; он слушал разговор физиков так внимательно, как будто надеялся утопить свою тревогу в уверенной радости молодого исследователя. – Я, конечно, не понял вашей тарабарщины, но Гетлиф слов на ветер не бросает, это известно всем.
– Да, великолепная работа, – авторитетно подтвердил Гетлиф.
– Вы не представляете себе, как я рад за вас, Льюк! – воскликнул Джего.
Я случайно посмотрел на Найтингейла – он сидел, пристально глядя куда-то в сторону.
– Когда же вам стало ясно, что вы сделали это открытие? – спросил Льюка Джего.
– Да понимаете, мне показалось, что я добил эту штуковину еще на прошлой неделе, – ответил Льюк, употребляя совсем иные выражения, чем Джего. – Но мне мерещилось, что я ее добил, уже раз двадцать, а потом оказывалось, что ничего у меня не вышло. Правда, в этот раз я был почти уверен. Ну а чтобы увериться окончательно, я торчал в этой треклятой лаборатории буквально день и ночь. Вот почему я не мог остаться в понедельник на собрании, – приветливо объяснил он Деспарду; тот мрачно кивнул головой.
– Это когда мы «держали совет», – объяснил Деспарду Калверт.
– Ну и вот, значит, мне уже и тогда было почти ясно, что все в ажуре. Ясно-то оно ясно, да у меня столько раз за последние месяцы вся работа шла коту под хвост, что мне не верилось. Я с тех пор почти что не спал. Я решил не отступаться, пока не пойму окончательно – вышло у меня или нет. До чего же это здорово – когда у тебя начинает получаться интересный опыт! – звонко воскликнул он. – Ну… вроде как с женщиной: ты инстинктивно чувствуешь, что и как надо делать. Тут уж не ошибешься. Тут уж точно знаешь: больше эта старая шлюха-природа тебя не облапошит!..
Льюк откинулся на спинку кресла – усталый, взволнованный, радостно раскрасневшийся. Гетлиф понимающе улыбнулся ему, Джего громко расхохотался, а Рой подмигнул мне – с Льюка слетела вся его осмотрительная сдержанность – и заговорил с Деспардом, чтобы отвлечь его внимание.
В профессорской Джего заказал бутылку вина: «Чтобы отметить знаменательное открытие самого молодого члена Совета», – сказал он. Услышав, что Джего заказывает вино, Найтингейл поспешно ушел, и ему не пришлось чествовать «самого молодого члена Совета». Деспард-Смит чопорно поздравил Льюка, а потом выпил портвейна – «за успех нашей молодежи». Льюк закурил толстенную сигару, и было не трудно заметить, что он немного опьянел: его выдавала блаженная, не слишком осмысленная улыбка. Джего отечески улыбнулся ему, тоже взял сигару – хотя я ни разу не видел, чтобы он курил, – и, попыхивая сигарами, они принялись толковать о звездах: молоденький румяный крепыш, который, быть может, переживал самый счастливый день в своей жизни, и пожилой, изнервничавшийся, исстрадавшийся мужчина. До выборов оставалось тридцать шесть часов.
Мы с Гетлифом оставили их вдвоем и вышли во дворик. Мне захотелось пригласить его к себе, но я вспомнил, как он сказал однажды, что ему надо спешить домой, и промолчал.
– Он сделал замечательную работу, – сказал Гетлиф.
– Я уж понял.
– Тебе трудно понять, насколько это значительная работа, – возразил Гетлиф. И после паузы добавил: – Она значительней, чем все, что я до сих пор сделал. Гораздо значительней.
Его признание было обезоруживающе откровенным и по-донкихотски гордым; пытаясь замаскировать свое смущение иронией, я сказал:
– Нам с тобой тоже не помешала бы удача. А то эти мальчишки захватывают все призы. Я вот сравниваю себя с Роем Калвертом и вижу, что он опередил меня в работе лет на двадцать.
Мы уже подошли к главным воротам; остановившись под центральным фонарем, Гетлиф рассеянно улыбнулся мне и проговорил:
– Ладно, если уж быть откровенным, так до конца.
– Это ты о чем?
– Мне очень поправился сегодня Джего. Я его, по-видимому, недооценивал.
– Да ведь еще не поздно, – сразу же отозвался я. – Если ты за него проголосуешь…
Но Гетлиф покачал головой.
– Нет, Льюис, я проголосую за Кроуфорда, – сказал он. – И уверен, что буду прав.







