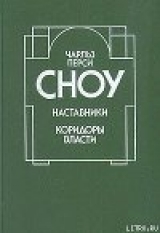
Текст книги "Коридоры власти"
Автор книги: Чарльз Перси Сноу
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Когда она наконец распрощалась и мы вышли, наступил уже вечер, было свежо и звезды сияли необычно ярко для Лондона. Задернутые шторами окна нижних этажей тускло светились. Красные, желтые и синие лампочки обрамляли вывеску бара на углу. Улица была будничная, тихая и мирная, с низенькими приветливыми домиками. Кэро настойчиво приглашала меня заехать к ним на Лорд-Норт-стрит выпить виски. Я знал, что Роджер сегодня выступает с речью где-то в провинции. Знал, что она не так уж дорожит моим обществом. Значит, ей что-то от меня нужно.
Мы быстро ехали по затихшим улицам. Кэро сама вела машину.
– Убедились? – спросила она.
Она хотела сказать: «Убедились в моей правоте?»
Мне стало неприятно. Я заспорил: эта горстка людей ровным счетом ничего не доказывает; вот если бы это были рабочие из центральных областей или из северной части страны… Но я и сам не чувствовал уверенности: политические деятели, возвращаясь из поездок по своим избирательным округам, нередко привозили те же сведения.
– Надеюсь, они по крайней мере довольны результатами, – сказал я. – Надеюсь, и вы довольны.
– Надо было довести дело до конца, – сказала Кэро.
– Все вы обеими руками цепляетесь за прошлое, – возразил я. – Ну скажите на милость, к чему это нас приведет?
– Надо было довести дело до конца.
Раздраженные, недовольные друг другом, мы уселись в гостиной на Лорд-Норт-стрит. Целый день Кэро разговаривала с посетителями, я устал даже в роли слушателя, однако она и теперь не угомонилась. Она стала рассказывать мне о своих сыновьях – оба учились в закрытой подготовительной школе. «Успехами ни один не блещет, – заметила она с каким-то даже удовлетворением. – У нас в семье особых умников никогда не было».
Мне представилось, что, когда я уйду, она будет еще пить в одиночество. Сегодня она выглядела старше своих лет – кожа на скулах обветрилась и покраснела. И все-таки она оставалась миловидной, и в ее походке была если не грация, то упругость: так уверенно двигаются люди сильные, привыкшие к спорту.
Она снова села на диван, поджала ноги и посмотрела на меня в упор.
– Я хочу поговорить с вами, – сказала она.
– О чем?
– Вы же и так догадались. – Она смотрела на меня смело, совсем как ее брат тогда в клубе. – Вы знаете, что у Роджера был свой взгляд на всю эту историю (она хотела сказать – на Суэц). Знаете ведь. Я же знаю, что вы знаете. И наши с ним взгляды прямо противоположны. Ну да ладно, все это теперь полетело к чертям. Не все ли равно – кто что думал. Нужно поскорее все это забыть и начинать сначала.
И вдруг она спросила:
– Вы ведь теперь часто видитесь с Роджером?
Я кивнул.
– Вы, наверно, понимаете, что повлиять на него невозможно. – Она громко расхохоталась. – Я вовсе не хочу сказать, что он чудовище. Дома он ни во что не вмешивается, и он хороший отец. Но что касается остального, лучше его не трогать. Что он задумал, как он собирается осуществлять задуманное – знает только он сам и никого слушаться не станет.
Она сказала это даже с каким-то смирением. Сплетники в Бассете и в других модных салонах уверяли, будто она вертит мужем, как хочет. Сплетня эта родилась отчасти потому, что она была так хороша собой, а отчасти потому, что Роджер неизменно относился к ней с рыцарской предупредительностью – взять хотя бы тот случай с Сэммикинсом. В их доме голова она! На этот счет у сплетников из богатого круга, к которому принадлежала Кэро, разногласий не было.
Сейчас я узнал от Кэро, кто на самом деле голова в их доме. Она сказала это таким тоном, словно сама удивлялась своему смирению. И еще в голосе ее прозвучала нотка торжества: она всегда утверждала, что и я не имею решающего влияния на Роджера, и ей было приятно лишний раз напомнить мне об этом. А все оттого, что Кэро, ничуть не уступавшая своему брату в бесшабашности и азартности, баловница судьбы, по мнению всех своих подруг, эта самая Кэро ревновала мужа к его друзьям.
– Он никому не позволит собой помыкать, – сказала она, – не обольщайтесь на этот счет.
– Я ведь, как вы знаете, работаю с ним не первый день.
– Будто я не знаю, над чем вы с ним сейчас работаете. За кого вы меня принимаете? – воскликнула она. – Вот поэтому я и хотела с вами поговорить. К чему все это может привести?
– Мне кажется, ему об этом лучше судить, – ответил я.
– Ему я этого не говорила. – Глаза ее зло блеснули. – Потому что, когда он что-то решит, лучше ничего не говорить, даже в мыслях не надо допускать возможности провала… если хочешь ему помочь… Но боюсь, ничего у него не выйдет.
– Это, конечно, риск, – возразил я, – но ведь Роджер знает, на что идет.
– Знает ли?
– Что вы хотите сказать? Разве вы не разделяете его стремлений?
– Приходится.
– Тогда что же…
– Мне трудно с вами спорить. Для этого я слишком мало знаю, – ответила Кэро. – Но у меня есть чутье, и оно мне подсказывает, что у него слишком мало шансов на успех. И я хочу вас кое о чем попросить. – Говорила она не слишком дружелюбно, но горячо.
– О чем же?
– В конце концов он все равно сделает по-своему. Я же честно предупредила. Но вы и ваши друзья можете очень все для него осложнить. Не надо! Вот о чем я вас прошу. Дайте ему возможность лавировать. Может быть, ему придется без шума выйти из игры. Это не беда, лишь бы только он спохватился вовремя. Но если он увязнет в этом деле по уши, он себя погубит. Я прошу вас и ваших друзей: не мешайте ему.
Она была ничуть не интеллигентнее Сэммикинса. Помимо модных мемуаров, почти ничего не читала. Но в тонкостях высокой политики она разбиралась лучше меня, даже лучше Роджера. Для нее это была игра, которую можно выиграть, а можно и проиграть. Если Роджеру придется отказаться от избранного им политического курса, это неважно. Важно одно – продвинется ли он вверх по служебной лестнице.
До этого я слушал ее с возрастающей неприязнью. Но сейчас ее горячая преданность неожиданно тронула меня.
– Ход кампании целиком зависит от Роджера, – сказал я. – Он слишком хороший политик, чтобы вовремя не почуять опасность.
– Вы должны облегчить ему отступление.
– По-моему, вы напрасно волнуетесь…
– Как же мне не волноваться? Что будет с ним, если это сорвется?
– Мне кажется, его нелегко сломить, – теперь я говорил очень мягко. – Он выстоит. Уверен, что выстоит и возьмет свое.
– На своем веку я повидала слишком много несостоявшихся премьеров, которые когда-то, где-то, что-то напутали, сделали какой-то неверный ход. – Кэро тоже говорила не так резко, как раньте. – На них жалко смотреть. Наверно, это ужасно, когда блестящее будущее уплывает из рук. Не знаю, как перенес бы это Роджер.
– Если уж придется, так перенесет, конечно, – сказал я.
– Вторые роли не по нем. Он бы вконец извелся. Разве вы не видите? Он создан, чтобы главенствовать, и меньшим не удовлетворится.
Она смотрела на меня широко раскрытыми невинными глазами, и я чувствовал: для нее в целом мире существует один только Роджер. В эту минуту мы искренне понимали друг друга, нас объединяло общее волнение – и вдруг словно лопнула какая-то пружина. Кэро закинула голову и громко расхохоталась.
– Только представьте, – воскликнула она, – Роджер отказывается от неравной борьбы и довольствуется мостом губернатора Новой Зеландии.
Она повеселела и палила себе еще виски.
Картина, которая в представлении Кэро должна была символизировать полный крах, показалась мне довольно оригинальной.
Скоро я стал прощаться. Она ни за что не хотела меня отпускать. Уговаривала, чтобы я посидел еще хоть четверть часа. Несмотря на то что наши отношения немного наладились, милее я ей не стал. Просто ей было скучно одной без мужа и детей. Как Диана и другие богатые и хорошенькие женщины, она плохо переносила скуку, и расплачиваться за это приходилось тому, кто первый подворачивался под руку. Я наотрез отказался остаться, и она сначала надулась, но потом ей пришло в голову, что можно приятно скоротать вечер за картами. Выходя из дома, я слышал, как она звонит кому-то, приглашая на покер.
17. Вспышка подозрения
Как я сказал Кэро, Роджер был слишком хорошим политиком, чтобы вовремя не почуять опасность. В сущности, чутье на опасность – самое ценное качество для человека, который прокладывает себе путь к власти: кроме тех случаев, разумеется, когда оно полностью парализует его деятельность и, следовательно, становится качеством самым вредным. Зимой, когда никто еще не пришел в себя после Суэца, Роджер уже присматривался: кто окажется через год его противником, критиком, а то и ярым врагом. К тому времени он раскроет свои карты. Из тактических соображений Роджеру следовало самому приоткрыть эти карты столпам промышленности вроде лорда Лафкина. Поэтому, набравшись терпения, он обедал в клубе то с одним, то с другим и временами впадал в хорошо рассчитанную откровенность.
В Уайтхолле и в клубах я улавливал кое-какие отзвуки этих бесед. Как-то раз я даже услышал от лорда Лафкина такой комплимент Роджеру: «Что же, для политика он не так уж глуп». Столь лестная оценка – как по форме, так и по духу напомнившая мне новейшее течение в критике – была высшей похвалой, какой на моей памяти удостоил кого-либо лорд Лафкин.
В конце декабря Роджер предложил и мне включиться в эту предварительную кампанию. Ученые запаздывали со своим докладом, но мы знали, что он будет представлен вскоре после Нового года; знали мы и его содержание. Лоуренс Эстил и Фрэнсис Гетлиф расходятся в частностях, но в целом все ученые, кроме Бродзинского, придерживаются единого мнения. Бродзинский по-прежнему свято верит в свою правоту и в то, что в конце концов его точка зрения восторжествует. Ясно, что он доложит свое особое мнение.
Моя задача, по словам Роджера, заключалась в том, чтобы поманить его радужными перспективами, успокоить, но дать понять, что в настоящее время он не может рассчитывать на существенную поддержку правительства.
Я встрепенулся: у меня тоже было кое-какое чутье на опасность. Я до сих пор упрекал себя, что не открылся Дугласу Осбалдистону с самого начала, когда он вызывал меня на откровенность. И с Бродзинским надо поговорить начистоту. Но сделать это должен сам Роджер.
Роджер был переутомлен и задерган. Когда я сказал, что вряд ли сумею добиться толку, он возразил, что я ведь всю жизнь занимаюсь такого рода делами. Когда я сказал, что Бродзинский – человек опасный, Роджер пожал плечами. Опасен только тот, за кем стоят какие-то силы, ответил он. Вот он, Роджер, берет на себя авиационную промышленность и военных. А что такое Бродзинский? Одиночка, никого и ничего не представляющий. «Вы что, испугались его буйного нрава? Впереди нас ждет кое-что и похуже. Что же, вы собираетесь все взвалить на меня?»
Никогда мы еще не были так близки к ссоре. Вернувшись к себе, я написал ему, что, по-моему, это ошибка и что я отказываюсь говорить с Бродзинским. Но тут мной овладело какое-то суеверное чувство; я постоял у окна, потом вернулся к столу и изорвал письмо.
Поговорить с Бродзинским наедине мне удалось после очередного заседания ученых, которое состоялось за несколько дней до рождества. Уолтер Льюк ушел вперед вместе с Фрэнсисом Гетлифом и Эстилом; Пирсон, как всегда спокойно и неторопливо, собирался к вечернему самолету на Вашингтон, куда он исправно летал каждые две недели. Воспользовавшись этим, я пригласил Бродзинского в «Атеней», и мы пошли вдвоем по берегу пруде сквозь промозглую зимнюю тьму. Над черной водой клубился туман. Поблизости что-то трепыхнулось, булькнуло – должно быть, нырнула за добычей какая-то птица.
– Ну как, по-вашему, идут дела? – спросил я.
– Какие дела? – спросил Бродзинский своим низким грудным голосом, как всегда величая меня полным титулом.
– Дела в комиссии.
– Разрешите мне задать вам один вопрос: почему те трое (он имел в виду Льюка, Гетлифа и Эстила) ушли вместе?
Парк был безлюден, но он понизил голос чуть не до шепота. Его лицо было обращено ко мне, большие глаза светились недоверием.
– Они ушли, – ответил он сам себе, – чтобы на свободе строить свои планы без меня.
Вполне вероятно, так оно и было. Но если бы и не было, ему бы все равно это померещилось.
– Вы думаете, я доволен тем, что творится в нашей комиссии?.. – Он упорно величал меня полным титулом.
Дальше мы шли молча. Такое начало не сулило ничего хорошего. В клубе я повел его наверх, в большую гостиную. Там на столике лежала книга кандидатов в члены. Я подумал, что при виде ее он, пожалуй, смягчится. Тут было и его имя; все мы: Фрэнсис, Льюк, Эстил, Осбалдистон, Гектор Роуз и я – предложили его кандидатуру. Ни для кого не было секретом, что он жаждет стать членом «Атенея», что это его заветная мечта. Мы со своей стороны делали, что могли. И не только для того, чтобы задобрить его и утихомирить, – тут было, мне кажется, и другое побуждение. Несмотря на тяжелый характер, несмотря на то что он был явный параноик, в нем чувствовалось что-то жалкое. (А может быть, как раз потому так и получилось, что он был параноик.) Перед человеком, душевно не уравновешенным, пасуют даже сильные, видавшие виды люди. Впервые я ощутил это еще в молодости, познакомившись с нравом первого моего доброжелателя Джорджа Пэссепта. Молодежь привлекали к нему не только и не столько его размах, его грандиозные фантастические проекты, даже не самобытная и страстная натура. Дело в том, что, когда на него находили припадки подозрительности, чувствуя себя несчастным и гонимым, он становился совершенно беззащитен. Он взывал о сострадании и получал его такой мерой, о какой никто из нас, простых смертных, не может и мечтать. Пусть мы лучше держимся, пусть мы несравненно больше нуждаемся в помощи и заслуживаем сочувствия. И все же рядом с такими джорджами пэссентами мы теряемся и никогда не пробудим в окружающих истинную жалость. Никогда не тронем их так глубоко, как эти, по всей видимости, наивные, непорочные и беззащитные люди.
Так было и с Бродзинским. Я сказал Роджеру, что Бродзинский человек опасный; это было обычное деловое соображение, о котором, осторожности ради, не следовало забывать. Однако, сидя рядом с ним в дальнем конце клубной гостиной, замечая, как притягивает его взгляд книга кандидатов, я забыл об осторожности; я чувствовал, что острая подозрительность снова овладевает им – теперь его мучил страх, что это собрание избранных, к которому он тянется всеми силами души, вошло в тайный сговор, чтобы оттолкнуть его. И мне, как всем, прежде всего хотелось его подбодрить. Нужно как-то дать ему понять, что никто против него ничего не замышляет, думал я; нужно как-то ему помочь. Хорошо бы старшины клуба сделали исключение и приняли его в члены вне очереди.
Когда я предложил ему выпить, он попросил рюмку хереса и стал медленно потягивать его, с сомнением поглядывая, как я пью виски. Поразительно, как в этом крупном, мужественном человеке проглядывала подчас старая дева. А может, он подозревал, что все англосаксы прирожденные алкоголики?
– Министр весьма признателен вам за вашу работу в комиссии, – сказал я. – Да вы, наверно, и сами это знаете.
– Прекрасный он человек, – с чувством сказал Бродзинский.
– Не сомневаюсь, – продолжал я, – что в недалеком будущем ваши заслуги будут отмечены правительством.
Я знал, что для него сумели выхлопотать орден Британской Империи, который он и должен был получить в июне. Мы уговорились с Роджером, что я намекну ему на это.
Бродзинский уставился на меня лучистыми глазами. В политике Уайтхолла он подчас разбирался лучше многих англичан, но процедура представления к орденам оставалась для него загадкой. Он никак не мог понять, какое отношение к этому-имеют Роджер, или Дуглас Осбалдистон, или кто бы то ни было еще. Тем не менее ответ он дал типично английский:
– Отметят меня или нет – не важно. Важно одно – чтобы мы нашли правильное решение.
– Министр весьма признателен вам за ценные советы. Без сомнения, он сам это подтвердит.
Бродзинский откинулся в кожаном кресле так, что его могучая грудь выпятилась, как у певца. По лицу его, широкому и скуластому, видно было, что он напряженно думает. Прядь пепельных волос упала на лоб. Я догадывался, что его все еще тревожит мысль о планах, которые строят у него за спиной. И все же он был доволен. О Роджере он говорил как о надежном и влиятельном друге. Со мной держался так, словно и я был ему друг – правда, поплоше, но тоже влиятельный.
– Скоро министру нужно будет отстаивать свою точку зрения, – сказал он.
Действовать приходилось с оглядкой.
– Не надо забывать, – сказал я, – что ни один министр, действуя в одиночку, много не сделает.
– Боюсь, что я вас не понимаю.
– Я хочу сказать, – ответил я, – что вы не должны ждать от него чудес. Он человек незаурядный, вы, конечно, и сами давно это поняли, и он несравненно смелее большинства министров. И все-таки он мало что может сделать, если его не поддержат коллеги. Добиться чего-то он сможет лишь при условии, что его мнение будут разделять многие и многие люди, как в верхах, так и внизу.
Глаза у него стали совершенно круглые, он посмотрел на меня в упор.
– И все-таки я вас не понимаю… – он снова обратился ко мне по всей форме, – по крайней мере надеюсь, что не понимаю.
– Я пытаюсь объяснить вам, что министр весьма ограничен в своих действиях, куда больше ограничен, чем это принято думать.
– Допускаю, что вы правы. – Он сказал это с подчеркнутой рассудительностью и вдруг снова воспрянул духом. – Но давайте обратимся к фактам. По некоторым вопросам – мы как раз сегодня пытались их обсуждать – у нас нет единого мнения. Нет и не может быть. Разногласия здесь неизбежны, поскольку одни ученые берут сторону Гетлифа, другие – мою. Так ведь?
– Ах вот как, вы все еще не сошлись во взглядах? – Я попробовал пронять его иронией, но он даже не улыбнулся и продолжал таким тоном, как будто мы с ним были полностью согласны:
– Значит, при таких обстоятельствах министр может использовать свое влияние, став на ту или другую сторону, так ведь?
– При известных обстоятельствах – да, – ответил я.
– Ну, а при данных обстоятельствах? – Он вложил в эти слова весь свой темперамент, словно желая подчинить меня своей воле. И, однако, выражение лица у него было такое, как будто все очень просто, никаких трудностей нет и в помине, его друзья (я в том числе) готовы во всем пойти ему навстречу и никаких разочарований в нашем мире просто не может быть.
Я не сразу нашелся, что ответить. Наконец я сказал:
– По-моему, вам не следует на это рассчитывать.
– Почему?
– Я уже пытался вам объяснить: министр обязан прислушиваться к мнению своих советников. Вы дали ему совет. Но вы не можете не знать, что подавляющее большинство решительно высказывается против вас. Министр не может заявить, что мнения членов комиссии разделились приблизительно поровну, и затем просто решить, как считает нужным.
– Кажется, я вас понял. Ясно понял. – Упершись могучими руками в колени, Бродзинский пристально смотрел на меня. Выражение лица его не изменилось, но глаза гневно блеснули. Переход был так резок, словно в мозгу у него повернули выключатель, и все его подозрения вспыхнули с новой силой. Мгновение назад весь он был ясность и надежда. Теперь передо мной был враг.
– Что же вы поняли?
– Да ведь все проще простого. Министру не дают принимать те решения, которые он считает правильными. Ученых в комиссию выбирал не он, их подбирали другие. Да, конечно, те ученые советуют одно, я – другое. Тогда эти лица берут министра в оборот. Они во все вмешиваются, они не желают, чтобы этот вопрос обсуждался. Да, конечно! Теперь мне ясно, что я должен понять.
– Не надо искать во всем злой умысел.
– Я не ищу. Но я не могу закрывать на это глаза.
– Напрасно вы намекаете, что с вами поступили непорядочно, – сказал я уже более резко. – Я не хочу это слушать. Неужели вы действительно думаете, что мои коллеги ведут с вами какую-то бесчестную игру?
– Я не о коллегах ваших говорю.
– Значит, обо мне?
– Что ж, если вы так считаете, то, как говорится, воля ваша.
Итак, главным его врагом и гонителем оказался я. Кому приятно, когда его ненавидят? Почти все мы боимся ненависти и содрогаемся, столкнувшись с нею лицом к лицу. И все же пусть лучше Бродзинский видит врага во мне, чем в Роджере.
Мне пришлось делать вид, будто меня ничуть не задевают оскорбления и характер у меня ангельский. Мне хотелось отвести душу, и притом в куда более сильных выражениях, чем это делал Бродзинский. Я просто не выношу людей этого склада; даже если бы он не держался так вызывающе, меня все равно подмывало бы наговорить ему резкостей. Но я был при исполнении служебных обязанностей и уж никак не мог позволить себе роскошь быть самим собой. Вместо этого я сказал тоном пожилого общественного деятеля:
– Повторяю, министр весьма признателен вам за все, что вы сделали. Считаю своим долгом передать, что он о вас самого высокого мнения.
– Надеюсь, что вы не ошибаетесь.
– Он высказал это достаточно ясно…
– Надеюсь, что вы не ошибаетесь. – Лицо Бродзинского вдруг просветлело, словно он увидел кого-то у меня за спиной. – Тогда впредь я буду обращаться непосредственно к нему.
– Это не всегда возможно, он ведь очень занят…
– Пусть уж министр это сам решит, – сказал Бродзинский.
С церемонной вежливостью он осведомился, как я собираюсь провести рождество. С достоинством поблагодарил меня за приятно проведенный вечер. Когда я проводил его до лестницы, он стиснул мне руку своей ручищей. Я вернулся в гостиную и стал спиной к камину, погруженный в свои мысли, не замечая знакомых. Я был очень зол на Роджера. Ему следовало самому открыть Бродзинскому глаза.
Какой-то веселый старичок похлопал меня по плечу.
– Долго же вы там шушукались с этим ученым малым, – он указал пальцем в дальний угол гостиной.
– Разве? – сказал я.
– Дела государственной важности?
– Вот именно.
Интересно, мог я справиться со своей миссией лучше? Ясно одно: справиться хуже было невозможно. Интересно, что теперь предпримет Бродзинский?
Он одиночка, никакие силы за ним не стоят, и все-таки я дал положить себя на обе лопатки. Что за дикая нелепость, думал я, стоя у камина в гостиной «Атенея».
Полчаса спустя в собственной гостиной происшедшее показалось мне еще нелепее. Дома я застал Фрэнсиса Гетлифа, он заехал к нам пообедать и скоротать время до вечернего поезда в Кембридж. Он разговаривал с Маргарет – она предпочитала его всем моим старым друзьям и была с ним так мила, что можно было подумать, будто при других обстоятельствах он мог стать ее избранником. На самом деле ничего похожего не было, и Фрэнсис прекрасно это знал. Просто он нравился ей – нравился и потому, что она чувствовала его ответное расположение, и потому, что никогда не забывала его безупречного поведения в прошлом. Как и она, Гетлиф умудрялся жить не кривя душой. Они всегда говорили друг с другом попросту, без околичностей и недомолвок.
Залитая светом комната, на стенах картины, играющие яркими красками: в ранней молодости я и мечтать не мог о таком доме. Я рассказал между прочим, что у меня произошел неприятный разговор с Бродзинским. Маргарет улыбнулась, ей показалось забавно, что это случилось в «Атенее». Фрэнсис возмутился, ему не терпелось представить доклад Роджеру, а этот Бродзинский – непонятно, чего с ним так носятся? Признаться, сейчас, сидя у себя дома за рюмкой вина перед обедом, я тоже этого не понимал.
Фрэнсис был озабочен совсем другим: вскоре после моего прихода появились молодой человек и девушка, оба радостные и оживленные. Молодой человек был Артур Плимптон, который тотчас же взял на себя роль виночерпия. Он заставил Маргарет сесть поудобнее, схватил уставленный бутылками поднос и пустился в обход – наполнял наши стаканы, величал нас с Фрэнсисом «сэрами» и вообще держался со свойственной ему смесью почтительности и нахальства. Его спутница была Пенелопа, младшая дочь Фрэнсиса.
Ей было девятнадцать, но выглядела она старше. Она была выше своего отца. Пышная, статная, цветущая, она совсем не была похожа ни на мать, ни на отца. Непонятно, от кого она унаследовала эту своеобразную красоту. Если бы я не знал, что ее мать еврейка, мне никогда бы это и в голову не пришло.
Артур сумел добиться своего: выманить у Маргарет приглашение на недельку оказалось совсем не трудно. Трудней было Пенелопе принять это приглашение. Фрэнсис, который обычно радовался, когда его дети влюблялись и женились или выходили замуж, от этого романа был, по-видимому, не в восторге. Уже после того, как Артур стал бывать в доме, Фрэнсису рассказали, что он несметно богат. Фрэнсиса это совсем не обрадовало – вернее, если бы они поженились, он был бы рад, но никому, даже ближайшим друзьям, не хотел этого показывать. Он не желал, чтобы кто-то подумал, будто он поощряет дочь выйти замуж по расчету, и поэтому подобные приглашения были ему не по душе. С годами его щепетильность росла. Английская трудовая интеллигенция вообще горда, а Фрэнсис был горд еще и от природы.
Меня, знавшего Фрэнсиса с юности, это забавляло. В ту пору, еще не успев стать рабом условностей, он женился по любви, но при этом на богатой наследнице. Презрев всякие запреты, он, христианин, увлек еврейку. Я знал его, когда он еще не был таким почтенным. Те, кто познакомился с ним теперь, когда ему шел шестой десяток, смотрели на него, как мы с ним в юности смотрели на тогдашних корифеев: для новых знакомых он был сэр Фрэнсис Гетлиф, высокопринципиальный, исполненный достоинства и серьезности, немножко церемонный и – никуда не денешься – немного самодовольный. В моих глазах он таким не был. Даже когда он бывал сух и чопорен, я неизменно слышал – как слышим все мы, встречаясь с друзьями юности, – отзвуки былых времен, «отзвук звонов полуночных» на пустынных, безлюдных улицах, по которым мы когда-то бродили вместе.
Это не мешало нам с Маргарет подтрунивать над ним, над его смешной церемонностью и принимать у себя Артура. Я любил Пенелопу, она, кстати сказать, была моя крестница, но Артур был куда занятнее.
В тот вечер он старался убить сразу двух зайцев. Первая его задача была не упустить ни слова из нашего разговора. Он был изумлен: оказалось, сэр Фрэнсис, столь именитый ученый, столь строгий моралист в семье, рассуждал о проблемах мировых как самый настоящий (по американским понятиям) радикал. Артур слушал и ушам не верил. Эти разговоры и возмущали его и притягивали, как запретный плод. Конечно, думал я, никакие наши разговоры ни в коей мере не могут на него повлиять. Но тут же с мрачным удовлетворением решил, что все равно ему невредно послушать, когда о коммунистах говорят как о самых обыкновенных людях.
Вторая задача Артура была не столь интеллектуальна: ему хотелось побыть с Пенелопой наедине. Под конец обеда Фрэнсис стал поглядывать на часы: близилось время ехать на вокзал. Стоило Артуру подождать полчаса, и они с Пенелопой могли бы ускользнуть, ничего никому не объясняя. Но Артур был не из трусливых.
– Сэр Фрэнсис, – сказал он, – нам тоже пора собираться. Спасибо за приятный вечер.
– Куда вы? – спросила Маргарет, так как Фрэнсис не ответил.
– Мы с Пэнни хотим где-нибудь потанцевать.
Оба выжидающе смотрели на Фрэнсиса. Пенелопа, по натуре неразговорчивая, чему-то улыбалась про себя.
Артур сказал, что, наверно, они вернутся поздно, и спросил Маргарет, нельзя ли им взять ключ.
– Я доставлю ее назад в целости и сохранности, – пообещал он Фрэнсису.
Фрэнсис кивнул.
– И отправлю назад в Кембридж как раз к рождеству, – продолжал Артур нарочито покровительственным тоном.
Я решил, что довольно Артуру дразнить Фрэнсиса, и вмешался.
– В Кембридж мы поедем все вместе, – сказал я. – Как и в прошлые годы, мы с Маргарет собираемся провести рождество у моего брата Мартина.
Фрэнсис, к которому снова вернулась уверенность, позвал нас к себе на второй день праздника: они устраивают елку, будут все их дети и внучата, из посторонних – только Мартин с семьей и мы. Взгляд у Артура на мгновение стал просительный. Ему так хотелось, чтобы и его пригласили. Фрэнсис это понял и надменно посмотрел на него, высоко подняв брови. Конечно, Артур был упрям, но тут коса нашла на камень. На этот раз хозяином положения оказался Фрэнсис: он выдержал характер и так и не пригласил Артура. Очень учтиво он сообщил, что через пять минут ему надо уходить.
Неунывающий Артур вскочил.
– Нам тоже пора. Идем, Пэнни. Спасибо за приятный вечер, сэр Фрэнсис.
– Не ждите нас с завтраком, – сказали они Маргарет, – увидимся позже.
Артур попрощался с Фрэнсисом, Пенелопа поцеловала отца. И они вышли. Это была красивая пара, ревниво оберегающая свои секреты, не желающая ничего выдавать постороннему глазу, видно было только, что они веселы, счастливы и радуются жизни.








