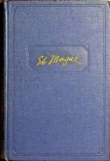Текст книги "О людях и книгах"
Автор книги: Борис Дубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Потом с 1993–1994 годов, когда началась Чеченская война, когда Ельцин начал сдавать людей, потом сам стал сдавать как политик и как человек, снова вернулось это чувство раздвоенности. К концу 1990-х оно еще обострилось. Есть страна, а есть ты и твой круг, и за пределами этого круга обстановка уже другая. Сюда ты ходил вчера, а сегодня уже не пойдешь – либо потому, что там уже другие люди, либо люди те же, но на самом деле они совсем другие. Однако я по-прежнему стараюсь это состояние обратить в источник энергии. Пока удается.
* * *
Как бы я ни был близок к интеллигентскому слою, как бы я в нем ни находился и отчасти даже ни шел вместе или, по крайней мере, нас несло вместе какое-то время, тем не менее я никогда себя не чувствовал принадлежащим к интеллигенции. С одной стороны, из-за одиночества, не просто личного, с тобой случившегося, а социального, сконструированного (я даже хотел о нем в свое время написать – не про себя, а про Сережу Морозова, про его наполовину вынужденную, наполовину добровольную уединенность, даже подзаголовок придумал: социальная конструкция одиночества). У меня, в сущности, до второй половины 1970-х годов никакого «круга» не было вообще. Иногда попадались отдельные люди, с которыми я очень, очень дружил. Или мы что-то делали вместе. Только с середины 1970-х стал складываться некий переводческий кружок, в центре его был уникальный переводчик Анатолий Гелескул, я считаю его в переводах моим учителем. С другой стороны, в Библиотеке Ленина стал складываться круг профессионалов, которые пытались делать то, чего не было.
Если есть какой-то, условно говоря, главный нерв в моей жизни и в жизни людей, мне подобных, то он как раз в этом: делать то, чего нет. Вот так я пытаюсь вводить в русскую словесность то, чего в ней нет. Какие-то промежуточные жанры – то ли поэзия, то ли проза, то ли философия, то ли искусствознание. Мне не лень это отыскивать в зарубежных литературах: сегодня в польской, завтра в португальской, в английской, во французской. Как писал Мандельштам: этого нет по-русски, но это должно быть по-русски. Для меня это было важно.
То же самое – с социологией. Ее ведь у нас по-настоящему нет. То, что за нее принимают в газетах, все эти рейтинги, графики «лестницами» и «пирогами», это же к социологии отношения, в общем, не имеет. А вот то, что Левада, его сотрудники, я по мере сил, каждый и все вместе, пытаемся делать, это та социология, которой нет, но которая была бы, мы верим, нужна. Потому что без этого невозможно понять, что за страна, в которой мы живем, что за люди, к чему дело идет, почему ни черта не меняется, почему все как будто бы опять довольны? Вот это желание быть другим, сделать то, чего нет, – оно и вело, и ведет, хотя не скажешь, что это комфортное самоощущение. Временами оно бывает чрезвычайно мучительным. Особенно в конце 1970-х – начале 1980-х, бывало, очень грустно становилось, думалось: «Неужели это навсегда и совсем никогда не будет ничего другого?». Но мы все-таки старались держаться. А в другие времена зуд этот, напротив, помогал что-то делать и не замыкаться на себе, не закукливаться.
При этом у меня, скажу еще раз, всегда было слабое чувство «мы» – не знаю, не атрофировано ли оно вообще. Никогда не грела принадлежность к слою, к классу, к группе, кроме очень небольшого круга одиночек, которые образовали шалашик, я об этом уже говорил. Я любил тех людей и дружил с теми людьми, с которыми мы делали что-то вместе, и делал что-то вместе с теми людьми, которых любил и с которыми дружил. Общаться же с теми, кто принадлежит со мной к какому-то «общему слою», казалось мне всегда столь же странным, как общение с людьми, с которыми мы – помимо нашей воли – оказались родственниками. Я неплохо знаком с антропологией, читал много этнологической литературы, а потому давно усвоил разницу между родством по крови и родством по выбору: я ценю только последнее. С другой стороны, у меня, так уж случилось, не было потомственной интеллигентской культуры. Ее и не могло быть: в этом смысле, я – порождение советского строя, человек без наследства. Я был первым в моем семействе, у кого появилась настоящая библиотека. То есть я действительно собирал книги, альбомы, пластинки, жил ими. Так получилось, что я был первым, кто начал печатать на машинке, а потом первым работать на компьютере. Это не заслуга, просто, повторяю, так получилось. Я не входил в интеллигентские сообщества. Опять же это не заслуга, может быть, даже потеря, но это так. Случалось, я любовался отдельными людьми, которые считали себя принадлежащими к интеллигенции и во многом воплощали в себе черты интеллигенции, какой она хотела себя видеть. Но тем не менее я понимал: я – какой-то другой, может быть, урод, но другой.
И когда я (не я один, конечно) в конце 1980-х – начале 1990-х годов почувствовал, что, сделав свое дело, слой интеллигенции – вместе с железным занавесом и раздвоением, растроением культуры, вместе с тогдашним бумом журналов, републикаций и так далее – уходит и не может не уйти, то для меня, с одной стороны, как для профессионального социолога, этот уход был понятным и в известном смысле логичным, а с другой – я как переводчик начал искать в словесности вещи, которые заведомо не похожи на интеллигентскую литературу. Это не их родовой признак, то есть я не искал то, что заведомо не интеллигентно, но меня вело представление о той литературе, которой еще нет, которая непонятно что. Вместе с тем это не радикальный эксперимент, такого я не умею и не люблю. Мне интересно то, что еще не называется литературой, не стало ею раз и навсегда, но что может стать литературой, если будет с чем-то связываться, развиваться и что-то непредсказуемое будет с ним происходить. Мне бы хотелось работать для завтрашних писателей. А если они окажутся еще и читателями или если они просто будут читателями, но завтрашними – это ровно то самое, что мне нужно! Это тот ориентир, который мне интересен и важен, он меня заводит.
Иногда по дружбе или по старой памяти я делаю в переводах немножко другие вещи, они выбиваются из основных занятий. Так, мне очень было приятно переводить Исайю Берлина. Я понимал, что это Другой. Вот таким хотела бы, я думаю, быть русская интеллигенция – по крайней мере, та, которая мне интересна, которую я не полностью отторгаю и которая меня не полностью отторгает. Абсолютная независимость мысли. Интерес к тому, что ты не можешь полюбить и что даже может быть для тебя опасно. Ведь он, один из крупнейших либеральных мыслителей XX века, всю жизнь занимался двумя абсолютно антилиберальными феноменами: национализмом и социализмом. Биография Карла Маркса, труды о Чернышевском, о Белинском и прочее. И национализм в самых его тяжелых, черных изводах – германский, включая антисемитизм, расизм и все что угодно. Но его тянуло не желание закрыться, сказать «это не мое», «фу, какое это все нехорошее, какое опасное», а, наоборот, стремление именно это сделать проблемой, разобраться в этом. Он же писал, что XIX век прозевал и то и другое, и национализм и социализм, и что именно поэтому сложился такой XX век, особенно когда две эти вещи соединились, да еще в гигантских человеческих муравейниках огромных сообществ. Берлин понимал, что как он ни любит итальянскую оперу и ни ценит ее больше всего на свете, но заниматься ему надо другими вещами. Его вело желание не просто построить забор между Ними и Нами, его вела свободная мысль, которая должна понять, что же это такое, почему оно так важно для огромного количества людей и способно производить с ними такие серьезные вещи?
Это мне было интересно по необыкновенному благородству и самостоятельности, которые исходили от сэра Исайи. Он ни в какой ситуации не мог оказаться в ложном положении. Никогда не лгал ни себе, ни другим. И эта безотказность потрясающая. Про себя он говорил: я как таксист – вызывают, еду. Поэтому бо́льшая часть им написанного написана на заказ и по случаю. А отдушиной или, вернее, фоном, далеким горизонтом, служила, конечно, итальянская опера. Он, как и его студенты, ходил, не снимая наушников, только они слушали Битлов, а он, соответственно, Пуччини и Верди.
* * *
Из советской литературы уже и в юности мне нравилась только та, которая одной ногой или даже обеими ногами стояла во второй культуре. Я очень высоко ставлю Гроссмана, хотя понимаю, что это не совсем моя литература. Для меня очень значим Шаламов, и не только как потрясающая человеческая фигура, но именно как писатель, который в каком-то смысле не состоялся. Потому что эта была другая версия лагерного сознания, не солженицынского совсем, – которая, может быть, выходила на самый радикальный западный экзистенциализм, хотя сам Шаламов, кажется, ничего про это не знал или ему это было не интересно. Но эта была очень радикальная версия того, через что, по-моему, прошла Германия, когда рассчитывалась со своим нацистским опытом. То, что делала группа «47» в литературе, от Бёлля и Кёппена до Бахман и Грасса, когда всерьез, безо всяких иллюзий и очень безжалостно разбиралась с тем, что произошло с человеком, и как он позволил с собой это сделать, и что из всего этого последовало. Конечно, по-настоящему Шаламов всем, что он написал, поставил вопрос о том, что с самим основанием человека и основами человеческого общества произошли в советских условиях какие-то непоправимые, необратимые вещи. Последствия их, так он предполагал, будут чрезвычайно страшными, но люди даже не узнают и не поймут эти последствия, потому что это с ними происходит, в них происходит.
Был еще, конечно, Искандер – и «Козлотур», и «Сандро из Чегема» (журнальный, изуродованный цензурой). В меньшей степени – тамиздатский Битов «Пушкинского Дома», к такой литературе я отношусь более спокойно. Был интересен целый ряд писателей, которые находились на грани советского. Городской Трифонов последних его повестей, посмертно изданного романа «Время и место» – это для меня очень ценно. Но вот о Петрушевской, например, я не могу сказать, что она – советский писатель, а опыт прозы Петрушевской тех лет, тогдашней ее драматургии очень был интересен. В конце 1970-х я читал доставшуюся мне на несколько часов папку ее машинописных текстов и просто не верил, что такое можно написать (можно – не в смысле «позволено», а в смысле – под силу человеку моего времени в моей стране).
Значимые вещи были и в поэзии старших современников. В первую голову – Тарковский. Некоторые негромкие имена, скорее сбоку: тогдашний тоненький Кушнер, тогдашний редкий Чухонцев (впрочем, сегодняшний тоже, а вот Кушнер – уже нет). Хотя поэты непечатавшиеся были мне, по юношеской привычке, всегда роднее – и сверстники, и старшие, о друзьях не говорю. Здесь первое место принадлежало Бродскому, особенно – после его тамиздатского сборника «Часть речи».
На слуху и в памяти – моей и всеобщей – был Окуджава. Но «Возьмемся за руки, друзья» – это не мое совсем. Окуджава был тип человека в здешних условиях уникальный. Человек обязательный, человек взаимный, человек благородный, никогда не ставивший собеседника ниже себя, просто не способный к этому. Ему бы просто в голову это не пришло, иначе зачем общаться? Чтобы показать, что ты выше? Как поэт он, в некотором смысле, был даже не отдельный голос, а что-то вроде облака: его хватало на многих, он в них невидимо присутствовал, осенял их. Для меня особенно дорога у него нота того, чего еще нет, но что уже определяет жизнь. Этот «еще неясный голос труб», эта песенка «еще очень не спетая». Если этого нет, то тогда ничего не надо, и его, скорее всего, не будет. Нота отсутствующего, которое тем не менее тебя ведет, правит твоей жизнью. Но правит не на манер правителя, а ее освещает, вытягивает из болота, – вот это, конечно, самое дорогое.
* * *
Меня никогда не пугали и сейчас не пугают два вопроса, которые очень пугали и пугают многих людей, связанных со словесностью, будь то ее читатели, будь то ее преподаватели, будь то сами писатели или их критики. Я никогда не задавался страшным вопросом: «Что станет с литературой?». Если уж она в XX веке творилась в таких местах, как Освенцим и ГУЛАГ, то ничего с ней не произойдет. Она будет всегда.
Точно так же меня не пугает, что будет с классикой. «Что сделали с Пушкиным? Что будет теперь с нашим Пушкиным?» Ничего страшного не будет. За Пушкина я абсолютно спокоен. Всегда был и сейчас остаюсь.
Ну, будут такие вещи, которые со всеми творятся, когда под Баха танцуют на коньках, а Рембрандтом или Модильяни украшают рекламу. Ну конечно, будет это и с Пушкиным, будут там какие-то строки поперек улицы на перетяжке висеть (строка Тарковского о бабочке висит же в метро). Но, по сути, ничего страшного не произойдет. Роль его – основополагающая. Не читают молодые? Он через другие зеркала высветится. Будет значим для каких-то других поэтов и писателей, которых эти молодые полуобразованные ребята уже будут читать как своих. Или каким-нибудь другим зеркалом откроется, может быть, биографическим, человеческим. Я думаю, тут все будет в порядке.
В культуре ничего не исчезает, но меняет место и масштаб, а значит – меняет функции. Конечно, такой официальной роли, которую классика играла в СССР, или той, когда ее, напротив, «нам» нужно было отвоевать у советского государства, сделать для себя и для «наших» другого Пушкина, другого Толстого, впихнуть туда Достоевского, который никак туда не впихивался, или там Лескова, – такой роли она играть уже не будет. Те «мы» ставили себе целью сделать издающимися поэтами Тютчева и Фета. Ну, сделали, издаются. Анненский уже издается, Кузмин и Волошин, Цветаева и Мандельштам, Ходасевич и Пастернак. В этом смысле ни с классикой, ни с литературой в целом ничего катастрофического не произойдет. Судьба в культуре – не гибель, а метаморфоза. Это может быть печально, даже мучительно для отдельного человека, но в этом всегда открываются какие-то новые возможности – для тебя, для других, для третьих.
Страсть к другим[14]14
См.: Валерия Стельмах. «Отношение к книге сильно изменилось» (http://urokiistorii.ru/article/51818). Сост.
[Закрыть]
Людям из мира книг и библиотек, давно знающим, кто такая Валерия Дмитриевна Стельмах, в нынешний юбилейный день ничего объяснять не нужно; тем, кого она почтила своим дружественным вниманием, – тем паче. А разговор для всех остальных придется начать с вещей более общих и далеких, с 1960-х годов.
Именно этим временем датируются попытки отдельных энтузиастов в библиотечном мире организовать что-то вроде социологических исследований чтения, читательской публики – попытки дать себе отчет в том, каков характер того конкретного общества, которое все мы составляем и без понимания которого вопросы о том, кто, что, где, зачем и с какими для себя и других последствиями читает книги, безответно повисают в воздухе. Желание наполнить жизнью и смыслом сводки официальной статистики соединилось у первых исследователей читательских интересов с требованиями строгости и доказательности, со стремлением опереться на возможности нарождавшейся в те же годы отечественной социологической науки. Среди пионеров подобного подхода к книгам и читателям была Валерия Дмитриевна[15]15
Текст 2005 г. из домашнего архива Бориса Дубина. Сост.
[Закрыть]*. Свидетельства тому – крупномасштабные социологические опросы 1960–1970-х годов, проведенные по ее инициативе и при ее самом деятельном участии; их результаты легли в основу монографий «Советский читатель», «Книга и чтение в жизни небольших городов», «Книга и чтение в жизни советского села», с которыми, если иметь в виду богатейший эмпирический материал и основательный подход к его сбору и обобщению, в те десятилетия просто-таки нечего поставить рядом (сегодня этот материал наполнился еще и историческим смыслом, к нему стоило бы вернуться).
Позитивная заинтересованность в жизни современников, равно как и в собственном профессиональном деле, всегда отличавшая В. Д. Стельмах, – явление в советских условиях вообще крайне редкое. Так что уже один этот социальный факт заслуживает всяческого удивления и глубочайшего уважения. Но, быть может, еще реже встречаются желание, упорство, смелость и умение придать подобному человеческому неравнодушию и исследовательской пытливости устойчивую коллективную форму – построить, говоря социологическим языком, социальный институт[16]16
Здесь и далее в печатных текстах Б. Дубина курсив авторский. Сост.
[Закрыть], объединив в нем на общую пользу силы и навыки разных участников одного дорогого для них дела. Таким институтом стал сектор книги и чтения научно-исследовательского отдела Библиотеки Ленина, которым Валерия Дмитриевна многие годы руководила. В коллективной работе здесь соединялись в разные годы усилия самых разных специалистов. Помимо прямых сотрудников сектора, в дело вовлекались крупные тогдашние социологи, демографы, психологи – исследовательские проекты ГБЛ консультировали Леонид Гордон, Владимир Шляпентох, Юрий Арутюнян, Алексей А. Леонтьев и многие другие, они участвовали в работе конференций по комплексному исследованию чтения и читательских интересов, их статьи входили потом в итоговые сборники «Социология и психология чтения», «Чтение: проблемы и разработки». С конца 1970-х годов в секторе несколько лет действовал междисциплинарный семинар[17]17
Обо всех его заседаниях можно прочесть в № 132 (2/2015) журнала «Новое литературное обозрение» в разделе In Memoriam (Памяти Бориса Дубина), составленном Абрамом Рейтблатом. Там же – библиография публикаций БД с 1970 по 2014 г. Благодарю Абрама Ильича за эту масштабную работу. Сост.
[Закрыть], на котором выступали крупные социологи, филологи, историки (чтобы оценить калибр, назову лишь Мариэтту Чудакову и Нину Брагинскую, Николая Котрелева и Александра Осповата, Дмитрия Харитоновича и Алексея Левинсона). И все это, напоминаю, нужно было организовать и день за днем, год за годом держать на плаву. Да еще не дать дуракам, завистникам и трусам в начальнических кабинетах угробить дело одним росчерком пера – в тогдашние шакальи времена подобное случалось сплошь и рядом.
Крупным человека делает страсть – страсть к другим, к познанию и творчеству, к миру и делу (в жизни действительно крупного человека они перегородками не отделяются). Дать этой страсти развиться в себе, увидеть и помочь ей не угаснуть в окружающих – черты недюжинного ума, редкой чуткости, сильного характера. Поступки Валерии Дмитриевны Стельмах всегда отличает социальная определенность, как ее облик – человеческая доброкачественность. Не буду говорить о ее обаянии, эмоциональной щедрости, простоте в общении с самыми разными людьми. Разговор с ней неизменно интересен.
Я обязан Валерии Дмитриевне многим – и в жизни, и в профессии. Мы тринадцать лет проработали вместе в Ленинке и с тех пор сотрудничаем уже два десятилетия поверх ведомственных барьеров. От себя, от своих ближайших коллег Наталии Зоркой и Льва Гудкова (а они стали моими товарищами и друзьями именно в секторе В. Д. Стельмах[18]18
См. также: Борис Дубин о временах Борхеса и начале социологии. Первая часть беседы с Любовью Борусяк в цикле «Взрослые люди» (http://polit.ru/article/2009/10/25/dubin1/). Сост.
[Закрыть]) я рад ее сегодня от всей души поздравить.
Место, внушающее надежду[19]19
По материалам интервью, взятого в 2006 г. Татьяной Косиновой для ее книги о российско-польских культурных связях. Сост.
[Закрыть]
Сначала несколько слов в целом о Польше. Я недавно где-то прочел – видимо, это было в журнале «Новая Польша», теперь не могу найти источник, – такие пафосные слова: «История Польши – это многовековая история борьбы за честь и свободу». Слова, конечно, высокие и патетичные. Но меня это как-то сразу резануло. И я подумал: разве в моей стране было меньше бесчестья? Меньше несвободы? И все-таки я (да, думаю, и никто) про историю России не сказал бы, что это была «борьба за честь и свободу». И потому значение Польши, скажем, для меня – но не думаю, что я тут особенно оригинален, – как раз в этом и состоит. Образ Польши: и то, что доходило из Польши, и то, что доходит сейчас, – это дает надежду. Эта надежда когда слабее, когда острее, но Польша – место, которое внушает надежду. Внушает интерес.
Теперь, собственно, о моих не таких уж плотных отношениях с Польшей, и даже с Польшей скорее воображаемой, чем реальной.
Для моего поколения и людей чуть постарше, то есть тех, которые были молодыми в конце 1950-х – начале 1960-х, тогдашнее польское кино, а через кино и в связи с кино – польская литература, это тоже было вот таким пятнышком надежды… Казалось, что это может как-то повлиять и на то, что у нас здесь происходит. Притом что кино ведь тоже было очень неоднородное. Комедий много привозили, чего только не было – но был среди них особый слой… Конечно, Вайда прежде всего («Поколение», «Канал», «Пепел и алмаз»), Мунк («Эроика» и «Пассажирка»), Кавалерович тогдашний («Мать Иоанна», «Поезд» – у нас в прокате он назывался «Загадочный пассажир»). А это вело к книгам, вело к Ивашкевичу, Анджеевскому, к другим польским писателям того времени. И это было очень важно. Притом что на самом деле это кино как будто бы не было ориентировано на то, что сегодня происходит в Польше. Это было, как сейчас сказали бы, ретро, но и это тоже было важно для нас, зрителей, – сама эта беспрестанная попытка разобраться с собственными делами, включая собственное прошлое. Вот эта пытливость по отношению к настоящему и прошлому, этот неослабевающий интерес, в том числе очень критический, даже граничащий (как у Гомбровича, которого я гораздо позже читал) с издевкой в адрес национального гонора, самолюбия, национальных мифов и так далее, – все это было чрезвычайно важно для нас, читателей и зрителей, и интересно как возможность вот так относиться к собственному настоящему и к собственному прошлому.
Толчок к переводам с польского был дан в самом начале 1970-х годов, когда я познакомился с замечательным переводчиком, в том числе и польской поэзии, Анатолием Гелескулом, человеком, старше меня на двенадцать лет, который – как-то сразу так получилось – стал для меня кем-то вроде старшего литературного брата. Он перевел замечательного польского поэта, тогда мне совершенно неизвестного, Болеслава Лесьмяна – человека, кстати сказать, к России и к Украине имевшего отношение, учившегося в Киеве и даже немножко писавшего по-русски. Сначала я услышал эти переводы с голоса, на вечере в групкоме литераторов при издательстве «Художественная литература». Потом вышла небольшая книжечка[20]20
Лесьмян Б. Стихи / Вступ. статья А. Гелескула. М., 1971.
[Закрыть]. Не уверен, что ее заметили, публичной славы никакой у книжки не было. Тогда никаких презентаций, «промоушенов» и прочего в таком роде не было совершенно. Но те, кто вообще читал поэзию, которая чего-то стоила, они тогда эту книжечку, конечно, просто рвали из рук друг у друга. И я тогда разговаривал с Гелескулом. Он говорит: «Ну что вы французов переводите? Кого там переводить-то – разве что Нерваля? Учите испанский, учите польский. Переводите испанцев и поляков – вот где великая поэзия. И старая и новая». Я, в общем, послушался старшего товарища. Накупил учебников, словарей, начал учить испанский и польский, насколько смог.
И у меня есть некоторые слабые, отчасти даже легендарные, по семейной легенде, польские корни. Моя бабушка по отцу Мальвина Иосифовна Лапинская была вроде бы наполовину полячка, наполовину еврейка из маленького села Требухивцы под городом Бучачем. И мой дед, отец отца, солдат на постое, покрал ее во время Первой мировой из этого самого села, привез к себе на Украину, в село Иванковцы, под Знаменкой, где и родился мой отец. Бабушку я видел не так много. Я жил несколько раз подолгу у них там, в деревне: когда сестра моя должна была родиться, меня родители туда отправили, и еще несколько раз. То есть помнить-то я ее помню. Но в детстве эта польская ниточка вроде бы ничего не значила. А теперь с годами это мне как-то понадобилось. И я начал это вспоминать, и для меня это отчасти стало объяснением, оправданием интереса к Польше. Конечно, дело здесь не в крови, не в семейных связях, а в том, с чего я начал.
Представьте себе глазок, который дыханием и теплом отогревают в мерзлом окне. Вот Польша – что-то вроде такого глазка, куда глядишь в надежде, что вдруг и у нас здесь что-нибудь подобное возможно.
Потом, с середины 1970-х, я начал понемногу переводить польских поэтов. Самой большой работой был Кшиштоф Камиль Бачинский, книжка которого вышла в 1977 году в том же издательстве «Художественная литература». Это был совершенно поразительный опыт. Бачинский – гений, конечно. Природный гений, который в восемнадцати-, девятнадцати-, двадцатилетнем возрасте замахивался на такие вещи в литературе, что один замах уже много бы чего стоил, а ему еще многое и удалось. Один из самых гениальных, просто по природной гениальности, польских поэтов. И это было потрясающе интересно нам всем: Гелескулу, мне, моим сверстникам, которые как-то к этому тогда прикоснулись (Георгию Ефремову, например, – он стал известен потом отличными переводами с литовского), – переводить мальчика, который в полтора раза моложе нас и который вот такие замечательные вещи в стихах делает. Тем более что это были еще и очень польские стихи. Мне трудно себе представить, что в какой-то другой поэзии могли быть такие стихи. Стихи, очень тесно связанные с польской мифологией – очень высокой и даже, пожалуй, исторически помпезной (Вайда в «Пепле» и «Свадьбе» ее выворачивал наизнанку). Но у мальчика это оборачивалось совсем другими вещами. Он и его сверстники – их потом переводили и Гелескул, и Наталья Горбаневская – тогда то ли предчувствовали, то ли понимали, то ли это в воздухе носилось, что встреча с историей вот-вот произойдет. И она произошла буквально через несколько месяцев после того, как мальчик эти стихи писал: оккупация, подпольный университет, участие в партизанских действиях… Он погиб во время Варшавского восстания, молодая жена-девочка погибла там же. И вот это соединение очень интимной любовной лирики с ощущением, что человек находится в истории, что он ее, собственно, и делает, пусть даже при этом и гибнет, – вот это тоже, конечно, было редкое и нужное ощущение. Может быть, в последний раз оно было у нас в стране у ифлийских мальчиков, которые тоже чувствовали, что не сегодня-завтра они вступят в эту самую историю и, в общем, не так легко для них дело закончится. Как оно, собственно, и произошло. По крайней мере, после войны – Второй мировой, или Отечественной, как в России любят говорить, – конечно, этой пророческой, провидческой, мифологической ноты уже, в общем, почти не звучало в русской поэзии. Эти органы были насмерть отбиты. Но тем дороже была эта нота, из польской словесности пришедшая. И неразрывность этого интереса к прошлому с понима-нием того, что тебе предстоит здесь и сейчас. И это неотвратимо, нельзя шагнуть в сторону.
Я думаю, отсюда и та роль, которую играли Польша, польская словесность, польское кино в жизни всех, кто формировался в 1950–1960-е годы и создал потом диссидентское движение (я к нему не принадлежал, но кое-какие дружеские связи, знакомства с этой средой – через СМОГ, через филфак университета – были). Странное дело: литература и кино, которые по большей части не стремились, в отличие от соцреализма – что польского, что советского, – быть политикой, тем не менее именно своим духом свободы, уважением к личности, к человеческому достоинству несли политический заряд (диссидентство – один из примеров). В особенности для советской страны, в которой как бы никакой политики, кроме официальной, не было и быть не могло. Вот это другое понимание политического – экзистенциальное, если угодно, – оно тогда шло из Польши, через наш образ Польши.
Последнее в этом смысле впечатление было связано с Чеславом Милошем. Мой университетский и библиотечный знакомец, полонист, год или два стажировался в Польше, это был год 76-й, 77-й. Он привез оттуда книжки и среди прочих – такую как бы даже не книжку, а что-то похожее на общую тетрадку в картонном переплете. Это была десятая перепечатка с десятой копии подпольного гектографического издания стихов Милоша с его портретом на обложке. Ничего нельзя было разобрать практически ни на портрете, ни в стихах, настолько буквы уже расплылись от бесконечного копирования. Но что дошло? Дошла легенда. Милош был человек легенды, и она была вот, совсем рядом. Это было совмещение времен, когда именно сейчас, оказывается, тоже могут происходить легендарные вещи. Я начал искать все милошевское, что можно найти. Все-таки у поляков Милош был не до конца закрыт, в антологиях можно было что-то отыскать (была такая замечательная антология, составленная Станиславом Гроховяком). Я стал читать, а потом, уже через много лет, даже немножко и переводил стихи, прозу Милоша. От тогдашнего открытия был, конечно, прямой путь к «Солидарности», к введению военного положения. Вот такой, собственно говоря, конец легенды. Который оказался новым началом, потому что потом пришел 1989 год (соответственно, сюжет нашего разговора – если не брать предков – укладывается примерно между серединой 1960-х и 1989–1990 годами).
В 1989 году мы впервые с коллегами под предводительством Юрия Левады поехали за рубеж. Это было такое межуниверситетское сборище в Дубровнике, где собрались социологи всех стран бывшего – он еще не стал бывшим – социалистического лагеря, с тем чтобы поговорить о том, что происходит, – все явно и стремительно начало меняться. Причем было представлено поколение учителей, как Левада и как его коллеги, туда приехавшие, – чехи, поляки, венгры, болгары, – и было поколение нас, учеников, которые одновременно и учились у старших, и что-то рассказывали о том, как сами понимают происходящее. И вот в один из вечеров возвращаемся мы в гостиницу с этих своих занятий, а по телевизору в холле передают встречу Валенсы с правительством, как они заключают соглашение. И это, конечно, было замечательное, непередаваемое ощущение… Опять-таки это было опережающей надеждой. У нас еще только что-то зашевелилось, но мы сами еще оставались косными, сами пока еще только раскачивались, не осмеливаясь поверить в то, что действие возможно, изменение возможно. А тут это уже делалось реально. И это опять была история, которая происходит прямо на глазах и где соединяется их прошлое с их настоящим и наше прошлое с их настоящим. Здесь, конечно, много еще было наших, не осуществленных в свое время надежд. Вот такая история. Ничего другого, боюсь, нету.
А что касается развития нашей социологии, действительно многое шло через поляков. Правда, восприимчивого народа в 1960–1970-е годы не так-то уж много было. Левада, конечно, Игорь Кон, Ядов, Грушин, Шляпентох… В 1990-е годы был такой биографический проект у Геннадия Батыгина «Советская социология в биографиях». И вышла большая книга, она называлась «Советская социология 1960-х годов в очерках и биографиях» – как-то так. Там поколение отцов-основателей рассказывает о том, как все начиналось. И в том числе там есть такая тема, Батыгин об этом специально расспрашивал, – что вы знали о западной социологии? Батыгин, к сожалению, умер, он многое, конечно, мог бы рассказать, потому что он специально собирал эту информацию. Его вопрос был: что вы знали о зарубежной социологии? Как выходили на книги? Были ли контакты? Насколько помню, Щепаньский тогда много значил для старшего поколения социологов, Клосковская, Внук-Липинский. Через «Пшеглёнд социологичный» шло много информации – и по теории, и по истории социологии, и по технологии исследований. В Польше раньше добрались до американской социологии, барьер запретов был пониже, много переводили – от классиков до новинок, многое начали пробовать и в теории и в эмпирии. И это касалось не только теоретической и общей социологии, но всяких отраслевых вещей.