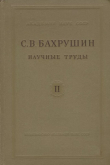Текст книги "Окаянное время. Россия в XVII – середине XVIII века"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Борис Керженцев
Окаянное время. Россия в XVII – середине XVIII века
© Керженцев Б., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Часть I. «Зима еретическая хощет быти»
Глава 1
Семнадцатое столетие – одно из самых «долгих» в истории народов, населяющих европейский континент. Его начало было всего лишь хронологическим фактом григорианского календаря, а его конец – ознаменовал собой рождение новой эры. В течение ста лет произошла принципиальная перемена всего, что составляло мировоззрение и наполняло жизнь людей прежних эпох.
Для России XVII век, особенно его вторая половина, стал временем трагического духовного и социального перелома, оказавшегося тем более болезненным, что он не имел под собой никаких объективных предпосылок в прошлом страны. Преобразования, разрушившие естественное развитие русской государственности, были внедрены в относительно короткие сроки и сопровождались революционным ниспровержением всех традиционных основ общества.
В исторической науке и публицистике проводившиеся в России в XVII и первой половине XVIII века реформы принято представлять как возвращение страны в русло «общеевропейской цивилизации». Поэтому прежде, чем касаться существа произведенных перемен в России, необходимо хотя бы коротко рассмотреть ту трансформацию, которую пережили к этому времени государства Европы.
Начало столетия, казалось, не принесло с собой ничего нового. Религиозные вопросы и конфликты по-прежнему оставались главными во внутренней жизни европейцев, предопределяя поступки людей и внешнюю политику государств. Первое десятилетие наступившего века было отмечено агрессией католической Польши против православной Руси. Современников в этом столкновении не могли ввести в заблуждение территориальные и политические противоречия, сопутствовавшие вторжению. Обеими сторонами интервенция воспринималась в первую очередь как духовное противостояние разных ветвей христианства – западного и восточного. Это был крестовый поход Запада против православного Востока, в котором польский король и шляхта всего лишь выполняли роль наконечника копья.
В то же время на самом Западе христиане продолжали яростно стражаться друг с другом, отстаивая идеалы Реформации и Контрреформации. Эта борьба, как и в XVI столетии, была отмечена мрачной непримиримостью, доходящей до полного взаимоистребления. События Тридцатилетней войны затмили кровавые расправы Варфоломеевской ночи и зверства солдат Филиппа Испанского в Нидерландах. После этой войны стояли выжженными и опустевшими целые города.
Девиз герцога Альбы: «Бесконечно лучше сохранить для Бога и короля государство обедневшее и даже разоренное, чем видеть его в цветущем состоянии для сатаны и его пособников-еретиков» оставался практическим руководством к действию и в XVIII веке. Преследование инаковерующих велось по всей Европе. В Моравии некатоликам запрещалось заниматься ремеслами. Их было запрещено даже хоронить на кладбищах, а упорствовавших в вере лишали собственности и выселяли из страны. То же самое происходило в Чехии и Баварии, Силезии, Пфальце, а также в других областях. Во Франции эпоха борьбы с гугенотами продолжилась в 1629 году штурмом крепости Ля-Рошель, сопровождавшимся жестокой резней защитников, а закончилась в 1685 году отменой Людовиком XIV примирительного «Нантского эдикта» и, как следствие – массовой эмиграцией протестантов из страны.
Нетерпимость вела к значительным социальным, нравственным и экономическим потерям. Ко времени заключения Вестфальского мира численность населения некоторых областей Европы сократилась в несколько раз. Так, в Чехии к 1650 году оставалось только 700 тысяч жителей из 2,5 миллиона, обитавших в ней в 1618 году[1]1
Лозинский С. История папства. – М., 1986. С. 287.
[Закрыть]. Из Франции от преследований правительства за веру бежали самые активные и предприимчивые граждане – богатые промышленники, увозя с собой свои капиталы, опытные офицеры, искусные ремесленники.
Однако все это не мешало неуклонному усилению европейской экспансии практически по всем географическим направлениям. Почти не было такого уголка земли, на который не ступила бы нога испанского, английского, французского, голландского или португальского моряка. Примечательно, что их появление, на первых порах встречаемое, как правило, с радушием и гостеприимством, очень скоро вызывало в местном населении ненависть и открытую вражду. Это объяснялось тем, что европейцы, несмотря на разницу своего происхождения из той или другой страны и вероисповедания, вели себя с туземцами совершенно одинаково. Они приходили как купцы и заводили с местными жителями выгодную торговлю. Но мирная торговая фактория быстро и незаметно превращалась в укрепленный военный форт, контролировавший всю окрестную территорию. Туземное правительство смещалось или ставилось под контроль пришельцев и начинался безудержный грабеж страны.
Вне зависимости от того, двигал ли пришлыми чужеземцами миссионерский пыл или купеческая жажда наживы – их деятельность в одинаковой степени приводила к разрушению традиционных основ местных обществ, унижению или уничтожению их культуры и верований, порабощению или поголовному истреблению населения, ставила местную цивилизацию, иногда насчитывавшую многие века, если не тысячи лет своей истории, на грань окончательной гибели.
Массовый ввоз черных невольников сопутствовал поселению англичан в Северной Америке. Еще в 1619 году голландцы продали пионерам Вирджинии первую партию рабов. Нередко это объясняется крайней нуждой первопоселенцев в рабочих руках для возделывания табачных плантаций. Но не следует забывать, что во многом эти трудности на новой земле у колонизаторов возникли из-за того, что за короткое время своего пребывания в Америке они успели вырезать или прогнать индейские племена, встретившие их как друзей и готовые оказать им помощь. Но англичанам были нужны рабы, а не друзья.
В государствах Индокитайского полуострова, как прежде в Новом Свете в Америке, испанские и португальские авантюристы пытались выкроить собственные королевства, а если это не удавалось, устраивали разбойничьи крепости-гавани для занятия пиратством и работорговлей.
Классическим примером такой деятельности может служить правление Филиппа де Бриту, захватившего порт Сириам в Южной Бирме и объявившего себя королем. Доведенные до полного отчаяния «подданные» его королевства, которым эпоха господства европейцев запомнилась как самая мрачная страница истории страны, в союзе с соседними племенами свергли власть чужеземцев. Во второй половине семнадцатого столетия наместник могольского правителя в Бенгалии с трудом сумел прогнать обосновавшихся в дельте Ганга португальских пиратов и работорговцев. Жители Молуккских островов в Индонезии выдержали три опустошительных войны с голландцами, но потерпели поражение. Пришельцам оказывали вооруженное сопротивление повсеместно, где только имели к этому возможности – в Маниле и Аракане, Индии, на Филиппинах и Суматре.
Еще более красноречиво отношение к европейцам в тех государствах, которые не вели с ними открытых военных действий и даже имели некоторое время разносторонние культурные и торговые контакты. Именно после близкого знакомства с характером западных гостей, их обычаями и повадками во многих восточных странах происходит неожиданная реакция – полный и жесткий запрет въезда на свои территории для европейцев. В 1637–1638 годах сегуны Токугава прекратили торговлю с европейцами и запретили их судам заходить в японские порты. Исключение было сделано для ограниченного числа голландских купцов, которым разрешалось посещать только гавань острова Нагасаки, и то под неослабным контролем властей.
Китайское правительство династии Мин после непродолжительных контактов с англичанами и голландцами в XVII веке закрыло гавани страны для европейцев. Исключение и здесь было сделано лишь для одного порта – Гуанчжоу, где западные купцы могли производить торговлю только с представителями одного купеческого объединения «Кохонг» также под жестким контролем правительственных чиновников, и не иметь никаких контактов с населением[2]2
Лозинский С. История папства. – М., 1986. С. 61.
[Закрыть]. Подобные распоряжения, ограничивавшие или вовсе воспрещавшие европейцам посещение государственной территории, были даны в XVI–XVIII веках правительствами Кореи, Сиама, Бирмы, Вьетнама…
Эти запреты подтверждали, что влияние европейцев было признано вредным, оказывающим опасное и разрушительное воздействие на культуру и нравственность населения тех стран, куда оно проникало. Но для того, чтобы понять, какие именно опасности видели в представителях Запада на Востоке, необходимо попытаться объективно посмотреть на то, что же представляла собой в духовном смысле западная цивилизация семнадцатого столетия.
По образному выражению П. Шоню, именно в XVII веке «гуманитарное слово «Европа» вступает в неравную схватку с понятием «христианский мир»[3]3
Шоню П. Цивилизация классической Европы. – Екатеринбург, 2005. С. 8.
[Закрыть]. И не просто вступает, но – выигрывает ее. На самом деле происходит не только смена наименований, но гораздо более серьезное изменение – настоящая революция в системе мировоззрения европейцев. Во взаимоотношениях европейских государств все определеннее политические расчеты, территориальные и экономические интересы преобладают над вероисповедными вопросами[4]4
Кардиналу Ришелье разногласия с протестантами не помешали поддержать в Тридцатилетней войне кальвинистов Соединенных Провинций и лютеран Швеции против католических Испании и Австрии. Причем уже после того как все участники войны заключили мир, католические державы, Франция и Испания, воевали друг с другом еще больше 10 лет, до 1659 года. (Здесь и далее – примечания автора.)
[Закрыть]. Во внутренней политике происходит то же самое, и принадлежность к официально признанной в стране конфессии требуется лишь потому, что служит доказательством лояльного отношения к правительству. Христианское учение теряет прежнюю роль единственного нравственного ориентира, а спасение души перестает быть смыслом жизни для все большего числа европейцев.
Без всякого сомнения, переменам в сознании европейцев способствовали научные успехи и начавшийся технический прогресс, расширявшие представления о мироздании и человеке, упрощавшие освоение мира и все шире раздвигавшие его границы. Достигнутые результаты подстегивали дальнейшее развитие, одних манили новыми возможностями, увеличивали жажду познания, у других дразнили честолюбие, третьим открывали новые путия для обогащения.
Но все-таки эта картина не может вполне объяснить те изменения, которые произошли с христианским миром Запада в эпоху Нового времени. Ведь астрологические открытия делали еще мудрецы и астрономы древности, дальние плавания и географические открытия совершались в античности и Средневековье без помощи астролябии, а прежних технических знаний было достаточно для строительства величественных соборов и неприступных крепостей. Наконец, история знает множество примеров стран и обществ, которые, пережив технический прогресс и усвоив множество его достижений, сохранили глубокую религиозность и не изменили традиционному пути развития, не порвали резко и бесповоротно с мировоззрением предков.
История Европы складывалась по-другому. В отличие от консервативных восточных обществ, европейцы отчаянно ломали и перестраивали социальные и духовные устои своего мира. Это привело к странному результату – неустанные поиски справедливого устройства общества закончились небывалым развитием колониального рабства, а стремление к благочестию и кровопролитные войны за «истинную веру» – торжеством рационализма и в конечном счете совершенной секуляризацией сознания.
Так случилось потому, что сам научно-технический прогресс, а также трансформация социального, экономического и политического устройства западного мира были лишь следствием другого, более раннего и масштабного явления.
Гуманистическая революция эпохи Возрождения разрушила прежние христианские основания европейской цивилизации и построила на их месте новые. Это было движение не просто антихристианское по своему существу, но еще шире – антирелигиозное. Главное различие состояло в отношении к смыслу жизни и к месту человека в ней. Средневековому сознанию, сосредоточенному на отрешении от земных страстей и выраженному Блаженным Августином, учившим своих последователей: «Настоящая жизнь ваша есть сон, и богатства эти как бы во сне протекают. Апостол Павел убеждает достигать вечной жизни» – люди нового склада противопоставили активное утверждение прав и интересов плоти.
Этот конфликт остро и чутко ощутил Петрарка, основатель философии гуманизма, и передал его в одном из лучших и, без сомнения, интереснейших своих произведений. Оно неслучайно озаглавлено так же, как и проповедь Блаженного Августина – «О презрении к миру». Потому что сочинение Петрарки есть спор с мировоззрением блаженного отца Церкви. Но, что важнее и красноречивее всего, этот диалог – в первую очередь спор автора с самим собой, а вместе с ним и выражение душевных терзаний многих его современников, очарованных наступлением новой морали и не имевших сил бороться с искушением. Петрарка признается в своей духовной слабости: «Когда, поднимаясь по прямой тропинке, я дошел, скромный и рассудительный, до распутья двух дорог и мне было приказано идти по правой дороге, – тогда, из неосторожности или упрямства, я свернул на левую… С тех пор как меня потянуло на кривой и нечистый путь, я часто со слезами оборачивался назад, но уже не мог идти правой дорогою; и вот, когда я ее покинул, тогда-то, несомненно, воцарилась эта неурядица в моих нравах…»
В диалоге два участника, Августин и Франциск, третье лицо – Истина, наблюдает за их беседой, не принимая участия в споре. Августин умоляет собеседника одуматься и обратиться на путь покаяния, отринуть попечение о земном. Он тщетно напоминает Франциску (Франческо – имя Петрарки) о страхе Божием: «О слепец! Ты все еще не понимаешь, какое безумие – подчинять душу земным вещам, которые воспламеняют ее огнем желаний, не способны ее успокоить, не могут быть верны ей до конца и, обещая ее приголубить, вместо того терзают ее непрерывными потрясениями… Помнишь ли, как силен был в тебе страх Божий, как много размышлял ты о смерти, как сильно был привязан к вере и как любил добродетель?»
Франциск сокрушенно восклицает в ответ: «Разумеется, помню и скорблю о том, что с годами добродетели умалились во мне…»
Тогда Августин, не жалея для собеседника бранных имен, называя его и «жалким» и «глупейшим человечком», вновь предостерегает его: «Раз ты не жаждешь бессмертного, раз не помнишь о вечном, – ты весь земной, твое дело проиграно, надежды нет больше!..»
Франциск отвечает с достоинством и как человек, принявший тяжелое решение. Он сделал выбор и спешит закончить тягостный разговор: «Мне свидетель мой дух, знающий все мои заботы, что я всегда пылал любовью к вечности… Я постараюсь изо всех сил остаться при себе, соберу разбросанные обломки моей души и усиленно сосредоточусь в себе. Правда, теперь, пока мы говорим, меня ждут многие важные, хотя все еще земные дела».
Диалог Петрарки «О презрении к миру» – это «Фауст» наоборот. Здесь святой стремится удержать своего друга и ученика на пороге душевной гибели, умоляет не поддаваться соблазнам мира и страшит его трагическими последствиями за измену благочестию. Но его несчастный собеседник непреклонен: «Я хорошо знаю, что для меня было бы гораздо надежнее… оставив в стороне кривые пути, избрать прямой путь спасения, но не могу обуздать своего желания…»
В действительности, с точки зрения современного человека, Франциск, герой Петрарки, вовсе не задумал чего-то страшного или греховного. Он «всего-навсего» отстаивает право человека о попечении не только о душевном, что чрезвычайно важно, и с чем он совершенно не спорит, но и о земном, преходящем. Он и не думает о плотских грехах, он далек от мысли отстаивать порок – ничего подобного ему и в голову не приходит. Он просто возвращает попечение о нуждах человеческой плоти – в систему человеческих ценностей, откуда оно было изгнано христианской ортодоксией.
Любопытнее всего отношение Петрарки к своему alter ego. Он, кажется, целиком на его стороне, его позиция – это позиция самого поэта. Франциск если не побеждает в споре с Августином, то все-таки отстаивает свое мнение и уходит с гордо поднятой головой. Но его дорога – это драматический путь духовно падшего человека. Незаметно для себя он уже приобщился самой малой части соблазнов этого мира, отдал перевес земному над вечным в своей душе. И с удивительной чуткостью, несомненным признаком гениальности Петрарка передает это ощущение духовной потери, трагическое предчувствие дальнейшей неостановимой нравственной деградации.
«Кривые пути» эпохи гуманизма привели христианскую цивилизацию Запада не только к «неурядице» во нравах, но к совершенному и необратимому обмирщению культуры.
Штампом, общим местом почти всех без исключения работ по истории искусства является восторженное утверждение о том, что главной заслугой деятелей Возрождения стало освобождение человеческой личности от средневековых уз[5]5
Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. – М., 1908, С. 7.
[Закрыть]. При этом каких только презрительных и враждебных отзывов не раздается в адрес «средневекового мировоззрения», а по сути – христианского учения, которое якобы «веками принижало и притесняло самосознание человека»[6]6
Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. – М., 1908, С. 7.
[Закрыть]. Но академическое жизнеописание выдающихся деятелей гуманизма, к сожалению, редко сопровождается объективным описанием того, какой переворот произвела их философия в практической жизни людей.
Примером перемен в общественной морали может служить одна из новелл современника Петрарки, Боккаччо, автора знаменитого «Декамерона». Взяв за основу средневековое предание о женщине, одержимой греховной страстью к любовнику, убившей мужа и за то осужденной на вечные муки в аду, Боккаччо предлагает своим читателям этот сюжет как бы вывернутым наизнанку. В его рассказе дама из благочестивых соображений не смеет нарушить супружеской верности, что приводит влюбленного в нее рыцаря к самоубийству. И вот за эту «жестокость» и нежелание раскаяться в ней дама обречена, по мысли Боккаччо, адским страданиям. Смысл истории в том, чтобы предостеречь прекрасных дам от излишнего целомудрия и заставить быть благосклоннее к ухаживаниям влюбленных в них кавалеров.
По замечанию А.К. Дживелегова, подобный взгляд «уже не просто реабилитация плоти; это панегирик ее, призыв к любви, перевертывающий вверх дном все прежние взгляды на грех»[7]7
Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. – М., 1908, С. 84.
[Закрыть].
В этом нравственном перевороте заключено главное значение эпохи гуманизма, ее суть. Люди грешили и раньше, но общепризнанной нормой поведения являлось всегда его соответствие с христианским пониманием добра и зла. Учение Церкви было тем стержнем, вокруг которого формировалась общественная мораль, и одновременно прямым руководством к действию в повседневной жизни. Так называемое «ренессансное сознание», человекоцентристское, антиклерикальное и антирелигиозное, освобожденное от «церковных уз», сделало чрезвычайно расплывчатыми границы допустимого и запретного.
Ориентация на древнегреческие и древнеримские образцы в культуре и философии, которую выбрали для себя деятели Возрождения, обернулась во многом неразборчивым подражательством и не менее отчаянным ниспровержением всего тысячелетнего опыта христианской культуры. В результате, по признанию даже такого далекого от церковной ортодоксии исследователя, как Б. Расселл, следствием «освобождения людей от церкви явилась не способность мыслить рационально, а их готовность принять любой античный вздор. Столь же гибельным был и первый результат освобождения в нравственном отношении. Старые правила морали утратили всякое уважение…»[8]8
Рассел Б. История западной философии. – М., 2008. С. 608–609.
[Закрыть].
XV и XVI века стали временем полного падения нравов. Дворы христианских правителей представляли собой гнезда самого настоящего разврата. Достаточно прочитать сочинение аббата Брантома, чтобы составить представление об эпохе Екатерины Медичи, Карла IX и Маргариты Наваррской. Порочность Генриха III Валуа шокировала даже современников, но от правления к правлению свобода нравов только увеличивалась. Так что в начале семнадцатого столетия иностранный дипломат сообщал из Парижа об окружении короля Генриха IV: «Я никогда не видел ничего более похожего на бордель, чем этот двор»[9]9
Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558–1715 гг. – Смоленск, 2005. С. 25.
[Закрыть].
Развращенность была всеобщей, хотя и проявлялась в разной степени, в зависимости от страны, темперамента правителя и прочих особенностей. При дворе таких «благочестивых» правителей, как Филип II Испанский и Елизавета II Английская, дворяне не переодевались в женское платье, как во Франции, не устраивались оргии в духе времен Нерона и Калигулы. Но распространенные и там внебрачные связи, фаворитизм и наличие незаконнорожденных детей нисколько не вредили в глазах современников благочестивому образу королей и вельмож.
Другой важной чертой европейского общества постренессансной поры было падение нравов в среде католического священства. Причем в рядах высшей иерархии развращенность достигала совершенно невообразимых размеров. Остается только удивляться, как скупы историки культуры, взахлеб повествующие о папах римских – покровителях искусств, на правдивое описание настоящего облика этих людей.
Состояние тяжелого нравственного упадка, в котором оказалось священноначалие, красноречиво характеризует признание церковного историка, католического священника Й. Лортца: «Можно радоваться только тому, что среди тогдашних служителей Церкви все еще попадались симпатичные и добросовестные люди, хотя бы в виде исключений, подтверждающих общее неутешительное правило». Описывая положение западной церкви, Лортц употребляет еще более резкое определение – распад! Торжество идей гуманизма привело к тому, что Италия и сам папский двор стали настоящим рассадником порока по всей Европе.
Власть и образ жизни римских епископов были тяжким испытанием для людей, остававшихся верными преданиям Церкви. Надежды на исправление положения почти не было, потому что каждый новый папа оказывался еще хуже и развратнее предыдущего. После смерти Сикста IV жители Рима писали на стенах своих домов: «Радуйся, Нерон, даже тебя в порочности превзошел Сикст!» Александр VI вошел в историю как «чудовище разврата», а про папу Иннокентия VIII говорили, что он настоящий «папа», поскольку множество юных жителей города являются его внебрачными детьми, и он продолжает заселять ими улицы Вечного города…
Не было такого преступления, которое не совершалось бы под покровительством и при прямом участии римских пап. Борьба за власть, жажда наживы вела к совершению жестоких убийств, открытому грабежу, притеснению слабых. Открыто разорялись и истреблялись целые семейства с тем, чтобы их достояние передать родственникам римского первосвященника, его законным и незаконнорожденным детям. На деньги, собранные с богобоязненных крестьян по всей Европе, католические храмы украшались статуями языческих богов. Папы-меценаты, с помощью яда и кинжала уничтожавшие конкурентов и присваивавшие себе их поместья и доходы, окружали себя поэтами, комедиантами, куртизанками…
У Мартина Лютера, посетившего Рим в начале XVI века, были причины, чтобы воскликнуть в удивлении и благочестивом ужасе от увиденного: «Пороки здесь невероятны! Это самые нечестивые люди на свете…» В самом Риме не сразу оценили степень угрозы, исходящую для папства от немецких поборников очищения веры. «Монашеская склока!» – так пренебрежительно отозвался на гневную проповедь Лютера папа Лев Х, достойный сын знаменитого Лоренцо Медичи.
Реформация была неизбежной реакцией на состояние нравственного распада католической церкви. Она открыла дорогу для настоящего возрождения религиозного чувства в людях, уставших от лицемерия и цинизма папского Рима. В учении протестантизма Европа, казалось, обретает второе крещение – во всех странах появились и скоро превратились в заметную силу тысячи, сотни тысяч и, наконец, миллионы верующих, для которых христианство – стало вновь делом личного выбора, вопросом спасения души, а не формального исполнения докучливых и лишенных практического смысла обязанностей перед священником и епископом.
За учение Христа или, по крайней мере, за то, как они его понимали, эти новые христиане были готовы идти на костер, их не страшили ни пытки, ни казни. И единственное, что двигало ими – была искренняя вера. Она вдохновляла французских аристократов-гугенотов, голландских буржуа и немецких крестьян на борьбу с окружающим миром греха и порока – новым «кровавым Вавилоном».
Но движение ранней Реформации, начавшееся столь ярко, было последней вспышкой религиозного воодушевления, которое еще сохранялось в людях христианского Запада.
В действительности протестантская этика вступила в конфликт не с католицизмом, а с гуманистическим секуляризированным мировоззрением, давно подчинившим себе так называемый католический мир. Результатом этого противостояния стало образование новой европейской цивилизации. В ней не осталось места уже не только духовной аскезе, но и сами гуманистические идеалы Ренессанса претерпели значительную трансформацию.
В XVII веке происходит формирование такой системы социальных отношений и экономического уклада, при которых умаляется значение человеческой личности вообще. Абсолютизм, укрепившийся во многих ведущих европейских странах, стремится контролировать человека, подчиняя его интересы интересам государства, ограничивая частную и даже имущественную свободу. Одновременно с этим начало капитализма несет с собой дальнейшие серьезные перемены не столько в экономическом, сколько в духовном развитии Европы.
Раньше купец, торговец и ремесленник смотрели на свою профессию, как на источник дохода для обеспечения себя и членов семьи необходимыми для жизни средствами. Доход мог быть совсем небольшим, а мог и значительно увеличиваться, но в целом его предназначение определялось житейскими нуждами. Кроме того, во многом аппетиты деловых людей ограничивались естественными рамками и условиями, в которых существовал средневековый рынок товаров и услуг.
Отличие предпринимателя капиталиста от своих коллег прежнего времени состояло в том, что целью его деятельности был уже не просто доход для удовлетворения определенных потребностей, а прибыль ради прибыли, в идеале бесконечно воспроизводящая сама себя. И для достижения этой задачи к его услугам появились новые средства, в первую очередь – развитие банковского дела в современном значении слова, с возможностью безналичных расчетов за покупку и продажу крупных партий товара. Начиналась эпоха «банковских денег», оторванных от их реальной стоимости, с неизбежной инфляцией и проистекающими отсюда последствиями, эпоха спекуляций и сверхприбылей. Развитие технического прогресса и расширение связей между странами ускоряли процесс втягивания в новые экономические отношения все народы континента и за его пределами.
Главным следствием этого, по замечанию В. Зомбарта, было то, что «живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями был вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции: нажива и дело»[10]10
Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Евреи и хозяйственная жизнь. – М., 2004. С. 169.
[Закрыть].
Однако здесь пионеры капиталистической экономики столкнулись с неожиданным препятствием. Подобно купцам прежнего времени, покупатели докапиталистической эпохи руководствовались в приобретении товара житейской необходимостью, а значительную часть продукции пытались производить сами. Понятно, что такой подход чрезвычайно ограничивает возможности предпринимателя-торговца или фабриканта. Успешная погоня за прибылью предполагает постоянное стимулирование спроса и наращивание оборота. И с этого времени берет начало неуклонное раздражение потребительского спроса, выстраивание системы, при которой покупателя заставляют всевозможными способами приобретать такие товары и в таком количестве, которое не соответствует и даже входит в противоречие с действительными потребностями.
Так менялся христианский мир, утрачивая последние следы религиозного мироощущения и превращаясь в мир «европейский», содержанием которого стали рационализм мышления и материализм в культуре, где главное место заняли погоня за роскошью и удовольствиями жизни. Символом эпохи испортившихся нравов стало явление, именуемое Barocco[11]11
Барокко (ит. Barocco) – «причудливый, неправильный, дурной, испорченный» – под этим названием, происхождение которого остается спорным, объединяются художественные стили европейского искусства XVII—XVIII вв.
[Закрыть].
Именно здесь, в этом новом искусстве, с наибольшей отчетливостью предстает духовное перерождение западной цивилизации. Материальный, «мирской» характер новой культуры воинствующе антирелигиозен. Все в ней, в архитектуре, музыке, живописи, утверждает торжество плотского земного начала. С легкой руки людей, обыкновенно пишущих искусствоведческие исследования и, как правило, чрезвычайно далеких от церкви, принято восхищаться гениальностью творений художников Возрождения и Нового времени. Вместе с тем, с точки зрения традиционной христианской морали, их произведения не столько удивляют мастерством исполнения, сколько шокируют непристойностью своего содержания.
Невозможно отрицать, что откровенное изображение обнаженной натуры, бесчисленные «вирсавии», греческие богини и вакханки, сатиры и нимфы, бесстыдные оргии – эти сюжеты, бесконечно повторяющиеся и неустанно возобновляемые, способствовали в первую очередь не развитию чувства прекрасного в душах зрителей, а воспитывали вкус к разврату и распущенности.
Примечательно, что и здесь, в области искусства, как и в тенденциях политического и экономического развития, проявляется удивительное сходство среди европейских стран, которому не мешают остающиеся между ними формальные вероисповедные различия. Ярким примером может служить живопись двух школ – северной и южной Голландии, представителями которых выступали, соответственно, такие известные мастера, как Рембрандт и Рубенс.
Южная часть страны – Фландрия, находилась в свое время под значительным влиянием Испании и католицизма, а северная, собственно Голландия с центром в городе Амстердаме, была оплотом протестантизма, причем в одном из его наиболее непримиримых проявлений – кальвинизме. Искусствоведы могут сколько угодно описывать различия в технике двух выдающихся художников, обусловленные культурными особенностями среды. Но достаточно сравнить картины мастеров, например, «Вирсавия у фонтана» Рубенса и «Вирсавия в ванной» Рембрандта, чтобы понять, что их объединяет значительно большее, чем разъединяет. Они исповедуют одну философию – прославление плоти.
Даже в самой Испании, под жестким контролем инквизиции, почти в одно время с «гениальными голландцами» Веласкес пишет свою вызывающе откровенную картину «Венера с зеркалом», в которой воплотились его впечатления от путешествия по Италии и воспоминания об оставленной там возлюбленной.
Каким же образом стали возможны эти перемены в христианской культуре европейцев? И если творчество итальянских художников можно объяснить влиянием идей Ренессанса, то как могло так скоро ослабнуть напряженное религиозное чувство в мастерах из протестантских стран? Как случилось, что застегнутые в черные камзолы кальвинисты и пуритане, запрещавшие публичное веселье в Женеве и театральные представления в Лондоне, посвятившие свою жизнь молитве и борьбе с окружающим миром греха, вдруг стали покровителями искусства, прославлявшего соблазны?