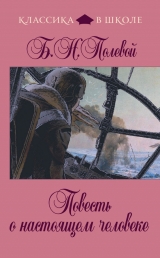
Текст книги "Повесть о настоящем человеке (Иллюстрации Н. Н. Жукова)"
Автор книги: Борис Полевой
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
4
Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушки сосен и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшей можжевельником лощинке, Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи и волосы шевельнулись под шлемом.
В то время как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен не добитым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага.
Так их и похоронила метель – хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.
Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча, с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись: «Alles fur Deutschland». Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую, обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток…
Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и густая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел то убаюкивающе-певуче, то порывисто и тревожно. По лощине тянул невидимый уже глазом, тихо шуршащий и покалывающий лицо снежок.
Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью.
Наготове был пистолет со взведенным курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков – ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.
Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чертову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело била мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было – ноги: они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого.
Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был, видно, в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя: «Спасибо, родная!» – поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей.
У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.
5
Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять-двенадцать километров, он дойдет до своих за три, самое большее – за четыре дня.
Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять-двенадцать километров? Километр – это две тысячи шагов; стало быть, десять километров – двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот-шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать…
Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры: сосну, пенек, ухаб на дороге – и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять.
Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения.
Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновенья пятой минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; а когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше.
К полудню, когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, он совершил всего четыре таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода.
Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного сала, хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки, и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать.
Перед тем как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.
6
…Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.
Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Желтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом.
Костер трещал и шипел, распространяя сухой благотворный жар. Алексею стало уютно, он опустил «молнию» комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман.
– Ничего, ничего, все будет хорошо, – сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: – Ничего…
Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем вчера.
Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдаленный звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей почувствовал, как сразу похолодело у него внутри.
Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрел по целине до густого елового подлеска и тут, зайдя в чащу, опустился на снег. С дороги его, конечно, трудно было заметить; ему же дорога была отчетливо видна, освещенная полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.
Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след. Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей еще крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневик, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свертывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневик не остановился. За броневиком шел маленький открытый вездеход. Кто-то в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофером, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зеленых шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шел еще один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.
Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахнуло теплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.
Дождавшись, пока все стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчетливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь. Он двигался теми же равномерными переходами, так же отдыхал, так же поел, пройдя половину дневного пути. Но теперь он шел по-звериному, осторожно. Встревоженный слух ловил каждый шорох, глаза рыскали по сторонам, как будто он знал, что где-то рядом крадется, прячется большой опасный хищник.
Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповрежденных врагов. Теперь он брел по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живется им здесь, неуютно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.
«Ничего, ничего, все будет хорошо!» – подбадривал себя Алексей и все шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят все острее и что он сам заметно слабеет. Желудок уже не обманывали ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время грыз и проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная и клейкая, тянущаяся под зубами кашица молодой липовой коры.
До сумерек он едва прошел пять перегонов. Зато на ночь он развел большой костер, обложив хвоей и сушняком огромный полусгнивший березовый ствол, валявшийся на земле. Пока ствол этот тлел горячо и неярко, он спал, вытянувшись на снегу, ощущая живительное тепло то в одном, то в другом боку, инстинктивно поворачиваясь и просыпаясь, чтобы подбросить сушняку к затухавшему бревну, сипевшему в ленивом пламени.
Среди ночи разыгралась метель. Зашевелились, тревожно зашумели, застонали, заскрипели над головой сосны. Тучи колючего снега поволокло по земле. Шелестящий мрак заплясал над ухающим, искрящимся пламенем. Но снежная буря не встревожила Алексея. Он спал сладко и жадно, защищенный теплом костра.
Огонь защищал от зверей. А немцев в такую ночь можно было не бояться. Они не посмеют появиться в метель в глухом лесу. И все же, пока натруженное тело отдыхало в дымном тепле, ухо, уже приученное к звериной осторожности, ловило каждый звук. Под утро, когда буря спала и в темноте над притихшей землей навис густой белесый туман, почудилось Алексею, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывы, автоматные очереди, винтовочные выстрелы.
«Неужели линия фронта? Так скоро?»
7
Но когда утром ветер размел туман, а лес, посеребренный за ночь, седой и веселый, засверкал на солнце иглистым инеем и, как будто радуясь этому его внезапному преображению, защебетала, запела, зачирикала птичья братия, почуявшая грядущую весну, сколько ни прислушивался Алексей, не мог он уловить шума боя – ни стрельбы, ни даже гула канонады.
Белыми дымчатыми струйками, колюче посверкивая на солнце, сыпался с деревьев снег. Кое-где на снег с легким стуком падали тяжелые весенние капли. Весна! В это утро она впервые заявила о себе так решительно и настойчиво.
Жалкие остатки консервов – несколько волоконцев покрытого ароматным салом мяса – Алексей решил съесть утром, так как почувствовал, что иначе ему не подняться. Он тщательно выскреб банку пальцем, порезав в нескольких местах руку об ее острые края, но ему мерещилось, что еще осталось сало. Он наполнил банку снегом, разгреб седой пепел затухавшего костра, поставил банку в тлевшие угли, а потом с наслаждением, маленьким глотками выпил эту горячую, чуть-чуть пахнущую мясом воду. Банку он сунул в карман, решив кипятить в ней чай. Пить горячий чай! Это было приятным открытием и немного подбодрило Алексея, когда он вновь двинулся в путь.
Но тут его ожидало большое разочарование. Ночной буран совершенно замел дорогу. Он преградил ее косыми, островерхими сугробами. Глаза резала однотонная сверкающая голубизна. Ноги вязли в пухлом, еще не улежавшемся снегу. Вырывать их приходилось с трудом. Даже палки, которые сами вязли, плохо помогали.
К полудню, когда тени под деревьями стали черными, а солнце заглянуло через вершины на просеку дороги, Алексей сумел сделать всего около тысячи пятисот шагов и устал так, что каждое новое движение доставалось ему напряжением воли. Его качало. Земля выскальзывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал еще несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он останавливался, цепенея и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.
Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на нее, попав подбородком в расщелину ее раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься поудобнее, он оперся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги – одну, другую, и они, не неся на себе тяжести тела, легко освободились из сугроба. И тут у Алексея опять мелькнула мысль.
Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперед, упираться в рогатку подбородком, переносить на нее тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперед. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не так будешь уставать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнутся сугробы.
Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперед, уперся в нее подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова уперся, снова шаг, два. И пошел, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.
Вероятно, со стороны было бы странно видеть человека, бредущего таким непонятным способом в глухом лесу, двигающегося по глубоким сугробам со скоростью гусеницы, идущего от зари до зари и проходящего за этот срок не больше пяти километров. Но лес был пуст. Никто, кроме сорок, не наблюдал за ним. Сороки же, за эти дни убедившиеся в безобидности этого странного трехногого, неповоротливого существа, при его приближении не улетали, а только неохотно соскакивали с дороги и, повернув голову набок, насмешливо смотрели на него своими любопытными черными глазами-бусинками.
8
Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.
Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнущий дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.
На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расчетам, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суетилась невидимая белка. Она лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовало, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просяное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовался приятный запах кедрового масла.
Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек, положил их к огню, подкинул веток, а когда шишки ощетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот.
Тихо шумел лес. Тлел смолистый пень, распространяя душистый, отдающий ладаном неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, и из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез.
Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за еловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства… Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшаяся от всенощной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья – мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький, – садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков, этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать – булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет разом в рот кому-нибудь из ребят, и при этом счастливчик ощущает губами жесткость ее трудовой, не знающей устали руки, пахнущей ради праздника земляничным мылом.
Камышин… детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..
Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тявкают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.
– Ничего, ничего, все будет хорошо! – говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимися губами каким-то своим далеким мыслям.







