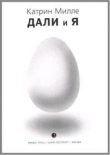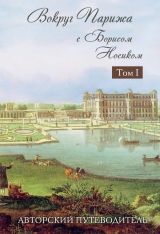
Текст книги "Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 2. Авторский путеводитель"
Автор книги: Борис Носик
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В 1648 году на место переселившихся в Париж монахов монастырь приглашает к себе на жительство тех, кого называли Пустынножителями или Затворниками (les Solitaires). В 1652 году эти знаменитые, просвещенные «господа из Пор-Руаяля» создали свои «Малые школы», где отдавали преимущество французскому языку перед латынью (и даже издали свою французскую грамматику). Среди учеников этих школ был и Жан Расин.
Против янсенизма и его школ выступили их конкуренты-иезуиты, поддержанные королем, а парижская часть монастыря отвергла долину Родона, где собирались теперь лишь «мятежники». В краткий период замирения (в 1656 году) в долине Родона Паскаль пишет свой яростный памфлет против иезуитов «Письма к провинциалу» (который был запрещен), а в 1709-м приходит указ о роспуске монастыря, который все же и позднее оставался местом паломничества.
Упомянутый выше Блез Паскаль родился в 1623 году, потерял мать, когда ему было три года (а младшей сестричке, которая стала позднее монахиней в монастыре Пор-Руаяль, и вовсе только два). Когда Блезу Паскалю было 19 лет, отца его назначили королевским налоговым инспектором в Руан, и чтобы помочь отцу в его новых расчетах, юноша изобретает «арифметическую машину». Более того, он сопровождает свое изобретение сочинениями о проблемах математики и, читая книги, приобщается к идеям упомянутого выше Сен-Сирана (Паскаль называл это своим «первым обращением»). Позднее появляются новые труды и исследования Паскаля-ученого, которому, как считают, удалось разрешить противоречие понятий единого и множества, противоречие, которое так мучило не только античных авторов, но и Монтеня. В своих «Письмах к провинциалу» Паскаль выступает апологетом религии. В то же время письма эти, по мнению высоких авторитетов, содержат элемент высочайшей комедии, несравненное мастерство комического диалога. «Лучшие из комедий Мольера, – писал Вольтер, – не содержат в себе больше соли, чем первые «Провинциальные письма». Напомню, что «Провинциальные письма» как раз и были написаны в Пор-Руаяле и в защиту Пор-Руаяля. Но в конце 1711 года случилось непоправимое: солдаты, посланные Людовиком XIV, громят и разрушают церковь монастыря, прогулочный дворик и корпуса, оскверняют и опустошают кладбище, переносят кости в соседнюю деревню…
Впрочем, сохранились в целости старинная голубятня и мельница, сохранился дом Пустынножителей, а ныне открыт здесь музей янсенизма. Остаются следы старых зданий, живыми остаются дух монастыря и его притягательность для подвижников веры. С духом справиться трудно, «дух дышит где хочет».
Трудно даже сказать, что́ именно удалось перенести для захоронения в храме на горе Сент-Женевьев в Париже жене погребенного близ своего учителя в Пор-Руаяле драматурга Жана Расина, так мало при жизни помнившего строгие уроки наставников…
Так или иначе, мы с вами совершили паломничество в эти святые места и можем отправляться дальше.
Расставшись с призраками аббатства, мы поднимемся на лесистое плато, что находится южнее былого Гранжа, и подойдем к городку Мениль-Сен-Дени (le Mesnil-Saint-Denis). Первой нам попадется церковь, на фасаде которой – замечательные барельефы XVII века, а внутри – каменные статуи, скамьи XVIII века и статуя Богородицы XIV века.
Мэрия городка разместилась в замке Абер, построенном в конце XVI века для Луи Абера де Монмора. Прославленная писательница маркиза де Севинье бывала здесь в гостях у академика Монмора, и, если есть у вас под рукой ее замечательные письма, вы непременно найдете в них что-нибудь о ее беседах с ученым Монмором.
В здешнем лесу прятались строения старинного аббатства Сен-Дени, а чуть подальше, в Муссо, стоял более поздний монастырь Святого Сердца. Но, конечно, самым старым и знаменитым здешним аббатством было аббатство монахов-августинцев Нотр-Дам-де-ла-Рош (Notre-Dame-de-la-Roche) XII–XIII веков, расположенное в девяти километрах к северо-востоку от этих романтических мест. Оно было основано в 1196 году одним из представителей уже упомянутого нами рода де Леви, владевшего этим краем, – его звали Ги де Леви Первый. Выходцы из этого рода прославились во время крестового похода против альбигойцев, где они сражались бок о бок со своим знаменитым здешним соседом Симоном де Монфором. В церкви аббатства Нотр-Дам-де-ла-Рош можно увидеть надгробие семьи де Леви, однако наибольший интерес представляют в этой церкви самые древние и наименее затронутые переделкой и реставрацией элементы строения, скажем, остатки здания XIII века в форме латинского креста, портал церкви, тимпан, скульптуры в интерьере и даже скамьи, может быть, самые старинные скамьи в целой Франции. Среди наиболее старых и впечатляющих скульптур в интерьере церкви можно назвать резное распятие XVI века с фигурами Богородицы и святого Иоанна, а также полихромную каменную статую Иоанна Крестителя, которую иные из экспертов сдержанно называют «трогательной», а иные находят попросту прекрасной. Из интересных элементов старинной архитектуры, дошедших до наших дней, можно назвать и восьмиугольные колонны, поддерживающие галерею в зале капитула.
Кстати, ведь и в родовом гнезде семьи Леви, в Леви-Сен-Ном, сохранилось немало остатков старинных строений – интереснейший старинный портал местной церкви, старинные окна и двери в остатках стены и прославленная, XIV века, полихромная каменная (лицо и руки у нее из мрамора) статуя Богородицы, перенесенная сюда из аббатства Нотр-Дам-де-ла-Рош.
Продолжая нашу прогулку к востоку, мы выйдем к деревне Сен-Форже (Saint-Forget), где на былом городище, в живописнейшем уголке в отдалении от деревенских домов, стоит старинная церковь, сохранившая элементы романской архитектуры. На деревенском погосте, окружающем церковь, можно увидеть крест XVI века с резьбой, представляющей сцены Крестного Пути Господа. В самой деревушке издалека виден широкий белый фасад замка Мовьер со скульптурными украшениями в виде раковин и рогов на фронтоне. Владельцев этого замка прославили не крестовые походы против альбигойской ереси, а стихи, романы и драмы, и главное – одна знаменитая драма XIX века, равно любимая и французами и русскими. Недавно, во время столетнего юбилея этой драмы, и ее поклонники, и многие обитатели долины Шеврёз впервые узнали, что прототип героя ростановской драмы «Сирано де Бержерак», сам поэт и писатель XVI столетия (Мольер, между прочим, использовал его сюжеты), автор стихов и утопических романов, вольнодумец Сирано де Бержерак, был родом отсюда, из замка Мовьер, и вовсе не был никаким гасконцем. Об этом сообщено было в юбилейные дни широкой публике и парижским актерам, среди которых были Жан-Поль Бельмондо, потомок первого исполнителя роли Сирано месье Коклен и прочие знаменитости, собравшиеся в замке на открытие выставки, посвященной славному писателю-прототипу, самому Сирано.
– Вот те на! – воскликнули знаменитости, услышав объяснения историков. – А почему же он де Бержерак?
– Вот те на! – воскликнул и затесавшийся в толпу автор этой книги, на всю жизнь запомнивший женские слезы на дешевых местах балкона в театре Вахтангова вскоре после войны. Воскликнул и, к изумлению иноязычной публики, стал вслух цитировать гениальный русский перевод Татьяны Щепкиной-Куперник: «Дорогу гвардейцам-гасконцам!»…
Увы, все объяснялось просто. Замок Мовьер (Mauvières) некогда (и в XV, и в XVI веках) называли в этих местах также замком Бержерак, по имени прежнего его владельца, который и вправду был гасконский дворянин. Один из последующих владельцев замка, месье Абель де Сирано, который приходился отцом будущему писателю Сирано де Бержераку, замок продал, но решил оставить при себе благородное название замка, присовокупив его к своей фамилии: так оно выходило не в пример аристократичнее, Сирано де Бержерак. По наследству фамилия досталась и сыну, вольнодумцу-писателю XVII века, автору пьес и двух утопических романов, напечатанных, увы, после его смерти (не теряй надежды, живущий!). Историю всех этих переименований услышал однажды (два с лишним века спустя) известный драматург, усатый красавец Эдмон Ростан, гулявший по дорожкам замкового парка со своей супругой Роземондой. И вот в 1897 году он написал знаменитую драму «Сирано де Бержерак», которая и ныне не теряет своей популярности. Вскоре после ее написания драму эту в один присест перевела на русский язык талантливая писательница-переводчица Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, правнучка русского актера Михаила Щепкина. Понятно, что это ее русские, а вовсе не ростановские французские строки я вспоминаю, гуляя по долине Шеврёз близ замка Мовьер или по Старому Арбату близ Вахтанговского театра в Москве. Декламирую, умиляюсь, вспоминаю, ибо что толку в прогулках без светлых воспоминаний?
…Если свернуть от замка Мовьер к югу, то попадешь в окруженную лесом деревушку Шуазёль (Choiseul). Хотя тамошняя церковь XIII века была сильно перестроена в XVII веке (тоже, между прочим, не вчера), в ее интерьере сохранилось немало истинных шедевров старого искусства.
А над живописной долиной Шеврёз царит в этих местах окруженный рвом великолепный замок Бретёй (Breteuil), который начали строить в 1580 году и достроили лишь в прошлом веке. Несмотря на разрыв во времени, строителям удалось сохранить единство стиля. Что же до окружающего замок французского парка с его партерами и рядами подстриженных кипарисов, то им занимались на заре XX века такие архитекторы-пейзажисты, как Анри Дюшен и его сын Ашил. Экскурсанты сонно бродят по залам и коридорам старинного замка, разглядывая мебель XVIII века, гобелены и знаменитую, украшенную полудрагоценными камнями, работы дрезденского ювелира скрижаль Европы, подаренную австрийской императрицей Марией-Терезией французскому послу в Вене барону де Бретёю за его заслуги при заключении прусско-австрийского мира в 1779 году. Восковые фигуры в залах, в сохранившей старинный облик кухне и замковых конторах то ли оживляют старину (согласно замыслу), то ли, напротив, помогают тебе понять, что сам ты все-таки еще жив…
У представителей семьи Бретёй, среди которых были министры времен Людовика XV и Людовика XVI, немало заслуг перед монархами и народами. Что касается барона Анри де Бретёя, послужившего прототипом для прустовского маркиза де Бреоте, то он уже в недавнем XX веке был творцом Тройственного союза – Антанты. Надо сказать, что нынешние наследники знаменитого рода вложили огромный труд и большие средства в поддержание знаменитого замка, который стал видным центром культурной жизни этого живописного уголка долины. После экскурсии по замку, после концертов, спектаклей, конференций, выставок и дискуссий посетители обычно разбредаются по огромному, площадью в 70 гектаров, замковому парку, где есть укромные уголки для пикников, для игр, для поцелуев, для размышлений, есть все «что угодно для души», в том числе и домик Красной Шапочки, а может, и ее бабушки, проглоченной волком. Впрочем, не огорчайтесь, волков больше нет, да и в истории с бабушкой, если помните, все кончилось вполне благополучно. Ибо, как говорил герой Вольтера, все к лучшему в нашем лучшем из миров.
Нагулявшись по долине Шеврёз и наслушавшись рассказов про королей и герцогов, мы вступаем (от Жиф-сюр-Ивет и лежащего напротив, на правом берегу реки, Бюр-сюр-Ивет) в долину реки Ивет, где мало-помалу приходим к выводу, что речку эту, ее долину и кольцо между Ивет и Бьевром прославят вовсе не коронованные головы (têtes couronnées), а те, кого, переводя буквально, называют «большие головы» (grosses têtes), или, переводя без буквализма, башковитые люди (светлые головы, люди, у которых, как любила говорить моя бабушка, «открытая голова»).
Конечно, в Жиф-сюр-Ивет (Gif-sur-Yvette) можно увидеть также остатки бенедиктинского аббатства, основанного в 1170 году, а на правом берегу реки видны остатки часовни XVII века и замка Шатофор, последняя владелица которого, мадам Жюльет Адам, до самого 1936 года принимала в нем весь цвет французской политики и литературы. Даже резные лавки в местной церкви не новые, а XV века, а на улице Альфонс-Пекар до сих пор красуется замок Вальфлёри. Это все правда. Но правда и то, что в замке этом ныне Центр ядерных исследований, который гостеприимно принимает ученых гостей со всего мира («светлые головы»). Другой старинный замок, тот, что на улице Гюстав-Ватон, сохранил замечательное внутреннее убранство – гобелены и живопись, но и этот замок использует для своих целей французский Национальный центр научных исследований (CNRS). Обилие научных учреждений, ученых мужей и жен определяет новый облик долины реки Ивет. Жиф-сюр-Ивет вместе с местечком Бюр-сюр-Ивет (Bures-sur-Yvette) и более крупным поселком Орсэ (Orsay) представляют сегодня, по существу, один конгломерат с исключительно высокой концентрацией того, что ныне любят торжественно называть «серым веществом»: речь идет о сером веществе мозга.
Кроме Центра ядерных исследований и множества лабораторий CNRS, в этих местах раскинули свои корпуса Университет науки, Высшая политехническая школа, Центральная школа Искусств и Ремесел, Высшая национальная агропромышленная школа, Институт оптометрии, Высшая школа геометрии, Технический центр авиапромышленности, Национальный институт исследований в области прикладной химии. Все это знаменитые, весьма престижные учебные и научно-исследовательские учреждения. Самым старым и, вероятно, наиболее по этой причине престижным из них является Высшая политехническая школа. Она была открыта в годы Революции – 11 марта 1794 года – и называлась тогда Центральной школой публичных работ, но вскоре получила свое нынешнее название и была поставлена под эгиду министерства обороны. Выпускники Школы получают законченное техническое и военное образование, а по окончании им присваивают офицерское звание. В последние четверть века сюда стали брать на учебу и девушек. Имена выпускников этой Школы блистали и в армии, и в правительстве, и в науке Франции – Луи-Жозеф Гей-Люссак, Франсуа Араго, Огюст Конт, Анри Пуанкаре, Андре Ситроэн, маршалы Фош и Жоффр…
Но, конечно, самым удивительным из всех научных учреждений этой долины является не слишком даже известный во Франции Институт высших научных исследований (IHES), приютившийся в Бюр-сюр-Ивет, в огромном парке, дорожки которого не менее, чем лаборатории, залы и салоны, располагают к главному здешнему занятию – к размышлению. Здесь размышляют над теоретическими проблемами математики и физики (ныне еще отчасти и биологии), и французы гордятся тем, что французская школа математики стоит сейчас в мире на третьем месте, уступая разве что только американской и русской. Впрочем, если дела в России не поправятся, может, у Франции появится со временем возможность (не без участия русских grosses têtes) поменяться местами с нашей страной талантов.
История Института в Бюр-сюр-Ивет, этого светского монастыря ученых, вполне открытого, впрочем, для внешнего мира, заслуживает особого рассказа.
Начать можно с России или даже дальше – с США: помянуть в этой связи американский Принстон, точнее даже, основанный в 1930 году в Принстоне Институт высших исследований, где работали Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн и Джон фон Ньюман, будет вовсе не лишним. Французский Институт высших научных исследований лет на тридцать помоложе принстонского прославленного центра, да и возник, скорей всего, не без оглядки на Америку, хотя основатель его пришел с другой стороны – из России. Звали этого человека Лев Мочан, и родился он 10 июня 1900 года в русско-швейцарской семье в царственном Петербурге, так сказать, «на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель».
Начало университетских занятий физикой и математикой у молодого Мочана совпало, как легко догадаться, с большой заварухой в России, и он принял по молодости лет какое-то участие в студенческих беспорядках (сын Мочана Жан-Лу мне даже хотел рассказать, что его отец видел Ленина живым, но я перевел разговор на менее волнующие темы). Позднее молодой Мочан все же решил, что надо продолжать ученье, и благоразумно уехал в Швейцарию. Там он и продолжил учебу, зарабатывая при этом на жизнь плотницким ремеслом. В начале двадцатых годов он перебрался в Берлин, где попробовал свои силы в предпринимательстве, и наконец обосновался в Париже. Среди прочих его занятий была тогда организация банановых плантаций во Французской Гвиане, науки временно отошли на второй план. В 1938 году Лев Мочан получил французское подданство, а после начала «странной войны» ушел добровольцем во французскую армию. В 1940-м он был демобилизован, но не счел войну оконченной и примкнул к Сопротивлению. Любопытно, что именно в годы оккупации, когда он скрывался под именем Тимерэ, он напечатал в подпольном издательстве «Эдисьон де минюи» два научных трактата – «Элементы доктрины» и «Терпеливая мысль». После войны, не бросая самых разнообразных своих дел, этот энергичный человек все больше и больше времени уделяет науке, печатает труды по математике и физике в отчетах Академии наук, а пятидесяти четырех лет от роду защищает докторскую диссертацию по математике. К этому времени идея создания совершенно особого типа независимого научного учреждения, которое объединит людей «терпеливой мысли», уже сложилась в его голове. Во время поездки в гости к брату-инженеру, жившему в американском штате Нью-Джерси, Лев Мочан при посредничестве работавшего в Принстоне французского физика сумел встретиться с Робертом Оппенгеймером, которому он изложил свою идею и с которым сумел подружиться. Идея казалась утопической и неосуществимой: создать научно-исследовательский институт чистой науки, фундаментальных исследований в области физики, математики и научной методологии. Управляться институт, по мысли прожектера, будет директором, переизбираемым ученым советом на четыре года (не больше чем на два срока в общей сложности), а ученый совет будет избираться из профессоров института и из пришлых – на шесть лет. Самих же профессоров будут приглашать «на всю жизнь», они должны будут присутствовать в институте не меньше шести месяцев в году, и жалованье у всех будет одинаковое. А назначать их, равно как и избирать директора, сможет только ученый совет – без какого бы то ни было вмешательства администрации.
Оставалось самое трудное: найти деньги. Поначалу Мочан сумел уговорить промышленников, которые вложили деньги в его научную утопию. И вот летом 1958 года возник этот Институт. Мочан стал его директором – и занимал этот пост до своей отставки в 1971-м. Он дорожил традициями и принципами Института, и когда два администратора, представлявшие нефтяные компании и большие деньги, попытались войти в ученый совет, Мочан не пошел на компромисс, и деньги были потеряны. Зато в то же примерно время советник генерала де Голля Лелонг добился для Института регулярной государственной помощи. Государство еще в 1961 году признало «общественную полезность» (как тут принято говорить) необычного Института. Французские меценаты и сейчас продолжают делать вклады в этот маяк науки на уровне 6 %, а иностранные – на уровне 16 % институтского бюджета. Остальное дает государство.
Так возник этот IHES, вставший в один ряд с такими мировыми заповедниками науки, как уже упомянутый мной Институт в Принстоне, как Институт Макса Планка в Бонне, как Институт математических исследований в Беркли или Институт Исаака Ньютона в Кембридже. И можно сказать, что это был еще один вклад русской эмиграции в мировую и французскую науку. Один из многих.
Математикам не дают Нобелевской премии. Для математика эквивалентом этой престижной награды является медаль Филда. Первым в Институте медаль Филда получил Александр Гротендик, за ним Рене Том, Пьер Делинь, Алэн Конн, Громов, Концевич и многие другие. Это они и обеспечили Франции третье место в мировой математике.
Итак, существует институт-монастырь, петляют дорожки огромного парка, по ним бродят гении, у которых голова варит лучше, чем у прочих людей, – во всяком случае, в узкой сфере математики и физики. Институт и парк уже овеяны мифами и легендами. Кроме мифической фигуры русского Мочана, в них – фигуры Гротендика и Дьедонне, геометра Михаила Громова (от которого я услышал замечательное рассуждение о заранее запрограммированной посредственности и бездарности современной средней школы) и, наконец, этого молодого русского, уже получившего в свои тридцать четыре года медаль Филда, – Максима Концевича. Как они попали сюда?
Как я уже упоминал, в годы войны резистант Лев Мочан издал в подпольном издательстве два трактата, в одном из которых содержался призыв ко всем, у кого «щедрое сердце, острый ум, упорство стремлений и долготерпение мысли». А в 1958 году Мочан сумел создать для людей, обладающих перечисленными им качествами, свой Институт высших научных исследований. Наряду с французами в него пришли иностранцы и даже представители странного племени, которые в эпоху фашизма и большевизма звали себя «апатридами», людьми без отечества. Они не отрекались от отечества, просто отечество их выгнало, выжило, угрожая смертью. Это были поначалу люди из сталинской России и гитлеровской Германии, потом люди из Китая, Чехословакии, Камбоджи, Румынии, Аргентины… Одним из первых апатридов в Институте был профессор Александр Гротендик, бежавший когда-то от Гитлера и оставшийся без отечества. Лауреат филдовской медали, гордый апатрид, человек без отечества, получив в Институте «пожизненного профессора», не остался в нем до конца жизни. В 1971 году он обнаружил, что часть сумм, выданных ему на исследования, поступила из военного исследовательского центра. У великого математика и апатрида Гротендика были свои твердые принципы – на войну он работать не мог. Он ушел из Института, отказавшись от пожизненного спокойствия. Какое-то время он работал в Монпелье, но дальше следы его теряются. Говорят, он прячется у каких-то «защитников природы», никому не дает свой адрес… Но Институт продолжает существовать, и ни имя Гротендика, ни его традиции здесь не забыты…
Итак, существует Институт с пожизненными званиями и окладами для гениев… Остается искать гениев. Поисками их занимаются ученый совет и нынешний директор Института, симпатичный математик Жан-Пьер Бургиньон. Ищут всеми способами. Однажды математик Эли Картан увидел в китайском ресторане что-то самозабвенно пишущего человека. Человечек восточного типа мог оказаться кем угодно: поэтом, кляузником, сумасшедшим, влюбленным… Китаец Be Шуши (мывший здесь по вечерам посуду) оказался великолепным математиком и беженцем от насилия, апатридом, как Гротендик. Он стал здешним «пожизненным» профессором. Последней по времени находкой Института в Бюр-сюр-Ивет и его директора (находкой, которой директор очень гордится) был молодой красивый русский Максим Концевич. Конечно, он пришел не с улицы, не мыл посуду в китайском ресторане: он москвич, представитель очень сильной русской математической школы. До Бургиньона его заметили и в Бонне, и в Беркли, и в Принстоне, но нынче он здесь, под Парижем… Он уезжает читать лекции и возвращается. Он говорит, что здесь максимум свободы.
Всем известна его боннская история. Он там гостил три месяца по приглашению Института Планка и, по его признанию, все три месяца ничего почти не делал. А за несколько дней до его отъезда было там у них какое-то рабочее заседание, четыре сотни математиков обсуждали свои проблемы, говорили о задачах и теоремах, которые не поддаются решению и доказательству. И между всем прочим знаменитый математик сэр Майкл Атайэ, лауреат медали Филда, изложил одну из неразрешимых проблем, теорему, которой никто не может дать доказательства. Несколько десятков человек слушали, очень внимательно, думали, и тут Максим Концевич понял, что он, вероятно, сможет разрешить эту проблему. Он вообще считает, что на каждую, самую неразрешимую проблему должен найтись свой специалист. Тогда, в Бонне, он выдвинул собственную гипотезу и за остававшиеся ему три дня разработал систему доказательств. Это произвело такое большое впечатление на руководителя Института Планка, что он пригласил двадцатисемилетнего математика в Бонн еще на год. За этот год Максим написал докторскую. Потом его пригласили в Принстон, еще через год – в Беркли и, наконец, в долину реки Ивет, в Бюр-сюр-Ивет – насовсем. Бургиньон свято верит в его способность разрешать самые запутанные проблемы. Убежден, что этот молодой и вдобавок моложавый русский, ему на вид лет двадцать пять, еще удивит мир, откроет какую-то иную реальность. Коллеги высоко ценят разносторонность его профессиональных интересов и умение проникнуть в глубину проблемы. Все давно заметили его любимое выражение: «если взглянуть глубже». И еще одно: «в более глубоком смысле». Так что никто не удивился минувшим летом, когда Концевичу присудили медаль Филда.
Сам лауреат сидит за компьютером, отвечает на письма, читает ежедневно десяток новых статей по математике и ждет прихода новой идеи. Он вовсе не собирается успокоиться, удостоившись высшей награды математиков. И конечно, он доволен, что ненаучных забот в долине реки Ивет сильно поубавилось. И что жене так нравится Париж… Иногда, впрочем, он беспокоится, как там родители на берегах Москвы-реки, где он вырос. Его талант, которым так гордятся в долине реки Ивет под Парижем, отметили еще, конечно, дома, в его интеллигентной московской семье, где мать – инженер, отец – лингвист и знаток средневековой Кореи (старший брат, который стал специалистом в области биологии и информатики, сейчас трудится на другом берегу Атлантики, в Сан-Франциско). Четырнадцати лет от роду Максим поступил в московскую математическую «спецшколу», шестнадцати – в университет, в семнадцать написал первую научную статью. Учился он у русских математиков, о которых в долине реки Ивет говорят с большим пиететом: «О, русская школа!» То, что еще один гений попал в эту страну «башковитых», в долину реки Ивет, неудивительно. Но, конечно, чтоб все сложилось как положено, нужна и удача.
Об этом думается на берегах речки Ивет – и в научном Жифе, и в Бюре (принадлежавшем некогда возлюбленной Франциска I герцогине Этампской), и в Орсэ, и даже в уже почти городском Палэзо, где вам напомнят, что начиналась слава этих «башковитых» мест тоже, конечно, с голов коронованных, с монархов, вроде сына Хлодвига короля Хильдебера I, чей дворец и размещался в старинном Палэзо. Ныне республиканский Палэзо, похоже, больше, чем сыном Хлодвига, гордится легендарным воинственным подростком времен революции Жозефом Бара, который отказался кричать «Да здравствует король!» и был заколот тоже вполне легендарными вандейцами. В Палэзо жила некоторое время легендарная феминистка романтического века Жорж Занд, а поблизости, у вокзала Лозэр (тогда Лозэр еще не был поглощен Палэзо), – поэт Шарль Пеги. От стародавних времен в Палэзо уцелело не так много: башня XII века, примыкающая к церкви Святого Мартина, неф XV века и еще некоторые элементы той же старинной церкви. На улице Сороки-Воровки (Пи-Волёз) сохранились остатки цистерны XIII века, да вообще в этом перенаселенном углу долины еще можно здесь и там наткнуться на остатки старинных дворцов, замков и храмов. С незапамятных времен французская знать любила селиться в этой живописной местности неподалеку от Парижа. К северу от Орсэ, у края плато Секлэ, до сих пор вздымает к небу свои башни замок де Корбевиль, заложенный в 1520 году и достроенный в 1605-м. Он принадлежал семейству Арно, в середине 1920-х годов в нем проводил лето Рахманинов, а сегодня в нем размещается администрация знаменитой компании «Томсон».
От Палэзо течение Ивет уходит к юго-востоку, и там, в излучине реки лежит древний городок Лонжюмо (Longjumeau), который в прежние годы очень любила столичная аристократия. Впрочем, и в далекой древности свято место не бывало пусто. Археологические раскопки, произведенные лет тридцать тому назад под зданием местной больницы, позволили найти некрополь меровингской эпохи. Лонжюмо владели некогда граф Дрё Робер Французский, герцог Бретонский и герцог Анжуйский, а в XIII веке здесь размещалась командерия ордена рыцарей-храмовников (тамплиеров).
О древности этого поселения свидетельствует и здешняя церковь Сен-Мартен-де-Тур. Считают, что церковь на этом месте стоит с меровингских времен, хотя нынешнее ее здание было воздвигнуто не ранее 1250 года. Церковь строил придворный архитектор и художник Людовика Святого Гуго Пьедуа. Конечно, церковь не могла пережить Великую революцию в нетронутости: с главного портала доблестные революционеры содрали все статуи. Зато близ левого портала уцелела круглая башня, которую здесь зовут «трубой» или «лампой усопших». Здешняя квадратная колокольня сохраняет еще основание XIII века, однако колокол на ней новый, времен Первой империи. Зато сохранились в интерьере церкви кое-какие полотна XVII века и «Тайная вечеря» Симона Вуэ. Ныне близ церкви открыт археологический музей, где можно увидеть и самые последние находки.
Гуляя по Большой (или, может, Главной) улице Лонжюмо (такая Grande rue от века существовала в любой французской деревне), увидишь замок Нативель времен Людовика XV. Как и положено замку, он стоит у края парка, а восстановлен он тщательно и со вкусом, ибо размещается в нем новая власть – городская мэрия.
Если двинуться от церкви в сторону Корбея, то близ деревушки Бализи можно увидеть старинный мост Тамплиеров, единственное, что уцелело от эпохи храмовников. Сорокаметровой длины, он и есть самый старый мост в округе Парижа. В начале XX века у основания одной из его арок найден был вырезанный из камня Иерусалимский Крест, символ ордена тамплиеров.
В Доме Кателан, что стоит на Большой улице (дом № 135), в 1568 году было подписано перемирие католиков и гугенотов, давшее Франции небольшую передышку в войне, которая раздирала страну чуть не сорок лет (с 1559-го по 1598-й). Перемирие (или «мир Лонжюмо») давало гражданам свободу отправления своего культа везде, кроме Парижа и некоторых других городов, где свобода существовала только для католиков. Еще тридцать лет спустя условия «мира Лонжюмо» легли в основу знаменитого Нантского эдикта, покончившего с Религиозными войнами во Франции, как выражаются французские источники, «окончательно». Формулировка эта (в ситуации оживления второй, весьма молодой и энергичной религии во Франции – мусульманской) представляется мне слишком оптимистической…
Лонжюмо был некогда знаменитой почтовой станцией на пути к Парижу. Именно в этом качестве прославил его еще в 1836 году в своей комической опере «Форейтор из Лонжюмо» некий Адольф Адам. Форейтор – это, можно сказать, ямщик, и мне, как патриоту родной литературы, вспомнилось, что задолго до А. Адама похожую комическую оперу написал Николай Львов. В ней речь шла о валдайском и зимогорском ямах и ямщиках. Прославить Валдай Львову не удалось, как не удалось А. Адаму прославить свой Лонжюмо. За прославление Лонжюмо взялся в новейшую эпоху знаменитый советский поэт Андрей Вознесенский, написавший поэму «Ленин в Лонжюмо». Поэма была подцензурная, так что много из нее не узнаешь – ни про Лонжюмо, ни про Ленина, но остались и помимо заказной поэмы кое-какие письма, так что можно припомнить, что же все-таки случилось с Лениным в Лонжюмо.