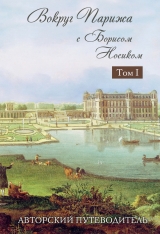
Текст книги "Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 1. Авторский путеводитель"
Автор книги: Борис Носик
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Маленький Ла-Ферте-Милон с достойной бережностью хранит память о своем великом сыне. В мэрии городка стоит великолепная мраморная статуя Расина, которую заказал знаменитому скульптору Давиду Анжерскому, а в 1820 году преподнес Ла-Ферте-Милону король Людовик XVIII. Как писал творец этой статуи, он был глубоко удовлетворен тем, что ему удалось «избавить автора «Андромахи» от всей ветоши той эпохи» и представить «человека, погруженного в глубокое раздумье». Стендаль восхищенно писал, что «благодарная эта статуя исполнена трагического размышления, которое молодой Давид дерзнул придать полуодетой фигуре».
Властям маленького (и не слишком богатого) городка удалось спасти от разрушения и отреставрировать старинный расиновский дом и даже устроить в нем, пусть еще и не слишком пока богатый документами, музей Расина. Иные из документов открывают все же некоторые стороны творческой, духовной или разгульно-светской жизни драматурга. Очень любопытным представилось мне письмо монахини Пор-Руаяля тетушки Агнесы, которая, узнав, что племянник твердо решил связать себя с театром, порвала с ним всякие отношения и написала ему в 1663 году следующее:
«Я с горечью узнала о том, что вы чаще, чем когда-либо, посещаете людей, которые всем, кто хранит хоть толику благочестия, представляются омерзительными… Заклинаю вас подумать о спасении своей души и, поглубже заглянув в свое сердце, осознать всю глубину бездны, перед которой вы стоите».
Комментируя это музейное письмо отсталой и политически неграмотной тетушки-монахини, современные авторы лишь разводят руками: что с нее взять, с тетушки, и какое счастье (для великого французского театра), что молодой Расин не обратил внимания на этот лепет. Но вот, стоя над этим курьезным экспонатом из провинциального музея, я вдруг подумал о том, что ведь и сам я, после более или менее близкого знакомства с миром кино и театра, вряд ли пожелал бы своим детям стать киношниками или театральными работниками… Что же до пугающей тетушку «бездны», то понятно, что Расину не терпелось в нее погрузиться. Все мы были когда-то и молоды и ненасытны…
Манящий восток
Сперва на северо-восток: за баснями, жестокими романами и «несвоевременными мыслями»
Бонди Ренси • Ганьи • Шель • Война на Марне • Вильруа • Мо-Жуар • Ла Ферте-су-Жуар • Шато-Тьери • Лафонтен • Франко-американский монумент
Если из покалеченного беспорядочной застройкой северо-восточного пригорода Парижа вырваться на госдорогу № 3 (Nationale 3), то можно будет через пяток минут отвести душу в тихом, сохранившем садики и всяческие прелести Прелестной эпохи (то бишь Бель Эпок) городке Ле-Ренси (le Raincy). Впрочем, еще и до того, как добраться до Ренси, русский путешественник, читая придорожные надписи, непременно вспомнит о победе русского оружия в Пантене, а может, и сделает («по силе возможности») остановочку в городке Бонди (Bondy) – y того единственного строения на авеню Генерала Гальени (дом № 9), что уцелело от былого замка Бонди. Потому что такие названия, как Пантен и замок Бонди, «не пустой звук для русского уха» (как выразился однажды о своем собственном имени один покойный писатель, Царствие ему Небесное). Между Пантеном и Роменвилем после упорных боев русские войска под водительством графа Барклая де Толли одержали 30 марта 1814 года решительную победу над французами, за что граф был возведен Его Величеством императором Александром I в звание фельдмаршала. Что же до самого наступления на Париж, то оно было предпринято после военного совета, имевшего место 29 марта 1814 года в замке Бонди, куда в тот же день прибыл русский император Александр I и где разместился штаб союзников. В военном совете приняли участие прусский король и военно-политические деятели вроде Шварценберга, Блюхера, Барклая де Толли и графа Нессельроде. Вот как рассказывал (если верить запискам отставной голландской королевы Гортензии) об этом совещании сам русский император в интимной беседе с этой бывшей падчерицей Наполеона:
«У ворот Парижа все генералы сошлись во мнении, что не следует делать попытки взять столицу. Боеприпасов у нас оставалось едва на сутки, потому что император Наполеон заставил нас изменить путь и отрезал нас от обозов. Если бы Париж продержался сутки, мы, может, потерпели бы поражение. Я в единственном числе, один против всех, выступал за наступление. В полном смятении я удалился к себе после совещания…
Я горячо молил Бога, я уверовал, в моей душе больше не было сомнений в успехе».
На рассвете 31 марта в замок Бонди прибыла, чтобы объявить о сдаче города, делегация парижского муниципалитета. Делегацию препроводили в императорские апартаменты на втором этаже, и, если верить мемуарам парижского префекта Этьена Пакье, делегаты услышали от русского императора следующее:
«Так что, господа, передайте парижанам, что я не врагом вхожу в стены их города, а почитаю их только что за друзей: однако скажите им также, что один-единственный есть у меня враг во Франции и с ним я не примирюсь».
Речь, как понимаете, шла о вероломном Наполеоне I.
Вскоре русский император подтвердил эту свою решимость, потому что не успела муниципальная делегация покинуть замок, как туда прибыл маршал Коленкур с мирными предложениями Наполеона, но этот гордый аристократ не был принят русским императором. Напротив, ему объявили, что союзные войска вступают в Париж и тем празднуют победу над врагом.
В восемь утра русские и австрийцы выступили в направлении Парижа. Возглавлял войска русский император, ехавший верхом на сером жеребце, подаренном ему Наполеоном. По дороге к союзникам присоединились прусский король и его гвардия. А в это время толпы парижан собрались уже у городских ворот Сен-Мартен и дальше по бульварам – до самой Вандомской площади, столь часто в эти бурные годы менявшей как название свое, так и увенчание знаменитой Вандомской колонны (в тот момент на вершине ее гордо красовался Наполеон Бонапарт), и дальше – вдоль всех Елисейских Полей… Хотя большинство русских мемуаристов свидетельствуют о заведомо праздничном настроении и победителей и побежденных, ни та ни другая сторона не могла представить себе, в какой ликующий праздник превратится для русских и для парижан этот день 31 марта, один из великолепных дней русской истории.
Что до исторического замка Бонди, то он был разрушен сравнительно недавно, в 1848-м, после того как городок стал стремительно расти в связи с открытием (в 1827 году) судоходства по каналу Урк. Зато нынче можно воспользоваться этой новинкой (то бишь каналом) для успокаивающего нервы неспешного путешествия с северо-восточной окраины Парижа аж до самого что ни на есть Шато-Тьери. Лес Бонди от этой пригородной застройки пострадал сильно. К 1859 году его чуть не весь поделили на участки, и теперь напоминают о нем лишь построенные в 1780 году для герцога Орлеанского Лесные павильоны из местного камня, обозначавшие въезд на территорию замка Ренси. Из прочих достопримечательностей – в сравнительно нестарой церкви Сен-Пьер в Бонди сохранился XVI века (1556 года) надгробный камень Онорин де Бовэ.
Сам городок Ренси, что лежит к югу от госдороги № 3, известен чуть не с начала XII века, когда там поселились бенедиктинские монахи из Шартра. В XVII веке земли эти приобрел королевский финансовый секретарь, который поручил здесь постройку замка архитектору Ле Во (тому самому Le Vau, что застроил в Париже остров Сен-Луи), украшение его поручил Ле Брену (Le Brun), а разбивку сада – самому Ле Нотру (Le Nôtre). Увы, от замка ничего не осталось, а сад в середине XIX века был разбит на участки, на которых теперь можно увидеть все разновидности частных вилл, какие только были в моде за последние полтора столетия. Но все ж виллы не хрущобы, да и стоят они на зеленых бульварах и аллеях. Так что он симпатичный, в общем-то, городок Ренси. Ну а для тех, кого влечет современная архитектура, городок этот и вовсе находка, ибо здешняя церковь Богоматери (Notre-Dame) – первая в мире железобетонная церковь. Спроектировал ее в 1922–1923 годах (и, как считают знатоки, весьма удачно спроектировал) знаменитый французский архитектор Огюст Пере (он же строил Театр Елисейских Полей в Париже и башню в Амьене), заставивший серьезных специалистов говорить о рождении «бетонной эстетики». Церковь украшают витражи Мориса Дени.
Морис Дени (знаменитый теоретик и пророк школы «наби») создал, в частности, и фреску на тему «Битва на Марне», воспроизводящую эпизод Первой мировой войны (разговора о битве на Марне нам, конечно, не избежать), когда все такси долины Марны (это было 7 сентября 1914 года) съехались на площадь Мэрии в городке Ганьи (Gagny). Название городка Ганьи (ныне, впрочем, разросшегося до изрядных размеров, как большинство пригородных городков под Парижем) часто встречается в письмах русских писателей-эмигрантов, ибо здесь долгое время существовал Русский старческий дом. Это в него мечтал перебраться с опостылевшего юга Георгий Иванов. Это в нем вдова Иванова Ирина Одоевцева нашла себе (на девятом десятке лет) нового мужа. Это здесь умер (тоже на исходе девятого десятка лет) друг Одоевцевой, эмигрантский поэт и критик Юрий Терапиано. Он и похоронен на здешнем кладбище.
Известный Русский старческий дом существовал также неподалеку от Ганьи в старинном городе Шеле (Chelles), где на правом берегу Марны люди селились еще с доисторических времен. Здесь была найдена первобытная стоянка (так называемое «Сарацинское стойбище»), которую один из французских ученых относит к раннему палеолиту, предлагая назвать этот промежуток каменного века «шельской эпохой». В Меровингскую эпоху существовала здесь королевская вилла, на которой в 584 году был убит король Шильперик I (намекают в этой связи на некие козни королевы Фредегонды). Вдова Хлодвига II основала здесь в 660 году знаменитое аббатство, в котором она и кончила свои дни. Ни от виллы, ни от аббатства не осталось и следа (есть здесь лишь некая колонна XIII века, зато доподлинно известно, что боковые приделы собора Парижской Богоматери строил (в 1250–1270 годах) здешний уроженец Жан из Шеля. К тому же и в местной церкви сохранилось немало архитектурных элементов поздних времен аббатства (от XIII и XV веков).
Среди художников, которых судьба занесла в Шель в недобром XX веке, было немало русских (обитателей Русского старческого дома). Жила здесь до самого 1971 года художница Ольга Михайловна Бернацкая, уроженка Киева, дочь профессора, который стал позднее министром финансов во Временном правительстве, а еще позднее – у Деникина и Врангеля. Семья состояла в родстве с А.Н. Бенуа и П.Б. Струве. В юности Ольга Бернацкая училась в Петербурге на историко-филологическом факультете, с 1920 года занималась в парижской Академии Граншомьер, в парижской мастерской Григорьева, Яковлева и Шухаева, потом жила во Флоренции, а с 1930 до 1935 года – в Марокко. Уже были у нее персональные выставки, она привезла множество работ из Марокко, знала и любила эту чудную страну, но в начале 40-х годов из-за ревматизма рук перестала работать, а жить еще оставалось долго. Дружила она с Андреем Ланским, с Юлией Рейтлингер, с семьей Деникиных, с поэтом Альфонсом Метерье, большим знатоком Марокко. Ну а жила в Шеле…
В том же Русском старческом доме жил (до 1955 года) живописец, график и сценограф Николай Калмаков. Родился он в Нерви – сын итальянки и русского генерала, окончил юридический факультет в Петербурге, потом уехал в Италию, где изучал живопись и анатомию, писал мистические картины, увлекался оккультными науками, эротической (фаллической) символикой, оформлял спектакль Н. Евреинова по Уайльду (оформление оказалось для 1908 года «непристойным»), много занимался книжной графикой. В Париже художник обосновался в 1924 году, дружил с С.П. Ивановым, а в 1941 году неосторожно женился на женщине, которая, завладев всеми его картинами, сдала его самого в старческий дом, где он и прожил восемь лет. Но вот лет через десять после того, как Калмакова похоронили в Шеле, коллекционеры открыли целые залежи его картин на блошином рынке и устроили выставку в Париже и Лондоне. О нем был снят фильм «Ангел бездны». Так же назвали через тридцать лет после смерти художника ретроспективную выставку его картин в Париже…
В Шеле был похоронен в 1982 году рядом с первой женой писатель Яков Горбов. Его вторая жена, поэтесса Ирина Одоевцева, рассказала о своей жизни в старческом доме Ганьи в написанных ею в конце жизни мемуарах. Поскольку менять свой стиль (да и характер) ей уже было тогда (на девятом десятке лет) поздно, мемуары были написаны в том же, прославившем Одоевцеву в эмиграции стиле «розового» великосветского романа, способного и нынче растрогать одних и позабавить других. Понятно, что и Русский старческий дом в Ганьи превращается у Одоевцевой в некий Дом отдыха, где светская жизнь бьет ключом. Не избегну соблазна процитировать несколько отрывков из этих знаменитых мемуаров:
«Я только что прибыла в Париж, просидев всю ночь в вагоне, и теперь в такси въезжаю в сад Дома отдыха Ганьи.
Я выхожу из такси и быстро вхожу в подъезд. Из окон дома на меня смотрят какие-то старухи с явным любопытством. Значит, они знают, что я должна приехать, и ждут меня.
Да, здесь меня действительно ждут. Сам тогдашний директор Новиков идет со мной в мою комнату на первом этаже. Я вздрагиваю. Комната совсем маленькая, да еще на север… Я чувствую себя мышью, попавшей в мышеловку… Жизнь моя кончена. Меня прежней нет. Я умерла там, на юге». (Напомню, что на юге, в «проклятом Йере», был тоже старческий дом, в котором умер предыдущий муж Одоевцевой Георгий Иванов. – Б.Н.)…Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий Дом Ганьи, что я вижу над воротами черную надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий»… что жизнь моя безнадежно кончилась.
Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия.
Нет, в тот день я никак не могла предвидеть… что мне еще предстоит «вписать новую главу в книгу жизни и стихов».
…я не поверила бы, что снова смогу улыбаться и превращать будни в праздник… Но в Ганьи нам жилось хорошо и даже празднично».
Жизнь Одоевцевой стала сплошным праздником благодаря дружбе с поэтом Терапиано. «Стихи он пишет с необычайной легкостью в необычайном количестве», – сообщает Одоевцева. Сама Одоевцева, которая думала «уйти из литературы», меняет свои планы и даже «становится журналисткой». («Я вела переговоры с Гукасовым о своем вступлении в журнал «Возрождение» в роли «эминанс гриз»… Для Гукасова я была настоящей находкой, идеальной сотрудницей. Во-первых, я не требовала вознаграждения (а надо сказать, что Гукасов был сказочно скуп), во-вторых, я знала английский язык, что в его глазах почему-то было большим плюсом. Из этого предприятия, однако, ничего не вышло».)
Как видите, чтоб писать смешную прозу, не обязательно обладать чувством юмора, так что снова предоставим слово мемуаристке:
«После смерти Георгия Иванова я решила распроститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться слухи, что после смерти Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею, и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать…»
Но Одоевцева, как видите, не замолчала. Она даже не ушла из «литературных кругов». Она читала стихи на посиделках у будущего богатого коллекционера Р. Гера и в прочих местах, а ближе к восьмидесятилетию (истинный возраст женщины всегда тайна) в Одоевцеву влюбился новый обитатель старческого дома в Ганьи Яков Горбов, больная жена которого жила в старческом доме в Шеле:
«В конце концов Горбов мне сделал предложение быть его женой. Мысль эта была, конечно, неосуществима; так как жена его была жива и, кроме того, умственно ненормальна, что по существующему закону исключает возможность нового брака, а я, со своей стороны, о браке с Горбовым не помышляла и ответила ему, что если выйду замуж, то только за миллиардера, чтобы пользоваться всеми земными благами… «Тогда мне остается только одно – выброситься из окна», – сказал Горбов, но в душе, как видно, надежды не терял…
…Вскоре умерла его жена… Горбов мне сказал: «Я могу перенести эту потерю оттого, что теперь нет препятствий, чтобы вы стали моей женой. Я буду горд, если вы согласитесь носить мое имя». Мне это показалось совершенно невероятным. Мое имя (точнее, псевдоним. – Б.Н.)было связано с именем Георгия Иванова и всем тем, что неотделимо от него…
Брак состоялся 24 марта 1978 года… Писателя Горбова я не смогла вернуть к творческой жизни. Его физическое состояние, как видно, здесь сыграло свою роль. Характеры наши были совершенно противоположны. Яков Николаевич любил тишину, уединение, семейный уют – все то, что наводило на меня нестерпимую скуку. Я, наоборот, любила всегда быть окруженной людьми… Я тащила Горбова с собой… В сентябре 1982 года Я.Н. Горбов скончался. Похоронен на кладбище в Шеле, в одной могиле со своей первой женой».
Благодаря этим вышедшим в России полумиллионным тиражом мемуарам мы и узнаем кое-что утешительное о Ганьи и Шеле…

ПАНОРАМА ШЕЛЕ
Но русские воспоминания задержали нас на пути к истинному городу старины, к былой епископской столице и гнезду протестантизма, к столице сыров «бри» – к славному городу Mo, до которого нам уже совсем недалеко. На этом участке пути самое время поговорить о здешнем хлебородном Мюльтийском плато, о стране Мельда, и вспомнить о знаменитой битве на Марне, фронт которой протянулся от Mo до Вердена в ту пору, когда Великой войной начался страшный XX век.
Война 1914–1918 годов была, пожалуй, последней настоящей войной, которую вела Франция (не в одной только песне Жоржа Брассенса можно услышать этому честное подтверждение). Война была долгой, яростной и кровопролитной. Наряду с поражениями в ней были и настоящие победы, в частности, эта вот победа на Марне. В здешних местах французские войска предприняли контрнаступление против немцев (бывших уже в каких-нибудь сорока километрах от Парижа), отбросили их на 80 километров и, хотя не смогли разгромить их тогда окончательно, все же уберегли столицу Франции. Началась изнурительная и кровавая позиционная война, которая длилась три года. Здешняя земля пропитана была кровью и усеяна могилами, которые позднее превратились в солидные монументы в честь былой славы и в память о погибших. Франция потеряла тогда полтора миллиона боеспособных мужчин, ничего подобного этой войне с ней больше никогда не случалось, ибо в начале Второй мировой войны происходило то, что сами французы называли «странной» или «смешной войной» (drôle de guerre): одни сдавались в плен, другие мирно сотрудничали с оккупантами, столичный Париж с энтузиазмом развлекал немцев, а так называемое Сопротивление (по большей части мифическое), слегка оживившееся перед приходом американцев, даже по официальным данным, не завлекло в свои сети и полпроцента населения. А вот Первая мировая… В каждой французской деревне стоит памятник ее многочисленным погибшим в ту войну сыновьям (на боковой стороне пьедестала обычно лишь две-три фамилии тех, кто умер на принудительных или добровольных работах на чужой территории в 1940–1945 годах, как говорят, «в депортации»). Так вот, окрестности города Mo (Meaux) являют собой истинное поле поминовения жертв Первой мировой войны. Среди множества здешних мемориалов чаще других задерживает внимание путников мемориал в Вильруа, где рядом с боевыми товарищами похоронен поэт Шарль Пеги.
На грустные и несколько даже недоуменные размышления может навести стороннего путешественника американский мемориал на высоком берегу Марны севернее Mo. Две с половиной тысячи американцев, приплывших из своей мирной страны на помощь Франции, полегли здесь, на Марне, во время второй битвы (в 1918 году). Но откуда же, думает опечаленный путник-турист, идет тогда у французов эта стойкая недоброжелательность по отношению к американцам, дважды на протяжении XX века выручавшим Францию в беде и пролившим на ее полях столько молодой крови? Да может, оттуда она и идет – от унижения побежденных и не способных себя защитить самим? От зависти к огромной заокеанской стране (территория которой могла остаться французской, не продай ее великий Наполеон по дешевке)? Или идет она от столь неизбежного во Франции «левого» конформизма, обязывающего бороться с «американским империализмом» (на это предположение наводит и злорадство здешних «левых», вроде литератора Бессона, в связи с сентябрьской нью-йоркской трагедией 2001 года)? Так или иначе, русский путник, далекий от идеалов здешней коммунистической или троцкистской ячейки, наверняка снимет шапку перед монументом погибших американских парней близ знаменитого города Mo…
Что касается замка в городке Вильруа (Villeroy), близ которого среди прочих могил 276-го пехотного полка есть и могила поэта Шарля Пеги, то здешний замок хранит и кое-какие русские воспоминания. В 1859 году огромный этот замок снимали для своей дочери и внучки родители княгини Надежды Нарышкиной. Надежда Нарышкина (по отцу Кнорринг, мать же ее происходила из старинного русского рода Беклешовых) жила в этом замке со своим французским возлюбленным, писателем Александром Дюма-сыном. В 1860 году у Надежды и Дюма-сына родилась их старшая дочь (в семье ее звали Колетт). Поскольку Надежда состояла в ту пору в браке с князем Нарышкиным, новая дочка появилась на свет незаконнорожденной и была записана под чужим именем в отличие от своей старшей сестры Ольги. Была, впрочем, к тому времени у молодой Надежды Нарышкиной и еще одна внебрачная дочь, плод ее связи с молодым аристократом, будущим прославленным русским драматургом Александром Сухово-Кобылиным. Может, этот красавец аристократ, увлекавшийся философией Гегеля и прекрасными дамами, и не стал бы славным писателем, если б не попал в кровавую и таинственную историю, в которой, судя по всему, могла быть замешана и Надежда Нарышкина. История эта произошла в конце 1850 года, и в одном из писем живший в то время в Москве писатель Лев Толстой излагал ее так: «Некто Кобылин содержал юную г-жу Симон, которой дал в услужение двух мужчин и одну горничную. Этот Кобылин был раньше в связи с г-жой Нарышкиной, урожденной Кнорринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Кобылин продолжал с нею переписываться, несмотря на связь с г-жой Симон. И вот в одно прекрасное утро г-жу Симон находят убитой, верные улики показывают, что убийцы – ее собственные люди. Это куда ни шло, но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упреками, что он ее бросил, и с угрозами по адресу г-жи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрение причинами, предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиной».
Это одна из московских версий убийства, вполне правдоподобная. Ибо будущую мадам Дюма, Надежду Нарышкину, считали дамой вполне «инфернальной», то бишь демонической. Она жестоко ревновала Сухово-Кобылина, и если она была возлюбленной этого красавца еще и до знакомства его в Париже с Луизой Симон-Диманш (но уже при супружестве своем с князем Нарышкиным), то есть в неполные 16 лет, то образ и впрямь рисуется вполне «инфернальный». Но ходили тогда, впрочем, по хлебосольной, добродушной Москве и другие сплетни. Говорили о ревности красавицы француженки, даже описывали убиение француженки наскучившим ее ревностью Сухово-Кобылиным. Рассказывали также о желании Нарышкиной подогреть ревность соперницы. Очевидно, что сплетни шли из разных лагерей. Во всяком случае, сообщаемая Толстым версия о скромной «переписке» Сухово-Кобылина с пылкой Надеждой не выдерживает медицинской критики, ибо в том же 1850 году Надежда в срочном порядке выехала «для поправки» за границу, где разродилась незаконнорожденной дочерью (получившей имя убиенной красавицы Луизы). Не исключено, что скоропалительного отъезда Надежды из Москвы требовали не только компрометирующая ее беременность, но и причастность ее к судебным перипетиям Сухово-Кобылина. Позднее, в старости, живший в изгнании на Французской Ривьере Сухово-Кобылин испросил у русского императора разрешения удочерить Луизу, которая в уже вполне зрелом возрасте вышла замуж за французского графа де Фаллетана (родственника того Фаллетана, за которого ранее вышла дочь Надежды от графа Нарышкина – Ольга) и трогательно пеклась о папаше-изгнаннике. К тому времени Надежда сумела уже удочерить и двух своих незаконнорожденных дочек от писателя Александра Дюма-сына. Сухово-Кобылину пришлось в 50-е годы откупаться от судебного преследования большими деньгами, но, может, он и впрямь был не слишком виноват, потому что необходимость давать взятку окрасила уже первую его комедию, написанную в заключении, истинным сатирическим пафосом. России вся эта история подарила одного из лучших ее драматургов, а Лазурному Берегу Франции – еще одного богатого беженца-литератора. Остается сказать несколько слов о новом возлюбленном Надежды Нарышкиной, живавшем с ней некогда в Вильруа, – о французском драматурге Александре Дюма-сыне.
Сын парижской белошвейки и ее соседа-квартерона Александра Дюма-отца (который в пору рождения сына только начинал писать драмы и служил писцом в конторе герцога Орлеанского) вырос высоким красавцем, и отец (Дюма-отец), столько ценного семени раскидавший по свету напрасно, в конце концов признал его, усыновил и возлюбил, однако унижения и обиды детских лет никогда не умирали в душе сына. Они сделали его писателем-моралистом. Правда, строгие правила морали и обличительный пафос не помешали ему волочиться за парижскими кокотками и замужними дамами (по воле судьбы – русскими, из тех, что, оставив мужей в Петербурге, исцеляли таинственную хандру вполне действенным, и не только в Париже популярным, способом – внебрачной любовью). Однако именно смерть одной очень знаменитой кокотки принесла Дюма-сыну самый его крупный литературный успех. Девица эта делила свою любовь между молодым литератором и мерзкими (но очень богатыми) стариками (среди них был даже один русский посол), тратила деньги без зазрения совести и очень любила камелии (яркая деталь, какие всегда так полезны в литературе). У девицы была чахотка, а образ жизни она вела, как выражаются, нездоровый, и вот однажды, вернувшись с отцом из африканского путешествия, Дюма-сын обнаружил, что девицы этой (ее звали Альфонсин-Мари Дюплесси) уже нет в живых, а остались от нее одни только долги, так что вещички ее распродаются на аукционе. Французы растроганно покупали на нем сувениры этой беспутной, но в конце концов вполне трогательно (поскольку безвременно) завершившейся жизни, и только посетивший распродажу грубый британец Чарльз Диккенс бурчал, что не видит в истории лживой мотовки-шлюхи ничего умилительного. Но Диккенс не был, наверное, таким пылким моралистом, как Дюма-сын, а последний немедленно написал на эту тему роман, имевший, впрочем, весьма умеренный успех. Зато позднее Дюма-сын увидел могилу этой кокотки на Монмартрском кладбище, и ему в голову пришла идея. Не какая-нибудь там религиозно-философская идея, а идея вполне практическая, литературная: он решил переделать свой роман в пьесу. Вот тогда-то к нему и пришел настоящий успех. Кто ж из вас не слышал про «Даму с камелиями», которая прогремела на сценах всего мира? Ко времени написания драмы Дюма-сын, нарушая, как все моралисты, собственные правила морали, завел роман с молодой замужней дамочкой из Петербурга – Лидией Нессельроде (она была урожденная Закревская и резвостью своих дамских затей отомстила всему семейству своего тестя Карла Нессельроде за его нелюбовь к нашему любимому Пушкину). Лидию, вступившую в связь с молодым Дюма, ее муж-дипломат чуть не насильно увез из Парижа домой, но тогда с утешением пришла к писателю-моралисту ее подруга, княгиня Надежда Нарышкина (урожденная Кнорринг). Она была замужем за немолодым князем Нарышкиным и даже имела от него малолетнюю дочь, но так как князь медлил с переходом в лучший мир, то ей приходилось «лечиться» в Париже, где на помощь ей и пришел уже прославившийся писатель-моралист. В ранний период их романа он вполне выразительно описал Надежду в письме к Жорж Санд:
«Что я люблю в ней – это то, что она совершенно женщина, от кончиков ногтей до глубины души… Физически она представляется мне до крайности обольстительной, большое благородство линий, изящество форм. Эта ее душистая кожа, ее тигриные когти, ее длинные рыжие, как у лисы, волосы, эти зеленые глаза цвета морской волны, все это по мне…»
Далее в письме следовал перечень прочих радостей, которые могла предоставить писателю новая постоянная связь:
«Мне доставляет удовольствие перевоспитывать это прекрасное создание, испорченное ее страной, ее образованием и средой, ее кокетством, а главное – праздностью…»
«Я не первый день ее знаю, и наша борьба (ибо между такими натурами, как она и я, идет в полном смысле слова борьба), борьба эта началась уже семь или восемь лет назад, и лишь два года назад мне удалось одолеть ее… Я немало повалялся в пыли в ходе этой борьбы, но я уже встал на ноги, а она, надеюсь, окончательно повергнута навзничь на землю. Ее последняя поездка ее доконала…»
Речь тут идет о поездке в Россию. Замужней Надежде приходилось раз в год возвращаться к живому еще мужу, хотя бы для того, чтоб пополнить свою кассу и взять новое разрешение на вояж «для поправки здоровья» (поддержанное небескорыстным лекарем). Конечно, ей хотелось бы получить развод и устроить свою жизнь во Франции, но так случилось, что младшая ее подружка, Лидия Нессельроде (прежняя любовь Дюма-сына), и здесь ее опередила. Лидия затеяла развод с графом Дмитрием, а любящий папаша Закревский, поддержав ее демарш, вызвал этим неудовольствие императора и лишился высокого поста генерал-губернатора. Так что князь Нарышкин вовсе не хотел из-за бабских причуд навлекать на себя немилость трона. Он пригрозил, что развод лишит старшую дочь ее части наследства. Аргумент был нешуточный. Грозил князь и отобрать дочь. Рассказывают, что напуганная этой угрозой Надежда спала в замке Вильруа (где было много десятков комнат) в одной комнате с дочерью. Сами понимаете, что обстановка в замке была нервная.
Еще не получив развода, Надежда родила Александру Дюма вторую дочь (тоже внебрачную). Неудивительно, что к тому времени, как князь Нарышкин покинул нашу грустную юдоль несовершенных браков и Александр Дюма-сын с Надеждой смогли узаконить свои отношения, нервы княгини были порядком истрепаны, и брак выпал Александру нелегкий: Надежда бешено ревновала его к многочисленным французским поклонницам, а потом и вовсе помутилась умом…








