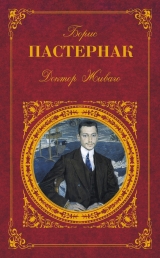
Текст книги "Том 4. Доктор Живаго"
Автор книги: Борис Пастернак
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александровичи Громеко были профессора химии, первый – в Петровской академии, а второй – в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.
Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.
Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.
В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.
Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.
С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная.
Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.
В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови.
Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.
Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже toute transportee,[1]1
В восторге. (Здесь и далее с французского.)
[Закрыть] в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим», – все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.
Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.
В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. «Племянник Кюи», – пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.
Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», – возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.
Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.
Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.
Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.
Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.
Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.
– Вам Егоровна знаки делает, – шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.
На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.
Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.
Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.
– Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?
Егоровна что-то зашептала ему.
– Из какой Черногории?
– Номера.
– Ну так что же?
– Безотлагательно требовают. Какие-то ихние кончаются.
– Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.
– Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.
– Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.
Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу.
После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:
– Господа. Трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.
Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.
21Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.
Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать – Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль.
Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.
В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гуденьем топящейся печки и свистом кипящего самовара.
Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.
В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.
– Скоро ли они там, мамзель? – спросил он даму у зеркала. – С вашим братом свяжешься, только лошадь студить.
Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.
Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.
Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубокие тарелки и одну мелкую.
Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.
– Руки-ноги дрожат, только и забот – день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой; нос себе налакал инда как селезень, а потом – зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косой черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?
– Я вам сказывал, Матрена Степановна, – придерживайтесь выраженьев.
– Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших дедов мышьяку хватила, отставная невинность. В черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей.
Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе – виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.
Мальчики топтались в коридоре.
– Вы войдите к тетеньке, молодые господа, – во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. – Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите – услужаем, бегаем, теснота. Вы войдите.
Мальчики послушались.
В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.
Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.
Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения.
За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжений и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.
Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.
– Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку, – давясь от слез и тошноты, говорила женщина. – Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович… Мне вообразилось… Но по счастью оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате… И вот… И вот я жива.
– Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно.
– Сейчас поедем домой, – буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.
Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.
Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь – неприличием.
– Сейчас поедем, – еще раз повторил Александр Александрович. – Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прощусь с ним.
Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.
При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.
– Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? – останавливал его Юра и не желал слушать.
Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушною движениям его руки марионеткой.
Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.
Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.
Это было то самое, о чем они так горячо год продолдонили с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная и снящаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?
– Знаешь, кто этот человек? – спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. – Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне, – я тебе рассказывал.
Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.
– Замерз, Семен? – спросил Александр Александрович.
Они поехали.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ
1Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.
Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Марийку. Марийке дали палочку ячменного сахара. Марийка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.
Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.
– Эх, матушка-барыня, – приговаривал кинувшийся к ней Маркел, – и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, – напускался он на плакавшую Марийку. – Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал? Вот вы, верно, думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша стать столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест, так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина – питейная статья, крепкие напитки.
Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:
– Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.
Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдова могила». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.
С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.
2Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.
Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня – юристкой, а Миша – филологом по философскому отделению.
В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно – взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.
Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. Вот он и пошел по медицине.
Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепаные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь, в подвале, как у себя дома или как на своей штаб-квартире.
Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.
Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.
Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.
Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера. Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием – новая идея искусства.
Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.
Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу – сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.








