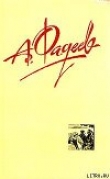Том 2. Стихотворения, 1930–1959 гг.

Текст книги "Том 2. Стихотворения, 1930–1959 гг. "
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Стихотворения и поэмы
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА
* * ** * *
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез бла́говест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
1912
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,
* * *
Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.
1912
Сегодня мы исполним грусть его —
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.
Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.
Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.
* * *
И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.
1911, 1928
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй,
Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.
СОН
Я – свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я – жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.
<1913, 1928>
Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.
Но время шло, и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.
Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.
* * *
Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по небу берез.
1913, 1928
* * *
Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.
Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,
Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей, —
Любовь, ты надо мной плыла.
Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.
<1913, 1928>
* * *
Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.
Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.
Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.
<1913, 1928>
ВОКЗАЛ
Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.
Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.
Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,
Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток,
Пример преподан, – ваш черед.
Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.
<1913, 1928>
Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.
Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.
Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.
Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.
ВЕНЕЦИЯ
И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!
1913, 1928
Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.
Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.
Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.
Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косой ухмылкой
Оглядывался, как беглец.
ЗИМА
Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.
1913, 1928
Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет – к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.
«Значит – в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,
Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит – вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»
Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?
Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются – и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.
ПИРЫ
И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.
1913, 1928
Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.
Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожней ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.
Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.
И тихою зарей – верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.
* * *
Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош – и на своих двоих.
1913, 1928
Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.
Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.
Он весь во мгле и весь – подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.
ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем, ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.
<1913, 1928>
Не поправить дня усильями светилен.
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.
Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу – косяк особняка:
Это – барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать услал ученика.
Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо заметено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой – одно.
Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.
Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.
1913, 1928
ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ
ДВОР
Мелко исписанный инеем двор!
Ты – точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.
Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.
Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валятся, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.
Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.
Руки враскидку, крючки назади,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный – как кучер.
Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!
Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.
Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на вощеных брусках
О наложении зимнего ига.
ДУРНОЙ СОН
Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба – свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».
<1916, 1928>
Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной
Прислушайся к голой побежке бесснежья.
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.
Полями, по воздуху, сквозь околесицу,
Приснившуюся Небесному Постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти,
И шамкают замки, поместия с пришептом,
Все вышиблено, ни единого в целости,
И Постнику тошно от стука костей.
От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.
И видит еще. Как назём огородника,
Всю землю сравняли с землей на Стоходе.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, – месяц небесный.
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной на́прочь отстреленной.
Его отожгло, как отёклую тыкву.
Он прыгнул с гряды на ограду. Он в рытвине.
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.
Прислушайся к гулу раздолий неезженых,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя,
Слова гололедицы, мглы и лафетов?
И сказка ползет, и клочки околесицы,
Мелькая бинтами в желтке ксероформа,
Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.
ВОЗМОЖНОСТЬ
Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится Небесному Постнику...
<1914, 1928>
В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах – ни единой вывески.
Солидные предприятья, но улица – из снов ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.
Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.
К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.
ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ(Отрывок)
Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!
<1914>
ПЕТЕРБУРГ
Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.
Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящею паклею
Седое ненастье хлестала.
Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму
Видимо-невидимо.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы... И с них,
С их глухоты – с их захолустья,
Завязывалась ночь портних
(Иных и настоящих), прачек
И спертых воплей караул,
Когда – с Канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Середь двора; когда посул
Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.
Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лисиц
На лед оконных переплетов
И часто на́ плечи жилиц.
Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, – счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас все вокруг,
Что всё – таинственность, испуг
И сокровенье, – и что там,
На старом месте, старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на́ землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.
Стояли тучи под ружьем
И, как в казармах батальоны,
Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость – неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем,
И вечной памятью героям
Стоял декабрь. Ряды окон,
Не освещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.
1915, 1928
Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжён без осечки.
О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!
И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край – с краем.
Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.
Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость.
В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пищалей.
И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.
Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буем, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.
Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами – баркасов кора.
С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.
Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.
Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника – ветер
Морей унаследовал.
Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.
Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.
И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.
Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.
Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по́ ветру
Полотнища зданий?
Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.
Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город – вымысел твой.
Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.
* * *
Волн наводненья не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.
1915
Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.
Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.
Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.
Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.
Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.
ЗИМНЕЕ НЕБО
Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.
1928
Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.
Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.
Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там – всё равно,
Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;
ДУША
Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, – лавой
Дух захватившего льда налиты.
1915
О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему, – тень без особых примет.
О, – в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если – в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.
* * *
О, внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.
1915
Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.
РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС
И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал Ты есть земную соль?
1915
В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримому ими – «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда
Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев – «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.
МЕТЕЛЬ
И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он – этот мой голос – на черствой
Узде выплывает из мути...
1915
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —
Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи́
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!
Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.
Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.
Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За́город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.
Пушинки непрошенно валятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!
Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес! —
Секиры и крики: – Вы узнаны, узники
Уюта! – и по́ двери мелом – крест-накрест.
УРАЛ ВПЕРВЫЕ
Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели – сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!
1914, 1928
Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.
Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.
Коптивший рассвет был снотворным. Не и́наче:
Он им был подсыпан – заводам и го́рам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.
Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.
ЛЕДОХОД
И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.
1916
Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.
Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!
Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.
Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.
Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.
1916, 1928