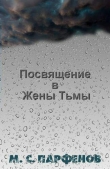Текст книги "Горькая правда художника (СИ)"
Автор книги: Борис Сотников
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Мы же, несмотря на все угрызения совести, неотвратимо сближались, понимали это, а выхода у нас не было: мы не могли ни прекратить наше сближение, ни на что-то решиться. Жизнь постепенно превращалась в дикий, нелепый кошмар. Всё было ложно – долг, печати, обязанности, всё, кроме нашей любви. А любовь эта была для общества пошлой, незаконной. И это сильнее, понимаете, сильнее, хотя и ложно. Такова жизнь, такой мы её все сделали.
Выхода у нас не было: мы перестали видеться. Но шила в мешке не утаишь. Кто-то из ханжей-"благожелателей" заявил о моём «поведении» в партбюро... и началось! Тошно вспоминать даже. Вызывали и меня, и её. Копались в душе, вопросы задавали. В общем, не стеснялись. Читали нравоучения, советовали вернуться в лоно здоровой морали, чего только не было!
А после заседания я шёл с двумя из них вместе – по дороге было. И вот тут-то стали они утешать меня по-человечески. Но как? Не горюй, говорит мне один, не горюй, Евгений Алексаныч, с кем не бывает... Перемелется – мука` будет. А другой вторит: «Ты ещё спасибо скажи, что жена не знает! И вообще, такие дела не так делаются – умненько, осторожно. А ты – в открытую. Люди же кругом, сослуживцы. Не на острове живёшь! А теперь это дело кончай, от чистого сердца советую – брось! Отделался выговором, и хватит, а то ведь и похуже может быть. Не бунтуй, всё равно ничего не изменишь».
Если бы вы знали, как гадко было, горько! А они по дороге всё болтали, болтали, рассказывали. Кто с кем живёт, кто к кому ходит, по какому принципу главный режиссёр раздаёт актрисам роли. Слушал я их, и с ума готов был сойти: ни одного хорошего человека у них нет, ни одного тёплого слова ни о ком, одни только пикантные истории. А ведь я многих из этих людей уважал, знал, что люди они умные и порядочные.
Уже прощались, актёр Полонский сказал мне: «Все так живут».
А мне жить так уже не хотелось. Столько открылось гадости, пошлости! Во многом они не врали, я это чувствовал. Они говорили без злости, равнодушно, как о фактах действительных и само собой разумеющихся. И в этом был весь ужас и убедительность. Что ждёт меня дальше? Ответа я не находил. И жить по-старому я уже не мог. Знал, что всегда буду любить эту женщину.
Но оказалось иначе. Она перевелась в другой город, а я остался в своём театре. Больше года тосковал и грустил, потом боль утихла. Всё прошло: я забыл её.
С тех пор я боюсь, чтобы такое не повторилось. Кроме горя, такая любовь ничего не принесёт. Мы должны щадить себя хотя бы сами.
– Вы говорите, всё проходит и забывается. Ну, а если бы вы сошлись с той женщиной? Может, и не прошла бы любовь? – спросила Елена Николаевна.
– Не знаю... – устало ответил Астраханцев, думая о чём-то своём.
У ног их, переворачиваясь сонной волной, мокрой галькой скреблось море. Слушая его, они замолчали, погружённые в думы.
Море скреблось и дышало по всему побережью.
На другой день они встретились вечером, на танцевальной площадке. Художник, как всегда, пришёл послушать музыку.
Они опять долго и обо всём говорили, потом он провожал Елену Николаевну к её санаторию.
Светила луна.
Тускло отсвечивало внизу море.
Где-то играла радиола.
Темнели на фоне светлого чистого неба зубчатые вершины гор. Было удивительно покойно и хорошо.
– А жить всё-таки приятно! – сказала она.
– Да, – серьёзно подтвердил он.
Теперь они виделись каждый день. И всё говорили, говорили. Он и купался с ней вместе, и загорал – на скалу не уходил. Утром они подолгу смотрели на море, устремляясь за горизонт, куда улетали чайки и куда можно было улететь только в мыслях. Да и то, наверно, врозь. А может, они летали вместе? Кто знает? Ведь в такие минуты они молчали.
Однажды, уходя с пляжа, он услыхал, как к Елене Николаевне, будто бы в шутку, обратились знакомые женщины:
– Елена Николаевна, смотри-те!..
– Мужу напишем...
Он видел – Елена Николаевна наклонилась и стала поправлять босоножку: набился песок. Хохотнув, ответила:
– Пишите, он у меня не ревнивый...
А вечером где-то над горами сердился гром, и там посверкивало и погромыхивало. Елена Николаевна каждый раз вздрагивала, слушала художника невнимательно и только как-то по-особенному смотрела на него. Он увидел, запнулся, забыл, о чём говорил, и замолчал. А потом очень серьёзно и просто сказал:
– Елена Николаевна, а вы смотрите не влюби`тесь в меня. В конце концов, это же возможно... – Он опустил голову.
– Ну что вы, Евгений Александрович! – Она громко рассмеялась, слишком громко.
Хотела спросить: «С чего вы взяли?», но это показалось ей и неискренним, и банальным, и она не спросила. Спросила совсем другое, такое, чего не ждала от себя:
– А вы сами... не боитесь?
Он закашлялся, выбросил плохо горевшую папиросу, закурил новую и заговорил о нашумевшем кинофильме. Больше они к этому не возвращались.
Через неделю художник сообщил Елене Николаевне, что отпуск его заканчивается, завтра он уезжает.
– Как? – спросила она изумлённо, словно остановилась с разбега. Она так увлеклась разговором, так интересно спорила с ним о содержании и форме в современной живописи, что оборвав на полуслове, не знала, о чём же говорить дальше, на чём остановилась. Он оглушил её своим известием, таким неожиданным и так некстати.
Почему-то она не хотела, чтобы он уезжал, не думала о таком и не представляла, что он может уехать отсюда – вот так, просто, что у него может закончиться отпуск и закончиться не в один день с ней.
– Да... завтра в 12. Вот и билет на автобус, – сказал он потухшим голосом, глядя себе под ноги.
– Что же, – ответила она вяло, – значит, завтра будем прощаться. Жаль... Мне будет скучно без вас.
– Мне тоже.
Уже подкралась к Ай-Петри луна и готова была спрятаться за зубчатыми вершинами, уже густыми стали деревья и их тени в ночи, уже давно пора было возвращаться в санаторий, а они всё молчали, шли, останавливались. Возле крутого обрыва они слушали уханье внизу, он курил, она срывала листочки с куста.
Море сердилось, клокотало. Пенные валы внизу белели и шли на берег, как на приступ. Сшибались, раздавался пушечный выстрел, летели брызги и пена, и вновь всё повторялось. Вскрикнула в темноте чайка.
Елена Николаевна вздрогнула, повернула к Астраханцеву бледное лицо и долго смотрела ему в глаза, словно чего-то ждала. И он уж было хотел что-то сказать, и будто потянулся к ней, но лишь вздохнул, и в который раз закурил.
– Да, нам нельзя этого, – тихо сказала она, отворачиваясь. – Курорт, море, каких-то 3 недели всего... Конечно, несерьёзно всё... не правда. Глупо и незачем, я понимаю... Вероятно, вы правы – это быстро пройдёт.
Он молчал, напряжённо о чём-то думал.
Вспыхивал светлячок папиросы.
И роптали, роптали внизу волны.
– Поздно уже. Проводите меня домой, – сказала она.
Ветер трепал её волосы.
Она ждала...
А он всё молчал.
Так и пошли, молча, до самого санатория. Он всё курил и курил, и она не говорила уже, что это вредно.
Перед входом во двор она остановилась.
– Да, вы правы во всём. Прощайте... – Елена Николаевна протянула ему руку.
– Прощайте, – вздрогнул он. Держал её руку в своей и смотрел ей в лицо собакой, потерявшей хозяина.
Она вдруг резко нагнула голову, почти вырвала руку и, не оглядываясь, пошла. Потом побежала. По кирпичной дорожке. И стук её каблуков был частым, как удары сердца под пиджаком. Ему очень хотелось, но он не окликнул её. Что-то сделалось с горлом.
Скрылась за горами луна, и стало темно.
На мгновение затихло всё везде. Гасли последние огни в окнах.
Астраханцев не уходил.
Может, на что-то решался или чего-то ждал, прислушиваясь. Но стучало только его сердце в тёмной пустоте, да было слышно, как выплёскивается на берег раскачавшееся в шторме море – обвально ухает, прощально вздыхает.
Елена Николаевна не появлялась... не вышла.
И тогда вместе с ухнувшей волной где-то что-то обвалилось, оторвалось, как берег от материка, и покатилось, покатилось... уже навсегда.
Ей недоставало его, просто недоставало. Так было в первый день. А на другой и на третий день – утратили для неё свою прелесть и море, и горы, и красивые обрывистые берега. Пустынным казалось всё. Пусто было и на пляже. Сначала просто пусто, потом – до слёз.
Елена Николаевна затосковала. А когда тоска стала невыносимой, она призналась себе, что любит Астраханцева, любит, сама не знает за что, и тоскует по нему. Оставаться в Алупке дальше – уже не было смысла, это был не отдых. Елена Николаевна неожиданно собралась и тихо, незаметно уехала.
Уже в поезде стала утешать себя, что это, наверно, не любовь, просто увлечение, и что оно пройдёт, как проходит в жизни всё. Утешение, однако, не приходило, слишком свежа была ещё боль. Так с ней она и приехала.
На какое-то время всё отодвинулось. Встреча с сыном, работа, домашние хлопоты поглотили её. Но в отношениях с мужем она почувствовала, что уже не может быть прежней. Она стала сдержанной, даже холодной, и всё реже улыбалась – словно подменили.
В конце концов, Елена Николаевна поняла, что несчастна, что всё неинтересно вокруг, на всём печать скуки и разочарования, ничто не радовало её, а муж стал даже противен. Вначале она боялась, что он заметит перемену в ней и начнёт расспрашивать. Но он не замечал ничего, не расспрашивал, и ей уже хотелось этого. В душе она возмущалась им: «Чурбан, бревно бесчувственное! Как так можно? Не видеть, что жена смертельно ранена, готова помешаться от боли! Как он может жить по-прежнему, будто и не случилось ничего?»
Теперь она часто присматривалась к нему – как ест, читает, почёсывая пухлую грудь и прихлёбывая чай из стакана, и обнаруживала в нём недостатков всё больше. Удивлялась: как не замечала этого раньше? Почему не видела, что они скучно и неинтересно живут?
Вспоминался художник. Она всё ещё любила его, хотя прошло уже более полугода. Успокаивая себя, думала: «Наверное, он прав. Что в их положении можно изменить? Семьи, дети... Надо покоряться, нельзя отдаваться увлечениям, ведь всё равно это не вечно, пройдёт, кончится...»
Неторопливо, но и не медленно летело время. Прошло 2 года. За делами, заботами художник вспоминался всё реже. Елена Николаевна успокоилась, поверила: всё проходит.
Но случилось так, что её послали в командировку. Дорога лежала через его город. Но она как-то не подумала об этом, не вспомнила. Вспомнила лишь тогда, когда через сутки увидела вечером сквозь вагонное окно освещённую надпись вокзала. Яркая, огромная, она поразила её.
У Елены Николаевны отяжелели ноги и ёкнуло сердце. «Ведь это же... – прочитала она ещё раз надпись. – Здесь живёт ОН! И сейчас здесь, может, даже недалеко. Боже мой!» – простонала она.
Ей немедленно захотелось что-то сделать – закричать, кого-то позвать, помчаться к нему в город. Но вместо этого она вытерла платком выступившие слёзы и вышла из вагона.
«Два года, два года! – в тоске повторяла она. – Два года! Забыл уж, наверно...»
А сердце кричало, рвалось. Два года... два года! Без переписки, без напоминаний.
– Сколько стои`т наш поезд? – спросила она как можно спокойнее у проводника чужого вагона.
– 40 минут. Узловая, – равнодушно ответил тот.
– Спасибо... – Она пошла к вокзалу.
По дороге она вспоминала то, о чём когда-то говорил ей художник, его «правду», и отчего-то была не согласна с ней сейчас. От его правды не хотелось жить. Какая же это правда, если человек отнимает у себя счастье? Всё в ней бунтовало против этого. Страшная это правда, неправильная. Но в чём, в чём неправильная?
Она опять не знала. Ни сейчас, ни тогда. Как не знают этого тысячи других людей, и, наверное, он сам, и вот она, и многие, многие. Может, оттого люди и не счастливы, что не могут, не умеют добраться до настоящей правды?
Вспомнились слова одного из героев чеховской «Дуэли»: «Никто не знает правды...»
«Боже, как это грустно и верно! Никто, никто не знает, в чём правда», – повторяла она в душе своей, проходя в двери вокзала.
«А вдруг я увижу его здесь? – затеплилась надежда. Вздрогнув от такой мысли, она стала всматриваться в проходивших мимо мужчин. – Нет, это из области невероятного...»
Елена Николаевна заметила телефон-автомат, и её осенило: «А что, если позвонить ему? Театр в городе, вероятно, один. Сейчас вечер, идёт какой-нибудь спектакль. Ничего мудрёного, если художник ещё в театре».
Она так обрадовалась, что не сразу сумела открыть дверь в будку. Потом долго рылась в сумочке и не могла отыскать нужную монету. А сердце в груди прыгало, прыгало. Наконец, две монетки нашлись. Дрожащей рукой Елена Николаевна засунула в щель 15 копеек и сняла трубку. Набрала 09 – справочное бюро.
– Справочное? Пожалуйста, телефон драматического театра.
Когда она набрала номер, указанный справочной, в трубке что-то прогудело. Телефон не соединился с абонентом. Монетка, к счастью, не провалилась в щель. Елена Николаевна торопливо повесила трубку, опять стала набирать номер. Второй раз ей ответили. Оказалось – администраторская. Она попросила пригласить к телефону художника Астраханцева, если это возможно, но ей назвали его телефон и повесили трубку. Надо было звонить снова. Но кончились монеты.
Торопясь, она вышла из будки и направилась в кисок союзпечати. Разменяла там деньги и чуть не бегом вернулась назад. Вперёд её к будке автомата подошёл мужчина.
– Умоляю вас... я с поезда! – попросила она. Во рту у неё пересохло.
Мужчина коротко взглянул на неё и молча отошёл.
Надо было опускать монету, но она забыла номер и, силясь припомнить его, почувствовала, как ею овладевает ужас. Опять налились свинцом ноги.
Кажется, она вспомнила. Взглянула на часы – и вспомнила, успокоилась: до отхода поезда оставалось 29 минут, поговорить она успеет, если, конечно, Астраханцев в театре.
Она убедилась ещё раз, что номер телефона вспомнила правильно – именно так ей и сказали: 32-43, она ещё запомнила: по краям тройки, в середине – 24, полночь, 24 часа то есть. Опустила монету и набрала номер.
Шли томительные редкие гудки: «не отвечает». Но она трубку не вешала: если Евгений Александрович не на месте, может, услышит кто другой, подойдёт к телефону и по её просьбе позовёт его. И действительно, в трубке раздался щелчок, и густой мужской голос сказал:
– Слушаю.
– Мне нужен Евгений Алексаныч Астраханцев, – заторопилась Елена Николаевна, ощущая дрожь.
– Это я, – выстрелило ей прямо в ухо и оглушило её: на такую удачу, честно признаться, она не рассчитывала.
Остаток фразы: «Слушаю вас...» она слышала уже, как сквозь вату. И нахлынули опять ненужные сейчас слёзы.
Голос Елены Николаевны задрожал, она сказала:
– Евгений Алексаныч, дорогой... это я, Елена Николаевна... Помните Алупку, не забыли? – И она расплакалась, не могла больше говорить.
– Елена Николаевна, вы?! Откуда? – дрогнуло там, на другом конце. – Вы по междугородке?
– Нет, с вашего вокзала, – заторопилась она, захлёбываясь от радости. – Я проездом. Через 25 минут отходит мой поезд. Решила вот позвонить, наудачу. Я всё время помнила вас. Ну как вы тут, рассказывайте...
– Как же вы узнали мой телефон? А впрочем, что я говорю, узнали и хорошо. Елена Николаевна, что с вами?
– Ничего, это от радости, не обращайте внимания. Рассказывайте же, не тяните. Что нового? Как жили, живёте?
– Да всё так же, по-прежнему. А вы? Откуда, как, куда? – Голос у Астраханцева осел, стал хриплым. – Неужели это вы? Я с ума, кажется, схожу...
– Еду в командировку. Потом назад, домой. Нового тоже ничего.
Чем-то взбудораженный, он вдруг прервал её:
– Постойте, Елена Николаевна, милая! Вы сойти, сойти с поезда можете хоть на сутки? Можете?
Елена Николаевна растерялась.
– Вы меня слышите? Елена Николаевна, слышите? Почему вы молчите? – взволнованно неслось из трубки. – Мне так хочется повидать вас, поговорить обо всём, важном!
– Не знаю... ничего я сейчас не знаю! – всхлипнула Елена Николаевна.
– Ну ладно. Какой у вас номер вагона? Седьмой? Я сейчас на такси – и к вам на вокзал. Тут недалеко, я ещё успею. Вы слышите меня? На месте решим. Стойте возле своего вагона...
– Хорошо, – пропал у неё голос. – Я жду вас, только скорее, у вас очень мало времени. Жду, до свидания.
– Так значит у вагона номер семь? – хрипло прокричал он.
– Да, да! Торопитесь, не надо больше говорить, потом... опоздаете... – Она плакала.
– Всё, кончаю. Я сяду с вами в поезд и провожу вас до следующей станции. Мы ещё обо всём поговорим... – В трубке щёлкнуло, и понеслись частые тоненькие гудочки – разговор окончен. Елена Николаевна ещё немного послушала и повесила трубку.
С этой минуты она ждала его и волновалась: успеет ли, найдёт ли сразу такси, не отойдёт ли немного раньше поезд – бывает же? А пустят ли Астраханцева в вагон без билета?
Елена Николаевна стояла подле вагона и всматривалась в лица прохожих вдали. Астраханцев не появлялся. Неумолимо дёргалась минутная стрелка на больших вокзальных часах. Сгущались сумерки.
То и дело раздавались гудки маневрового паровоза где-то на путях за составами, и Елена Николаевна каждый раз вздрагивала, смотрела на электрические часы и хваталась за поручни у подножки. Но поезд ещё стоял. Ветерком подогнало к ногам бумажку. Откуда-то подбежал серенький дурашливый котёнок и стал поддавать бумажку лапой. Появилась девочка с косичками и взяла котёнка на руки.
Елена Николаевна всё прохаживалась: 5 шагов вперёд, и снова к подножке. В волнении стискивала руки и думала, думала, и всё одно и то же, одно и то же: «Успеет ли? Узнает ли? А она?..»
Теперь уже беспрестанно и в страхе взглядывала на стрелку. Та дёргалась, приближаясь с каждым рывком к роковой черте, и Елена Николаевна обмирала. Она стискивала руки сильнее и уже не замечала этого: до отправления поезда оставалось всего 2 минуты. Астраханцева не было.
«Неужели не успеет? Не успел...»
Стрелка дёрнулась ещё раз, и где-то впереди ударил колокол.
– Гражданочка, отправляемся! – прогудело над ухом. Это приглашал кондуктор.
– Да, да... – машинально ответила Елена Николаевна, всё ещё всматриваясь в сторону центрального входа на перрон. Было уже темно, и она ничего не могла различить там.
К горлу подступил ком, и пощипывало в носу. Елена Николаевна поднялась в тамбур. И тотчас же поезд дёрнулся, лязгнул буферами, и паровоз дал протяжный гудок. Она, казалось, оглохла. А потом увидела, как качнулся и поплыл назад вокзал и перрон, и испугалась. Снова высунулась из дверного проёма и стала всматриваться назад, в темноту. Там, кажется, кто-то бежал и размахивал руками. Может, и кричал что-то, за грохотом не было слышно.
Поезд набирал скорость. Вот и станция позади – скрылась. И что-то словно оторвалось у неё внутри.
Прислонясь к стенке тамбура, Елена Николаевна всхлипнула. Потом заплакала, и плакала долго, до тех пор, пока не перестали идти слёзы. Кондуктор взглянул на неё, кашлянул, хотел что-то сказать, но лишь в нерешительности потоптался возле неё и ушёл в вагон.
В купе Елена Николаевна пришла, когда на верхних полках уже спали. Не включая света, она села у окна и стала безучастно смотреть.
Мелькали какие-то огни, столбы, посёлки. Тоска.
Подумала: «И ведь не успела даже сказать, что люблю. И не знаю, любит ли он. Нет, где уж там, поздно жизнь перекраивать...»
Всё так же было темно. И опять текли по лицу слёзы. Покачивало вагон, и всё стучали, стучали на стыках колёса:" про-шла... про-шла... про-шла!"
«Жизнь прошла», – тупо подумала Елена Николаевна.
Конец
1960 г.