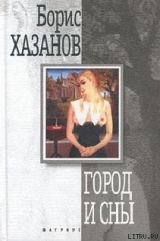
Текст книги "Город и сны. Книга прозы"
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Чего ты стоишь, мне, чай, одеться надо, – сказала она мягко. – Поди, что ли, там посиди». Я все еще медлил, держа в руках свою одежду; Маша покачала головой. «Вот так, чего уж теперь, раз так получилось, – бормотала она, просовывая руку сквозь вырез рубашки, спуская рубашку с плеч, продевая руки в бретельки широкого лифчика. – Судьба, значит. Отвыкла я от таких дел…– Она повела плечами, взвесила в ладонях шары грудей в чашах лифчика. – Ну чего ты, али не нагляделся?»
Немного погодя, сидя за столом в светлой горнице, я вскочил, чтобы открыть ей дверь, и с немалым удивлением увидел мою хозяйку, несущую потный и фыркающий, ярко начищенный самовар; тотчас на него был водружен низкий и пузатый, с побуревшим носиком, фаянсовый чайник с заваркой, и на чайнике, прикрыв его, как наседка, своими юбками, восседала тряпичная, румяная, как свекла, баба в желтом платочке. Я уж и забыл, когда последний раз пил чай из русского самовара.
«Вот теперь попьешь», – промолвила Маша. На душе у меня было чувство глубокого мира. Не так уж далеко пришлось ехать, достаточно было только свернуть с асфальтовой дороги, но мне казалось, что я заехал в такую даль и глушь, до которой никому не добраться.
«Послушай, Маша…» Почти против воли я задал этот вопрос, и вообще мне не хотелось говорить на эту тему; налив, по ее примеру, чай в блюдце, я старательно дул на него, как в детстве дул на горячее молоко, стараясь отогнать пенки, только теперь я сидел прямо, держа блюдце перед губами.
Мавра Глебовна перебила меня:
«Какая я тебе Маша!»
Я возразил:
«Мне так больше нравится. А тебе разве нет?… Скажи, Маша, – продолжал я, – ты ведь замужем?»
«Ну», – сказала она спокойно.
«А говоришь, отвыкла».
«Мало ли что! Бывает, что и замужем, а отвыкают».
Кукла полулежала, утонув в своих юбках, на столе, рядом с ней, я протянул ей чашку, она налила мне крепкой заварки и нацедила кипятку. Помолчав, я сказал ей, что в моем доме творятся странные вещи. Ночью мужик приходил.
«Какой еще мужик?»
«Бывший хозяин. Я думаю, – сказал я, усмехнувшись, – эта изба заколдованная. Вся деревня какая-то странная».
«Скажешь! Деревня как деревня».
Я пожал плечами.
«И чего он?»
«Сказал, что я не имею права здесь жить».
«Он те наговорит. Один приходил?»
Я объяснил, что кто-то ждал на улице; какие-то люди, я их не видел.
«Ну и этого тоже считай, что не видел».
«Да он передо мной сидел, за моим столом, вот как ты сейчас».
«Ну и что? Мне тоже, – сказала она, – разные черти снятся».
«Ты его знаешь?»
«Кого?»
«Мужика этого».
«Да ты что? Он, чай, давно уж помер».
Она подняла на меня ясные глаза.
«Милый, – сказала она, – поживешь, привыкнешь».
В сенях послышался шорох. Мавра Глебовна встала и впустила малыша, похожего на карлика.
«К мамке в гости пришел? – сказала она. – Чай с нами будешь пить?»
Мальчик ничего не ответил, сидя на коленях у Мавры, потянулся к вазочке и схватил несколько конфет.
«Куды ж столько? Ты сначала одну съешь. – Мальчик полез с колен. – Ну, поди, бабку угости».
Его башмаки зашлепали на крыльце. Длился, истекал зноем нескончаемый полдень, занавешенный белыми облаками.
Я спросил: где его родители?
«В городе. И носа не кажут. Вот так и живем. Еще чайку? Ну-кась, – сказала она, – дай руку».
«Зачем?»
«Руку давай, говорю».
«Ты что, гадалка?»
«Гадалка не гадалка, а сейчас все про тебя узнаю».
«Я сам могу рассказать».
«Откуда тебе знать? Никто пути своего не знает».
Она разглядывала мою ладонь, поджав губы, как смотрят, проверяя документы.
«Что же там написано?»
«А все написано».
Я сжал руку в кулак.
«Разожми. Боишься, что твои тайны узнаю? Эва! Долго жить будешь, три жены у тебя будет».
«Откуда это известно?»
«Известно. Вот, видишь – первая, вот вторая. А вот там третья».
«Одна уже была».
«Значит, еще две будут».
Я засмеялся: «Что-то уж слишком много».
Она рассказывала:
«Василий Степанович у меня хозяйственный, все достает, если что надо, рабочих привезет. Жаловаться грех. Не знаю, – проговорила она, – может, у него там в городе кто и есть».
«Отчего ты так думаешь?»
«Да чего уж тут думать, коли у нас с ним ничего не получается. И так, и сяк, а в избу никак. Может, я уже старая. А может, силы у него нет, вся сила в заботы ушла, его на работе ценят».
«Детей у тебя нет?» – спросил я.
«Нет. Была девочка, от другого, да померла».
«И у меня, – сказал я, – была девочка».
ХI
Не могу сказать, чтобы работа моя подвигалась бодрым темпом, говоря по правде, она почти не двигалась. Не внешние, а внутренние причины были тому виной. Раздумывая над своим проектом, я обнаружил опасность, о которой давно следовало подумать: риск потерять свою личность. Смешно сказать: то, за чем я охотился, что хотел восстановить, заново отыскать, отшелушить, как ядро ореха, – оно-то как раз и ускользало от меня.
Я должен был отдать себе ясный отчет в этой опасности: намерение реконструировать свою жизнь – месяц за месяцем, а если можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее подвалах и закоулках, – неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса. Я предчувствовал, что из этого получится: старательное перечисление мельчайших событий прошлого заслонит, поставит под сомнение то, что было исходной посылкой всей этой затеи: уверенность в том, что я – это я, нечто единое и в основе своей неизменное.
Мои воспоминания о младенчестве можно было сравнить с клочками разор-ванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, но это была скорее память о вещах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолетная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, вещи обступали меня, и я готов был предположить, что на самом деле я помню все и храню все впечатления в архивах моего мозга, но неразвитость психического механизма, который можно назвать упорядочивающим началом, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне выстроить цепочку воспоминаний и поднять со дна памяти целиком то, о чем я, как водолаз, мог судить, лишь обходя вокруг погруженный в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли и всматриваясь в темные иллюминаторы. Там, в залитых водой каютах, покоилась цивилизация вещей, но я мог о ней лишь догадываться.
Таковы были первые три или четыре года жизни, когда мое "я" было скорее условием того, что все это некогда существовало, нежели чем-то первичным – автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаюсь к уже знакомым местам, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчинялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов памяти область уже достаточно упорядоченную, но все еще не подвластную деспотизму времени. Вскоре, однако, само это слово «вскоре» говорит о том, что время взяло реванш, – хронологический принцип восторжествовал: начиная с шести или семи лет я обрел непрерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат времени.
Это скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний, которое я пытаюсь разгладить, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни. И вот тут-то меня подстерегает ловушка! Чем больше я втягиваюсь в процесс «восстановления», тем гуще и тесней становится моя память, похожая на многонаселенную коммунальную квартиру; подробности обступают меня – вещи, лица, песни, запахи, и, когда наконец я застаю мое "я" уже полностью сформированным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни, за старыми вещами комнат на лестницах и чердаках, за мокрым бельем, развешанным во дворе, и пропадает в переулках, где я помню каждый дом. Голоса зовут меня с улицы, и мне некогда оставаться наедине с собой.
Спрашивается: не есть ли мое "я", каким его возвращает прошлое, чистое "я" воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное моим сегодняшним "я", – не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая чистая доска?
Я снова стал думать о том, что ошибка – в выбранном мною способе изложения, в соблазне объективизма. Я намеревался составить протокол своей жизни, пожалуй, что-то вроде естественно-научного описания; мне казалось, что таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь. Передо мной маячил призрак сверхъязыка, на котором я смог бы ее описать, выразить истину о самом себе, как бы выбравшись из собственной шкуры и воспарив над своим "я". Но такого языка не существует.
Погруженный в размышления, я пересек огородное поле, вода все еще хлюпала под ногами, я обходил лужи и озерца, пробирался между кустами, стоящими в воде, вышел на берег. Река вернулась в свое русло, но прибрежная полоса песка была еще затоплена. Я брел вдоль берега, обходя заводи, в засученных брюках, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки, постепенно мои мысли приняли другое направление, можно сказать, что они следовали изгибам реки. Мутные вздувшиеся воды катились мне навстречу, река бежала все быстрей, воды блестели, кое-где обнажился песчаный берег в клочьях травы, в пятнах грязной пены, усыпанный черными щепками, мокрым мусором, брошенным на полдороге, поток бурлил, образовав горловину, кустарник превратился в лес, река неслась между глухими зарослями, я заметил полузатопленную переправу, вода перекатывалась через поваленное дерево. Привязанная к торчащим кверху обломкам корней, качалась и билась о ствол лодка, полная воды, она напомнила мне ту, в которой плыли гармонист и баба-семга.
ХII
Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертал их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся. Они отвлекали меня от цели. Они пришли мне на ум еще тогда – сколько же дней прошло с тех пор? – когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарованным взглядом окрестность. Туманная, пепельно-голубая кромка на горизонте, далекий, дальний призрак – сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наводил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно. Не оттого ли деревянные башенки, непременную принадлежность дачной архитектуры, мое воображение превратило в башни рыцарских замков?
В шлеме с крестообразной прорезью, с мечом и щитом, на котором был намалеван мой герб, я стоял у калитки в предвкушении вражеского набега, я не успел загореть, мои ноги еще не были искусаны комарами: последнее лето на даче, последний, может быть, день детства. Я вспомнил, что сегодня как раз этот день. Мы выехали из города накануне, на грузовике, где стояли корзины, стулья, кухонный стол, патефон, ванночка, швейная машина, плетеная бутыль с керосином, – все это, перевязанное веревками, дрожало и дребезжало, я подскакивал на матрасе рядом с мамой, голова моего отца виднелась в заднем стекле кабины, он сидел рядом с шофером и показывал дорогу, ему оставалось жить полгода. Был ли он убит или замерз в лесах неизвестно. Машина расплескивала лужи, покачивалась на толстых корнях и мягко катила по лесной дороге; стоя перед калиткой в шлеме и латах утром следующего дня, поджидая вражеское полчище, я не знал, что вторжение уже началось на рассвете.
Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только числа и дни окончательно не перепутались в моей голове, годовщина запоздалого переселения. Восстав в моей памяти, он отказывался вернуться в прошлое, как если бы в самом деле все совершалось одновременно или если бы русло времени искривилось и обогнуло войну, или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне. Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, уединенная усадьба; я не верил глазам – лужайка, терраса, деревянная башенка, перед домом веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, казались мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чьего-то сна: не я грезил, меня грезили.
Но прежде я должен вернуться к томительно-жарким часам после полудня, к этому дню, открывшему череду новых событий, вернуться к томительно-жарким часам после полудня. Виной всему был мой образ жизни, вялое сидение на крылечке, прохладное молоко в крынке и теплые объятия соседки, Мавры Глебовны. Едва начатая рукопись на моем столе тревожила мою совесть, я не отказался от своего замысла или по меньшей мере внушал себе, что не имею права отказаться от него, иначе что же мне делать, куда деваться от самого себя? И все же, говоря по совести, не становилась ли сама эта работа, то, что я называл работой, ради чего скрылся от всех, не становилось ли это времяпровождение в моих собственных глазах чем-то сомнительным? Я помню как в детстве, увлеченный каким-нибудь новым проектом, я с жаром принимался за дело, раскрывал новенькую тетрадку, писал, чертил, рисовал – и внезапно что-то рушилось, и я чувствовал, что игра мне надоела, едва начавшись, и не мог понять, что в ней можно было найти интересного. Какой непозволительной забавой, думал я, показался бы мой нынешний проект, мои усилия и сомнения, попытки выр-ваться из тисков литературы при помощи той же литературы и отыскать в подвалах памяти то, что когда-то было действительностью, какой чепухой показалось бы все это человеку другого, того времени, моему отцу; он просто не мог бы понять, чем я, собственно, занимаюсь.
Или прав был Василий Степанович, и моя жизнь в деревне должна была вернуть меня к подлинной действительности, о которой я, может быть, и понятия не имел, к «народу», этому потерявшему смысл понятию, но которое вопреки всему что-то все еще означало, – и таким образом возродить мое писательство, что, собственно, и означало возродить, восстановить, заново отыскать свою личность?
Короче говоря, нужно было встряхнуться. В этот раз я избрал другой путь, переправился вплавь и побрел напрямик через поля к роще. Я шел и шел без всякой мысли и цели в густой траве, и роща, казавшаяся издали совсем небольшой, вставала и раздвигалась мне навстречу. Я пробирался через подлесок, шагал среди мхов, между упавшими стволами, время от времени менял направление, выбрался на поляну; солнце, постепенно опускаясь, сверкало между деревьями, мое путешествие затянулось. Лес поредел, но вместо опушки устланная иглами тропа привела меня к воротам.
Собственно, это были остатки ворот, каменные столбы, штукатурка осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. Дорога со следами колес перешла в липовую аллею. Спустя немного времени я оказался на широком лугу перед домом с террасой, с деревянной башней и поникшим выцветшим флагом, с поблескивающими на солнце окнами.
Дача, наследница рыцарского замка! Дачу можно считать потомком барской усадьбы, а та, в свою очередь, ведет свое происхождение от надела, полученного в дар от монарха. Кто-то лежал в гамаке, свесилось одеяло. Кто-то ехал по аллее. Лошадь мелькала между деревьями; свесив ноги с телеги, ехал Аркаша. Я повернул к аллее и шагал ему наперерез, но, кажется, он делал вид, что не замечает меня. Я выбежал на дорогу. Телега остановилась. «Слушай-ка, а я и не знал, что…» – проговорил я. «А чего», – сказал Аркадий. «Ты тут работаешь?» «Да какая это работа», – возразил он. «А лошадь откуда?» «Председатель дал». «Какой председатель?» «Председатель колхоза». «Какой колхоз, что ты мелешь, колхоза-то никакого нет!» «Колхоза нет, а председатель есть».
Он ждал следующего вопроса.
«Аркаша, – спросил я наконец, – а что это за люди?»
«Которые?»
«Да вот там». – Я указал на компанию, сидевшую в беседке за самоваром.
«А…– пробормотал он. – Живут».
«Как они сюда попали?»
«Как попали… Да никак. Ты-то как сюда попал? Жили и живут. А чего? Места у нас хорошие, воздух. Н-но!» Лошадь тронулась.
ХIII
Путник приблизился к беседке. Хозяин, грузный человек с лоснящимся красным лицом, без пиджака, в цветном жилете и с бабочкой на шее приветствовал его иронически-ободрительным жестом. Хозяйка промолвила:
«Милости просим. – И позвала: – Анюта!»
«Не беспокойтесь, maman. Я сама принесу», – сказала молодая девушка и побежала, придерживая платье, к дому. Она вернулась с чашкой и блюдцем, ему налили чаю, пододвинули корзинку с печеньем.
«Сливки?»
Гость поблагодарил. «Простите, – пробормотал он, – что я так неловко вторгся, позвольте представиться…»
«Мы о вас слыхали», – сказал хозяин.
«Откуда?»
«Да знаете ли, земля слухом полнится. Не так уж много тут у нас соседей. Вы ведь в деревне живете, не правда ли?»
«Да, если это можно назвать деревней».
«Вот, – сказала, пропустив мимо ушей это замечание, хозяйка, указывая на господина неопределенных лет, который сидел очень прямо и выглядел весьма импозантно, со слегка седеющими баками, в сюртуке, высоком воротничке с отогнутыми уголками и сером галстуке с булавкой, – разрешите наш спор. Петр Францевич утверждает, что…»
«Мама, это неинтересно».
«Нет, отчего же… Мы, знаете ли, увлеклись теоретической беседой. Петр Францевич считает, что смысл нашей отечественной истории, не знаю, верно ли я передаю вашу мысль, Пьер… одним словом, что весь смысл в отречении».
Приезжий изобразил преувеличенное внимание. Петр Францевич солидно кашлянул.
«Если эта тема интересует господина… э…– Приезжий поспешно подсказал свое имя и отчество. – Если вас это интересует. Я хочу сказать, что… если мы окинем, так сказать, совокупным взглядом прошлое нашей страны, то увидим, как то и дело, и притом на самых решающих поворотах истории, русский народ отрекаетстя от самого себя. Да, я именно это хочу сказать: отрекается. Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают к себе варягов…»
«Эта теория оспаривается», – заметил гость.
«Да, да, я знаю… Но позвольте мне продолжить. Призвание варяжских князей, отказ от собственных амбиций. Но зато удалось создать прочное государство. В поисках веры принимаем греческое православие – опять отказ от себя, опять отречение, но зато Россия становится твердыней восточного христианства. Приходит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение: от традиций, от национального облика, – ради чего? Ради приобщения к западной цивилизации, и в результате Россия превращается в европейскую державу первого ранга. Остается еще одно, последнее отречение…»
Хозяин, по имени Георгий Романович, внушительно произнес:
«Х– гм! Гм!»
«Вы не согласны?» – спросил приезжий.
«Я? Да уж куда там…»
«Pardon, – сказал приезжий, – мы вас перебили».
«Остается четвертый и последний шаг – признать религиозное главенство Рима!»
«Ну уж, знаете ли», – засопел хозяин.
"Да что это такое? – сказала хозяйка. – Жорж, ты все время перебиваешь! Дай же наконец Петру Францевичу высказать свой avis*…
«Я прекрасно понимаю, – сказал Петр Францевич, – что моя теория, впрочем, какая же это теория, речь идет об исторических фактах, против которых возразить невозможно… Я очень хорошо понимаю, что мой взгляд на историю России может не соответствовать мнению присутствующих. Но коли наш гость… Простите, – он слегка поднял брови, – я не знаю, в какой области вы подвизаетесь, или, может быть, я не расслышал?»
Путешественник промямлил что-то.
«М– да, так вот. Позвольте мне, так сказать, рекапитулировать. Обозрев в самом кратком виде отечественную историю, мы убеждаемся, что она представляет собой ряд последовательных отказов от собственной национальной сущности во имя… во имя чего-то высшего. Признав главенство папы, склонившись перед римским католицизмом, Россия завершит великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую вселенскую империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого достаточных оснований… Но, господа, величие обязывает! Я говорю не о патриотизме. И не о шовинизме, упаси Бог, я по ту сторону и православия, и католичества, я в лоне вселенской Церкви».
«А вам не кажется, что при таком взгляде наша история выглядит не очень привлекательно, русский народ оказывается уж слишком пассивен…»
«Вот именно, – подхватил хозяин, – ты, матушка, не так уж глупа!»
«Георгий Романыч!» – сказала хозяйка укоризненно.
«Вот именно. Хгм!»
Она спросила:
«Еще чашечку? Вы, наверно, скучаете».
«Нет, что вы, – возразил приезжий, – у меня вопрос, если позволите…»
Петр Францевич приосанился. Но тут произошла заминка. Маленький инцидент: два мужика, на которых уже некоторое время с беспокойством оглядывалась хозяйка, подошли к сидящим в беседке.
ХIV
Два человека, по виду лет за пятьдесят, один впереди, щупая землю палкой, другой следом за ним, положив руку ему на плечо, оба в лаптях и онучах, в заношенных холщовых портах, в продранных на локтях и под мышками, выцветших разноцветных кафтанах с остатками жемчуга и круглых шапках, когда-то отороченных мехом, от которого остались теперь грязные клочья, с лунообразными, наподобие кокошников, нимбами от уха до уха, остановились перед беседкой и запели сиплыми пропитыми голосами. Вожатый снял с лысой головы шапку и протянул за подаянием.
«Это еще что такое? – сказал Петр Францевич строго. – Кто пустил?»
Слепцы пели что-то невообразимое: духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, царский гимн и «Смело товарищи в ногу», все вперемешку, фальшивя и перевирая слова, на минуту умолкли, вожатый забормотал, глядя в пространство белыми глазами: «Народ православный, дорогие граждане, подайте Христа ради двумя братьям, слепым, убиенным…»
«Господи… Анюта! Куда все подевались? Просто беда, – сказала, отнесясь к гостю, хозяйка. – Прислуга совершенно отбилась от рук».
«Мамочка, это же…» – пролепетала дочь.
«Этого не может быть! – отрезала мать. – Откуда ты взяла?»
«Мамочка, почему же не может быть?»
Отец, Григорий Романович, рылся в карманах, бормотал:
«Черт, как назло ни копья…»
Петр Францевич заметил:
«Я принципиальный противник подавания милостыни. Нищенство развращает людей».
«Боже, царя храни», – пели слепые.
«Надо сказать там, на кухне…– продолжала хозяйка. – Пусть им дадут что-нибудь».
«Может быть, мне сходить?» – предложил гость.
«Нет, нет, что вы… Сейчас кто-нибудь придет».
«Интересно, – сказал приезжий, – как они здесь очутились. Если не ошибаюсь, они были убиты, и довольно давно. Вы слышали, как они себя называют? Подайте убиенным».
«Совершенно верно, убиты и причислены к лику святых. А эти голодранцы – уж не знаю, кто их надоумил. Недостойный спектакль! – возмущенно сказал Петр Францевич. Слепцы умолкли. Шапка с облупленным нимбом все еще тряслась в руке вожатого. – Обратите внимание на одежду, ну что это такое, ну куда это годится? Уверяю вас, я знаю, о чем говорю. В конце концов это моя специальность… Вспомните известную московскую икону, на конях, с флажками. Я уж не говорю о том, что князья – и в лаптях!»
Братья наклонили головы и, казалось, внимательно слушали его. Девушка произнесла:
«Может быть, спросим…»
«У кого? У них?» – презрительно парировал Петр Францевич.
Хозяйка промолвила:
«Наш народ такой наивный, такой легковерный… Обмануть его ничего не стоит».
«Как назло, ну надо же…– бормотал Григорий Романович. – Ma che`re, у тебя не найдется случайно…»
«Кроме того, – сказал приезжий, – они были молоды. Старшему, если я только не ошибаюсь, не больше тридцати…»
«Совершенно справедливо!»
Наконец явился Аркадий с деловым видом, с нахмуренным челом, в рабочем переднике и рукавицах.
«Аркаша, пусть им что-нибудь дадут на кухне».
«Да они не голодные, – возразил он, – на пол-литра собирают».
«Боже, – вздохнула хозяйка. – Что за язык!»
«Кто их пустил?» – спросил строго Петр Францевич.
«Сами приперлись, кто ж их пустит! Давно тут околачиваются. Ну, чего надо, гребите отседова, отцы, нечего вам тут делать!… Давай, живо!» – приговаривал Аркаша, толкая и похлопывая нищих, и компания удалилась. Наступила тишина, хозяйка собирала чашки. Петр Францевич, заложив ногу на ногу, величаво поглядывал вдаль, покуривал папироску в граненом мундштуке.
«Вы, кажется, хотели мне возразить», – промолвил он.
«Я?» – спросил приезжий.
«Вы сказали, у вас есть вопрос».
«Ах да! – сказал приезжий. – Я не совсем понимаю. Каким образом можно согласовать вашу концепцию с тем, что произошло в нашем столетии?»
Петр Францевич с некоторым недоумением взглянул на гостя, как бы видя его впервые.
«Что вы имеете в виду?» – спросил он холодно.
«Что я имею в виду? Ну, хотя бы революцию и… все, что за ней последовало. По-вашему, это тоже самоотречение?»
Петр Францевич ничего не ответил, а хозяин осмотрелся и спросил:
«Где же Роня?»
Оказалось, что дочки нет за столом.
Путешественник почувствовал, что выпал из беседы.
«Разрешите мне откланяться, – пробормотал он, вставая, – ваша уютная дача, я назвал бы ее поместьем…»
Хозяйка мягко возразила:
«Это и есть поместье, здесь мой дед жил».
«Да, но… Угу. Ах вот оно что!»
«Заглядывайте к нам. Будем рады».
«Спасибо».
«Мы даже не спросили, как вам живется в деревне».
«Превосходно. Люди очень отзывчивые».
«О да! Где еще встретишь такое добросердечие?… Я так люблю наш народ».
«Я тоже», – сказал приезжий.
Он не удержался и добавил:
«Но знаете… Это поместье и моя деревня – это даже трудно себе представить. Два разных мира. Куда все это провалилось?»
«Провалилось? Что провалилось?»
«История, – сказал приезжий. – Мы говорили об истории».
«Я так не думаю», – сопя, сказал хозяин.
«Не следует ли сделать противоположный вывод? – вмешался Петр Францевич. – А именно…»
«Где же это Ронечка?»
«Позвольте, я поищу ее».
«Да, да, сделайте одолжение… Смотрите, какие тучи».
Постоялец вернулся домой, промокший до нитки.
ХV
Проснувшись перед рассветом, я угадывал в потемках жалкое убранство моей хижины, мне до смерти хотелось спать, но заснуть я уже не мог. Настроение мое было смутным, в мыслях разброд. С одной стороны, я был рад моим новым знакомым, а с другой – как быть с моим намерением сосредоточиться, остановить свою жизнь? Меня встретили весьма приветливо, и я предчувствовал, что не удержусь от искушения продолжить знакомство. Надо бы расспросить Мавру, наверняка она что-нибудь слышала об этих людях. Солнце уже сверкало позади моей избы, я фыркал под холодным душем, мне стало весело, я вернулся в мою сумрачную комнату; прихлебывая кофе, я озирал разложенные на столе письменные принадлежности, и голова моя была полна разнообразных планов.
Все, что происходило со мною в последние недели, могло бы послужить предисловием к моей работе; я подумал, что следовало бы описать приезд, описать всю длинную дорогу, которая теперь представлялась мне почти символической. Перед глазами стоял первый день, заляпанная грязью машина, заколоченные окна деревенского дома. Я увидел себя стоящим на пороге моего будущего жилья, стройные предложения, как световая надпись, бежали у меня в голове, не хватало лишь первой фразы. Это был хороший признак: я знал, что писанию всегда предшествует замешательство, короткая пауза с пером, повисшим над бумагой. Вроде того как лошадь переступает ногами на одном месте, раскачивает оглоблями тяжелый воз, прежде чем нажать плечами и двинуться вперед, кивая тяжелой головой. Я прибег к известному приему. Окунув перо в чернильницу, поспешно начертал первые пришедшие на ум слова:
«Не так уж далеко пришлось ехать, но едва лишь свернули на проселочную дорогу, как стало ясно, что…»
Моя рука снова зависла над бумагой, я перечеркнул написанное и начал так:
«Два окошка, выходившие на улицу, были крест-накрест заколочены серыми и потрескавшимися досками. Шофер вытащил из багажника железный ломик и…»
«Молочка! – раздался голос Мавры Глебовны. – Ба, – сказала она, входя в избу, – да ты уже встал».
Она поставила передо мной крынку и уселась напротив. Умытая, ясноглазая, мягколицая. На ней был чистый белый платок, она подтянула концы под подбородком.
«Чего так рано-то?»
«Да вот…– проговорил я, все еще с трудом приходя в себя, ибо инерция включенности в писание может быть так же велика, как инерция, мешавшая двинуться в петляющий путь по бумажному листу. – Да вот. – Я показал на то, что лежало на столе, скудный улов моей фантазии. – А ты уж и корову подоила?»
«Эва, да я знаешь, когда встаю? Все ждала, будить тебя не хотела».
«Я тоже рано встал».
«Отчего так? Куды торопиться?»
«Не спится, Маша».
«Мой– то, -сказала она, понизив голос, – в область уехал. Совещание или чего».
Область – это означало «областной центр» – от нас, как до звезд.
«Он у тебя важный человек».
«Да уж куда важней».
Наступила пауза, я поглядывал на свою рукопись.
«Я чего хотела сказать. Василий Степаныч все одно до воскресенья не приедет… Может, у меня поживешь?»
«Неудобно, – сказал я. – Увидят».
«Да кто увидит-то? Аркашка, что ль? Он вечно пьяный. Или на усадьбе работает. Листратиха, так и шут с ней».
«Послушай-ка…– пробормотал я, взял ручку и зачеркнул неоконченную фразу. Мне было ясно, что не нужно никаких предисловий; может быть, позже мы вернемся к первым дням, а начать надо с главного. – Что это за усадьба?»
Ответа не было, я поднял голову, она смотрела на меня и, очевидно, думала о другом.
«Чего?»
«Что это за люди?»
«Которые?»
«Ну, эти».
«Люди как люди, – сказала Мавра Глебовна, разглаживая юбку на коленях. – Помещики».
«Какие помещики, о чем ты говоришь?»
«А кто ж они еще? Ну, дачники. Вроде тебя».
Вздохнув, она поднялась и смотрела в окошко. Я налил молока в кружку.
«В старое время, еще до колхозов, были господа, вот в таких усадьбах жили, – раздался сзади ее голос. – Я-то сама не помню, люди рассказывают. Деревня, говорят, была большая, землю арендовали».
«У тех, кто жил в этой усадьбе?»
«Может, и у тех, я почем знаю. Их потом пожгли. Тут много чего было. И зеленые братья, и эти, как же их, – двадцатитысячники».
«Пожгли, говоришь. Но ведь дом цел».
«Может, не их, а других. Люди говорят, а я откуда знаю?»
Я сидел, подперев голову руками, над листом бумаги, над начатой работой, мои мысли приняли другой оборот. Смысл моего писания был заключен в нем самом. О, спасительное благодеяние языка! Письмо – не средство для чего-то и не способ кому-то что-то доказывать, хотя бы и самому себе; письмо повествует, другими словами, вносит порядок в наше существование; письмо, думал я, укрощает перепутанный до невозможности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда.








