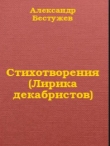Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Борис Чичибабин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Чичибабин Борис
Стихотворения
Борис Чичибабин
Стихотворения
Стихотворения Б.А.Чичибабина (1923-1994)
Отобраны вдовой поэта Лилией Семеновной Карась-Чичибабиной.
x x x
Кончусь, останусь жив ли,чем зарастет провал? В Игоревом Путивле выгорела трава.
Школьные коридоры тихие, не звенят... Красные помидоры кушайте без меня.
Как я дожил до прозы с горькою головой? Вечером на допросы водит меня конвой.
Лестницы, коридоры, хитрые письмена... Красные помидоры кушайте без меня.
1946
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
По деревням ходят деды, просят медные гроши. С полуночи лезут шведы, с юга – шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна, пахнет кладбищем земля. Поросли травою черной беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы. Пропадает богатырь. В очарованные трубы трубит матушка-Сибирь.
На Литве звенят гитары. Тула точит топоры. На Дону живут татары. На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русый рыцарь. Захмелела голова. На словах ты мастерица, вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел, не румянится заря. Человечий пышный пепел гости возят за моря...
Знать, с великого похмелья завязалась канитель: то ли плаха, то ли келья, то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может, воцарится новый тать... И никто нам не поможет. И не надо помогать.
1947
МАХОРКА
Меняю хлеб на горькую затяжку, родимый дым приснился и запах. И жить легко, и пропадать нетяжко с курящейся цигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий, что неспроста, простужен и сердит, и в корешках, и в листиках махорки мохнатый дьявол жмется и сидит.
А здесь, среди чахоточного быта, где холод лют, а хижины мокры, все искушенья жизни позабытой для нас остались в пригоршне махры.
Горсть табаку, газетная полоска какое счастье проще и полней? И вдруг во рту погаснет папироска, и заскучает воля обо мне.
Один из тех, что ну давай покурим, сболтнет, печаль надеждой осквернив, что у ворот задумавшихся тюрем нам остаются рады и верны.
А мне и так не жалко и не горько. Я не хочу нечаянных порук. Дымись дотла, душа моя махорка, мой дорогой и ядовитый друг.
1946
"" x x x
До гроба страсти не избуду. В края чужие не поеду. Я не был сроду и не буду, каким пристало быть поэту. Не в игрищах литературных, не на пирах, не в дачных рощах мой дух возращивался в тюрьмах этапных, следственных и прочих.
И все-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским. Я с ним ютился по баракам, леса валил, подсолнух лускал, каналы рыл и правду брякал. На брюхе ползал по-пластунски солдатом части минометной. И в мире не было простушки в меня влюбиться мимолетно.
И все-таки я был поэтом.
Мне жизнь дарила жар и кашель, а чаще сам я был нешелков, когда давился пшенной кашей или махал пустой кошелкой. Поэты прославляли вольность, а я с неволей не расстанусь, а у меня вылазит волос и пять зубов во рту осталось.
И все-таки я был поэтом, и все-таки я есмь поэт.
Влюбленный в черные деревья да в свет восторгов незаконных, я не внушал к себе доверья издателей и незнакомок. Я был простой конторской крысой, знакомой всем грехам и бедам, водяру дул, с вождями грызся, тишком за девочками бегал.
И все-таки я был поэтом, сто тысяч раз я был поэтом, я был взаправдашним поэтом И подыхаю как поэт.
1960
ВЕРБЛЮД
Из всех скотов мне по сердцу верблюд Передохнет – и снова в путь, навьючась. В его горбах угрюмая живучесть, века неволи в них ее вольют.
Он тащит груз, а сам грустит по сини он от любовной ярости вопит, Его терпенье пестуют пустыни. Я весь в него – от песен до копыт.
Не надо дурно думать о верблюде. Его черты брезгливы, но добры. Ты погляди, ведь он древней домбры и знает то, чего не знают люди.
Шагает, шею шепота вытягивая, проносит ношу, царственен и худ,песчаный лебедин, печальный работяга, хорошее чудовище верблюд.
Его удел – ужасен и высок, и я б хотел меж розовых барханов, из-под поклаж с презреньем нежным глянув, с ним заодно пописать на песок.
Мне, как ему, мой Бог не потакал. Я тот же корм перетираю мудро, и весь я есть моргающая морда, да жаркий горб, да ноги ходока.
1964
КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ
Однако радоваться рано и пусть орет иной оракул, что не болеть зажившим ранам, что не вернуться злым оравам, что труп врага уже не знамя, что я рискую быть отсталым, пусть он орет,– а я-то знаю: не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых, в безвестно канувших на Север а разве веку не в убыток то зло, что он в сердцах посеял? Пока есть бедность и богатство, пока мы лгать не перестанем и не отучимся бояться,не умер Сталин.
Пока во лжи неукротимы сидят холеные, как ханы, антисемитские кретины и государственные хамы, покуда взяточник заносчив и волокитчик беспечален, пока добычи ждет доносчик,не умер Сталин.
И не по старой ли привычке невежды стали наготове навешать всяческие лычки на свежее и молодое? У славы путь неодинаков. Пока на радость сытым стаям подонки травят Пастернаков,не умер Сталин.
А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится, когда мы истины не ищем, а только нового боимся? Я на неправду чертом ринусь, не уступлю в бою со старым, но как тут быть, когда внутри нас не умер Сталин?
Клянусь на знамени веселом сражаться праведно и честно, что будет путь мой крут и солон, пока исчадье не исчезло, что не сверну, и не покаюсь, и не скажусь в бою усталым, пока дышу я и покамест не умер Сталин!
1959
x x x
Меня одолевает острое и давящее чувство осени. Живу на даче, как на острове. и все друзья меня забросили.
Ни с кем не пью, не философствую, забыл и знать, как сердце влюбчиво. Долбаю землю пересохшую да перечитываю Тютчева.
В слепую глубь ломлюсь напористо и не тужу о вдохновении, а по утрам трясусь на поезде служить в трамвайном управлении.
В обед слоняюсь по базарам, где жмот зовет меня папашей, и весь мой мир засыпан жаром и золотом листвы опавшей...
Не вижу снов, не слышу зова, и будням я не вождь, а данник. Как на себя, гляжу на дальних, а на себя – как на чужого.
С меня, как с гаврика на следствии, слетает позы позолота. Никто – ни завтра, ни впоследствии не постучит в мои ворота.
Я – просто я. А был, наверное, как все, придуман ненароком. Все тише, все обыкновеннее я разговариваю с Богом.
1965
ПАСТЕРНАКУ
Твой лоб, как у статуи, бел, и взорваны брови. Я весь помещаюсь в тебе, как Врубель в Рублеве.
И сетую, слез не тая, охаянным эхом, и плачу, как мальчик, что я к тебе не приехал.
И плачу, как мальчик, навзрыд о зримой утрате, что ты, у трех сосен зарыт. не тронешь тетради.
Ни в тот и ни в этот приход мудрец и ребенок уже никогда не прочтет моих обреченных...
А ты устремляешься вдаль и смотришь на ивы, как девушка и как вода любим и наивен.
И меришь, и вяжешь навек веселым обетом: – Не может быть злой человек хорошим поэтом...
Я стих твой пешком исходил, ни капли не косвен, храня фотоснимок один, где ты с Маяковским,
где вдоволь у вас про запас тревог и попоек. Смотрю поминутно на вас, люблю вас обоих.
О, скажет ли кто, отчего случается часто: чей дух от рожденья червон, тех участь несчастна?
Ужели проныра и дуб эпохе угоден, а мы у друзей на виду из жизни уходим.
Уходим о зимней поре, не кончив похода... Какая пора на дворе, какая погода!..
Обстала, свистя и слепя, стеклянная слякоть. Как холодно нам без тебя смеяться и плакать.
[1962]
x x x
Живу на даче. Жизнь чудна. Свое повидло... А между тем еще одна душа погибла.
У мира прорва бедолаг,о сей минуте кого-то держат в кандалах, как при Малюте.
Я только-только дотяну вот эту строчку, а кровь людская не одну зальет сорочку.
Уже за мной стучатся в дверь, уже торопят, и что ни враг – то лютый зверь, что друг – то робот.
Покойся в сердце, мой Толстой не рвись, не буйствуй,мы все привычною стезей проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты, вослед ушедшим. Что льда у лета, доброты просить у женщин.
Какое пламя на плечах с ним нету сладу,Принять бы яду натощак принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты ладони, губы ль от повседневной маеты идешь на убыль.
Как смертью веки сведены, как смертью – веки, так все живем на свете мы в Двадцатом веке.
Не зря грозой ревет Господь в глухие уши: – Бросайте все! Пусть гибнет плоть. Спасайте души!
1966
x x x
И вижу зло, и слышу плач, и убегаю, жалкий, прочь, раз каждый каждому палач и никому нельзя помочь.
Я жил когда-то и дышал, но до рассвета не дошел. Темно в душе от божьих жал, хоть горсть легка, да крест тяжел.
Во сне вину мою несу и – сам отступник и злодей безлистым деревом в лесу жалею и боюсь людей.
Меня сечет господня плеть, и под ярмом горбится плоть,и ноши не преодолеть, и ночи не перебороть.
И были дивные слова, да мне сказать их не дано и помертвела голова, и сердце умерло давно.
Я причинял беду и боль и от меня отпрянул Бог и раздавил меня, как моль чтоб я взывать к нему не мог.
1968
x x x
Сними с меня усталость, матерь Смерть. Я не прошу награды за работу, но ниспошли остуду и дремоту на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно. Ко мне всего на три часа из суток приходит сон, томителен и чуток, и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать невмоготу, а книга блага вся перелисталась. О матерь Смерть, сними с меня усталость, покрой рядном худую наготу.
На лоб и грудь дохни своим ледком, дай отдохнуть светло и беспробудно. Я так устал. Мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко.
Я верил в дух, безумен и упрям, я Бога звал – и видел ад воочью,и рвется тело в судорогах ночью, и кровь из носу хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть, да сколько их останется, однако. Я так устал! Как раб или собака. Сними с меня усталость, матерь Смерть.
1967
КОЛОКОЛ
Возлюбленная! Ты спасла мои корни! И волю, и дождь в ликовании пью. Безумный звонарь, на твоей колокольне в ожившее небо, как в колокол, бью.
О как я, тщедушный, о крыльях мечтал, о как я боялся дороги окольной. А пращуры душу вдохнули в металл и стали народом под звон колокольный.
Да буду и гулок, как он, и глубок, да буду, как он, совестлив и мятежен. В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин всю Русь закатал в тот громовый клубок.
1968
x x x
Трепещу перед чудом Господним, потому что в бездушной ночи никого я не спас и не поднял, по-пустому слова расточил.
Ты ж таинственней черного неба, золотей Мандельштамовых тайн. Не меня б тебе знать, и не мне бы за тобою ходить по пятам.
На земле не пророк и не воин, истомленный твоей красотой,как мне горько, что я не достоин, как мне стыдно моей прожитой!
Разве мне твой соблазн и духовность, колокольной телесности свет? В том, что я этой радостью полнюсь, ничего справедливого нет.
Я ничтожней последнего смерда, но храню твоей нежности звон, что, быть может, одна и бессмертна на погосте отпетых времен.
Мне и сладостно, мне и постыдно. Ты – как дождь от лица до подошв. Я тебя никогда не постигну, но погибну, едва ты уйдешь.
Так прости мне, что заживо стыну. что свой крест не умею нести, и за стыд мой, за гнутую спину и за малый талант мой – прости.
Пусть вся жизнь моя в ранах и в оспах, будь что будет, лишь ты не оставь, ты – мой свет, ты – мой розовый воздух, смех воды поднесенной к устам.
Ты в одеждах и то как нагая, а когда все покровы сняты, сердце падает, изнемогая, от звериной твоей красоты.
1968
x x x
Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю молиться молюсь, а верить – не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья, я сызмала Разину струги смолил. Россия русалочья, Русь скоморошья, почто не добра еси к чадам своим?
От плахи до плахи по бунтам, по гульбам задор пропивала, порядок кляла,и кто из достойных тобой не погублен, о гулкие кручи ломая крыла.
Нет меры жестокости и бескорыстью, и зря о твоем лее добре лепетал дождем и ветвями, губами и кистью влюбленно и злыдно еврей Левитан.
Скучая трудом, лютовала во блуде, шептала арапу: кровцой полечи. Уж как тебя славили добрые люди бахвалы, опричники и палачи.
А я тебя славить не буду вовеки, под горло подступит – и то не смогу. Мне кровь заливает морозные веки. Я Пушкина вижу на жженом снегу.
Наточен топор, и наставлена плаха. Не мой ли, не мой ли приходит черед? Но нет во мне грусти и нет во мне страха. Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.
Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем, и мне в этой жизни не будет защит, и я не уйду в заграницы, как Герцен, судьба Аввакумова в лоб мой стучит.
1969
СТИХИ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Ни с врагом, ни с другом не лукавлю. Давний путь мой темен и грозов. Я прошел по дереву и камню повидавших виды городов.
Я дышал историей России. Все листы в крови – куда ни глянь! Грозный царь на кровли городские простирает бешеную длань.
Клича смерть, опричники несутся. Ветер крутит пыль и мечет прах. Робкий свет пророков и безумцев тихо каплет с виселиц и плах...
Но к о г д а закручивался узел и к о г д а запенивался шквал, Александр Сергеевич не трусил, Николай Васильевич не лгал.
Меря жизнь гармонией небесной, отрешась от лживой правоты, не тужили бражники над бездной, что не в срок их годы прожиты.
Не для славы жили, не для риска, вольной правдой души утоля. Тяжело Словесности Российской. Хороши ее Учителя.
2
Пушкин, Лермонтов, Гоголь – благое начало, соловьиная проза, пророческий стих. Смотрит бедная Русь в золотые зерцала. О, как ширится гул колокольный от них!
И основой святынь, и пределом заклятью как возвышенно светит, как вольно звенит торжествующий над Бонапартовой ратью Возрождения русского мирный зенит.
Здесь любое словцо небывало значимо и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты осененные светом тройного зачина наши веси и грады, кусты и кресты.
Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога, ветер, мука и даль со враждой и тоской, Русской Музы полет от Кольцова до Блока, и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.
Как вода по весне, разливается Повесть и уносит пожитки, и славу, и хлам. Безоглядная речь. Неподкупная совесть. Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.
О, какая пора б для души ни настала и какая б судьба ни взошла на порог, в мирозданье, где было такое начало Пушкин, Лермонтов, Гоголь,– там выживет Бог.
1979
ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОГОЛЮ
1
Как утешительно-тиха и как улыбчиво-лукава в лугов зеленые меха лицом склоненная Полтава.
Как одеяния чисты, как ясен свет, как звон негулок, как вся для медленных прогулок, а не для бешеной езды.
Здесь божья слава сердцу зрима. Я с ветром вею, с Ворсклой льюсь. Отсюда Гоголь видел Русь, а уж потом смотрел из Рима...
Хоть в пенье радужных керамик, в раю лошадок и цветов Остаться сердцем не готов, у старых лип усталый странник,
но так нежна сия земля и так добра сия десница, что мне до смерти будут сниться Полтава, полдень, тополя.
Край небылиц, чей так целебен спасенный чудом от обнов реки, деревьев и домов под небо льющийся молебен.
Здесь сердце Гоголем полно и вслед за ним летит по склонам, где желтым, розовым, зеленым шуршит волшебное панно.
Для слуха рай и рай для глаза, откуда наш провинциал, напрягшись, вовремя попал на праздник русского рассказа.
Не впрок пойдет ему отъезд из вольнопесенных раздолий: сперва венец и капитолий, а там – безумие и крест.
Печаль полуночной чеканки коснется дикого чела. Одна утеха – Вечера на хуторе возле Диканьки...
Немилый край, недобрый час, на людях рожи нелюдские,и Пушкин молвит, омрачась: – О Боже, как грустна Россия!..
Пора укладывать багаж. Трубит и скачет Медный всадник по душу барда. А пока ж он – пасечник, и солнце – в садик.
И я там был, и я там пил меда, текущие по хвое, где об утраченном покое поет украинский ампир...
2
А вдали от Полтавы, весельем забыт, где ночные деревья угрюмы и шатки, бедный-бедный андреевский Гоголь сидит на собачьей площадке.
Я за душу его всей душой помолюсь под прохладной листвой тополей и шелковиц но зовет его вечно Великая Русь от родимых околиц.
И зачем он на вечные веки ушел за жестокой звездой окаянной дорогой из веселых и тихих черешневых сел с Украины далекой?
В гефсиманскую ночь не моли, не проси: Да минует меня эта жгучая чара,никакие края не дарили Руси драгоценнее дара.
То в единственный раз через тысячу лет на серебряных крыльях ночных вдохновений в злую высь воспарил – не писательский, нет мифотворческий гений...
Каждый раз мы приходим к нему на поклон, как приедем в столицу всемирной державы, где он сиднем сидит и путает ворон далеко от Полтавы.
Опаленному болью, ему одному не обидно ль, не холодно ль, не одиноко ль? Я, как ласточку, сердце его подниму. – Вы послушайте. Гоголь.
У любимой в ладонях из Ворсклы вода. Улыбнитесь, попейте-ка самую малость. Мы оттуда, где, ветрена и молода, Ваша речь начиналась.
Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой. Разбегаются люди – смешные козявки. Сам Сервантес Вас за руку взял, а другой Вы касаетесь Кафки.
Вам Италию видно. И Волга видна. И Гремит наша тройка по утренней рани. Кони жаркие ржут. Плачет мать. И струна зазвенела в тумане...
Он ни слова в ответ, ни жилец, ни мертвец. Только тень наклонилась, горька и горбата, словно с милой Диканьки повеял чабрец и дошло до Арбата...
За овитое терньями сердце волхва, за тоску, от которой вас Боже избави, до полынной земли, Петербург и Москва, поклонитесь Полтаве.
1973
ПАМЯТИ А.ТВАРДОВСКОГО
Вошло в закон, что на Руси при жизни нет житья поэтам, о чем другом, но не об этом у черта за душу проси.
Но чуть взлетит на волю дух, нислягут рученьки в черниле, уж их по-царски хоронили, за исключеньем первых двух.
Из вьюг, из терний, из оков, из рук недобрых, мук немалых народ над миром поднимал их и бережно, и высоко.
Из лучших лучшие слова он находил про опочивших, чтоб у девчонок и мальчишек сто лет кружилась голова.
На что был загнан Пастернак тихоня, бука, нечестивец, а все ж бессмертью причастились и на его похоронах...
Иной венец, иную честь, Твардовский, сам себе избрал ты, затем чтоб нам хоть слово правды по-русски выпало прочесть.
Узнал, сердечный, каковы плоды, что муза пожинала. Еще лады, что без журнала. Другой уйдет без головы.
Ты слег, о чуде не моля, за все свершенное в ответе... О, есть ли где-нибудь на свете Россия – родина моя?
И если жив еще народ, то почему его не слышно и почему во лжи облыжной молчит, дерьма набравши в рот?
Ведь одного его любя, превыше всяких мер и правил, ты в рифмы Теркина оправил, как сердце вынул из себя.
И в зимний пасмурный денек, устав от жизни многотрудной, лежишь на тризне малолюдной, как жил при жизни одинок.
Бесстыдство смотрит с торжеством. Земля твой прах сыновний примет, а там Маршак тебя обнимет, Голубчик,– скажет,– с Рождеством!..
До кома в горле жаль того нам, кто был эпохи эталоном и вот, унижен, слеп и наг, лежал в гробу при орденах,
но с голодом неутоленным,на отпеванье потаенном, куда пускали по талонам на воровских похоронах.
1971
ЗАЩИТА ПОЭТА
И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
А. С. Пушкин
С детских лет избегающий драк, чтящий свет от лампад одиноких, я – поэт. Мое имя – дурак. И бездельник, по мнению многих.
Тяжек труд мне и сладостен грех, век мой в скорби и праздности прожит, но, чтоб я был ничтожнее всех, в том и гений быть правым не может.
И хоть я из тех самых зануд, но, за что-то святое жалея, есть мне чудо, что Лилей зовут, с кем спасеннее всех на земле я.
Я – поэт, и мой воздух – тоска, можно ль выжить, о ней не поведав? Пустомель – что у моря песка, но как мало у мира поэтов.
Пусть не мед – языками молоть, на пегасиках ловких проискав под казенной уздой, но Господь возвещает устами пророков.
И, томим суетою сует и как Бога зовя вдохновенье, я клянусь, что не может поэт быть ничтожным хотя б на мгновенье.
Соловей за хвалой не блестит. Улыбнись на бесхитростность птичью. Надо все-таки выпить за стыд, и пора приучаться к величью.
Светлый рыцарь и верный пророк, я пронизан молчанья лучами. Мне опорою Пушкин и Блок. Не равняйте меня с рифмачами.
Пусть я ветрен и робок в миру, телом немощен, в куче бессмыслен, но, когда я от горя умру, буду к лику святых сопричислен.
Я – поэт. Этим сказано все. Я из времени в Вечность отпущен. Да пройду я босой, как Бас?, по лугам, стрекозино поющим.
И, как много столетий назад, просветлев при божественном кличе, да пройду я, как Данте, сквозь ад и увижу в раю Беатриче.
И с возлюбленной взмою в зенит, и от губ отрешенное слово в воскрешенных сердцах зазвенит до скончания века земного.
1971
"""" x x x
Больная черепаха ползучая эпоха, смотри: я – горстка праха, и разве это плохо?
Я жил на белом свете и даже был поэтом,попавши к миру в сети, раскаиваюсь в этом.
Давным-давно когда-то под песни воровские я в звании солдата бродяжил по России.
Весь тутошний, как Пушкин или Василий Теркин, я слушал клеп кукушкин и верил птичьим толкам.
Я – жрец лесных религий, мне труд – одна морока, по мне, и Петр Великий не выше скомороха.
Как мало был я добрым хоть с мамой, хоть с любимой, за что и бит по ребрам судьбиной, как дубиной.
В моей дневной одышке, в моей ночи бессонной мне вечно снятся вышки над лагерною зоной.
Не верю в то, что руссы любили и дерзали. Одни врали и трусы живут в моей державе.
В ней от рожденья каждый железной ложью мечен, а кто измучен жаждой, тому напиться нечем.
Вот и моя жаровней рассыпалась по рощам. Безлюдно и черно в ней, как в городе полнощном.
Юродивый, горбатенький, стучусь по белу свету зову народ мой батенькой, а мне ответа нету.
От вашей лжи и люти до смерти не избавлен, не вспоминайте, люди, что я был Чичибабин.
Уже не быть мне Борькой, не целоваться с Лилькой, опохмеляюсь горькой. Закусываю килькой.
1969
СУДАКСКИЕ ЭЛЕГИИ
2
Настой на снах в пустынном Судаке... Мне с той землей не быть накоротке, она любима, но не богоданна. Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай... Я понял там, чем стал Господень рай после изгнанья Евы и Адама.
Как непристойно Крыму без татар. Шашлычных углей лакомый угар, заросших кладбищ надписи резные, облезлый ослик, движущий арбу, верблюжесть гор с кустами на горбу, и все кругом – такая не Россия.
Я проходил по выжженным степям и припадал к возвышенным стопам кремнистых чудищ, див кудлатоспинных. Везде, как воздух, чуялся Восток пастух без стада, светел и жесток, одетый в рвань, но с посохом в рубинах.
Который раз, не ведая зачем я поднимался лесом на Перчем, где прах мечей в скупые недра вложен, где с высоты Георгия монах смотрел на горы в складках и тенях, что рисовал Максимильян Волошин.
Буддийский поп, украинский паныч, в Москве француз, во Франции москвич, на стержне жизни мастер на все руки, он свил гнездо в трагическом Крыму, чтоб днем и ночью сердце рвал ему стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы – в синий Коктебель. Да у меня в России колыбель и не дано родиться по заказу, и не пойму, хотя и не кляну, зачем я эту горькую страну ношу в крови как сладкую заразу.
О, нет беды кромешней и черней, когда надежда сыплется с корней в соленый сахар мраморных расселин, и только сердцу снится по утрам угрюмый мыс, как бы индийский храм, слетающий в голубизну и зелень...
Когда, устав от жизни деловой, упав на стол дурною головой, забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник, да озарит печаль моих поэм полынный свет, покинутый Эдем над синим морем розовый шиповник.
1974
x x x
Между печалью и ничем мы выбрали печаль. И спросит кто-нибудь зачем?, а кто-то скажет жаль.
И то ли чернь, а то ли знать, смеясь, махнет рукой. А нам не время объяснять и думать про покой.
Нас в мире горсть на сотни лет, на тысячу земель, и в нас не меркнет горний свет, не сякнет Божий хмель.
Нам – как дышать,– приняв печать гонений и разлук,огнем на искру отвечать и музыкой – на звук.
И обреченностью кресту, и горечью питья мы искупаем суету и грубость бытия.
Мы оставляем души здесь, чтоб некогда Господь простил нам творческую спесь и ропщущую плоть.
И нам идти, идти, идти, пока стучат сердца, и знать, что нету у пути ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут, лаская тишиной, мы лишь на несколько минут забудемся душой.
И снова – за листы поэм, за кисти, за рояль,между печалью и ничем избравшие печаль.
1977
"""" ПРИЗНАНИЕ
Зима шуршит снежком по золотым аллейкам, надежно хороня земную черноту, и по тому снежку идет Шолом-Алейхем с усмешечкой, в очках, с оскоминкой во рту.
В провидческой тоске, сорочьих сборищ мимо, в последний раз идет по родине своей,а мне на той земле до мук необъяснимо, откуда я пришел, зачем живу на ней.
Смущаясь и таясь, как будто я обманщик, у холода и тьмы о солнышке молю, и все мне снится сон, что я еврейский мальчик, и в этом русском сне я прожил жизнь мою.
Мосты мои висят, беспомощны и шатки уйти бы от греха, забыться бы на миг!.. Отрушиваю снег с невыносимой шапки и попадаю в круг друзей глухонемых.
В душе моей поют сиротские соборы, и белый снег метет меж сосен и берез, но те кого люблю, на приговоры скоры и грозный суд вершат не в шутку, а всерьез.
О, нам хотя б на грош смиренья и печали, безгневной тишины, безревностной любви! Мы смыслом изошли, мы духом обнищали, и жизнь у нас на лжи, а храмы – на крови
Мы рушим на века – и лишь на годы строим, мы давимся в гробах, а Божий мир широк. Игра не стоит свеч, и грустно быть героем, ни Богу, ни себе не в радость и не впрок.
А я один из тех, кто ведает и мямлит и напрягает слух пред мировым концом. Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет, но шпагу обнажу – и стану мертвецом.
Я на ветру продрог, я в оттепели вымок, заплутавшись в лесу, почуявши дымок, в кругу моих друзей, меж близких и любимых, о как я одинок! О как я одинок!
За прожитую жизнь у всех прошу прощенья и улыбаюсь всем, и плачу обо всех но как боится стих небратского прочтенья, как страшен для него ошибочный успех...
Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих, и окаянной тьмой затмится белый свет. Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик о нищете мирской, о суете сует.
Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова, и станет плотью тень, и оборвется нить. О как нас Бог зовет! А мы не слышим зова. И в мире ничего нельзя переменить.
Когда за мной придут, мы снова будем квиты. Ведь на земле никто ни в чем не виноват. А все ж мы все на ней одной виной повиты, и всем нам суждена одна дорога в ад.
1980
x x x
Ежевечерне я в своей молитве вверяю Богу душу и не знаю, проснусь с утра или ее на лифте опустят в ад или поднимут к раю.
Последнее совсем невероятно: я весь из фраз и верю больше фразам, чем бытию, мои грехи и пятна видны и невооруженным глазом.
Я все приму, на солнышке оттаяв, нет ни одной обиды незабытой; но Судный час, о чем смолчал Бердяев, встречать с виной страшнее, чем с обидой.
Как больно стать навеки виноватым, неискупимо и невозмещенно, перед сестрою или перед братом,к ним не дойдет и стон из бездны черной.
И все ж клянусь, что вся отвага Данта в часы тоски, прильнувшей к изголовью, не так надежна и не благодатна, как свет вины, усиленный любовью.
Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели на то и жизнь, на то и воля Божья. Мне это все открылось в Коктебеле под шорох волн у черного подножья.
1984
СИЯНИЕ СНЕГОВ
Как зимой завершена обида темных лет! Какая в мире тишина! Какой на свете свет!
Сон мира сладок и глубок, с лицом, склоненным в снег, и тот, кто в мире одинок, в сей миг блаженней всех.
О, стыдно в эти дни роптать, отчаиваться, клясть, когда почиет благодать на чаявших упасть!
В морозной сини белый дым, деревья и дома,благословением святым прощает нас зима.
За все зловещие века, за всю беду и грусть младенческие облака сошли с небес на Русь.
В них радость – тернии купать рождественской звезде. И я люблю ее опять, как в детстве и в беде.
Земля простила всех иуд, и пир любви не скуп, и в небе ангелы поют, не разжимая губ.
Их свечи блестками парят, и я мою зажгу, чтоб бедный Галич был бы рад упавшему снежку.
О, сколько в мире мертвецов, а снег живее нас. А все ж и нам, в конце концов, пробьет последний час.
Молюсь небесности земной за то, что так щедра, а кто помолится со мной, те – брат мне и сестра.
И в жизни не было разлук, и в мире смерти нет, и серебреет в слове звук, преображенный в свет.
Приснись вам, люди, снег во сне, и я вам жизнь отдам глубинной вашей белизне, сияющим снегам.
1979
x x x
Сколько вы меня терпели!.. Я ж не зря поэтом прозван, как мальчишка Гекльберри, никогда не ставший взрослым.
Дар, что был неждан, непрошен, у меня в крови сиял он. Как родился, так и прожил дураком-провинциалом.
Не командовать, не драться, не учить, помилуй Боже,водку дул заради братства, книгам радовался больше.
Детство в людях не хранится, обстоятельства сильней нас,кто подался в заграницы, кто в работу, кто в семейность.
Я ж гонялся не за этим, я и жил, как будто не был, одержим и незаметен, между родиной и небом.
Убежденный, что в отчизне все напасти от нее же, я, наверно, в этой жизни лишь на смерть души не ?жил.
Кем-то проклят, всеми руган, скрючен, согнут и потаскан, доживаю с кротким другом в одиночестве бунтарском.
Сотня строчек обветшалых разве дело, разве радость? Бог назначил, я вещал их,дальше сами разбирайтесь.
Не о том, что за стеною, я писал, от горя горбясь, и горел передо мною обреченный Лилин образ...
Вас, избравших мерой сумрак, вас, обретших душу в деле, я люблю вас, неразумных, но не так, как вы хотели.
В чинном шелесте читален или так, для разговорца, глухо имя Чичибабин, нет такого стихотворца.
Поменяться сердцем не с кем, приотверзлась преисподня,все вы с Блоком, с Достоевским,я уйду от вас сегодня.
А когда настанет завтра, прозвенит ли мое слово в светлом царстве Александра Пушкина и Льва Толстого?
1986
x x x
Кто – в панике, кто – в ярости, а главная беда, что были мы товарищи, а стали господа.
Ох, господа и дамы! Рассыпался наш дом Бог весть теперь куда мы несемся и бредем.
Боюсь при свете свечек смотреть на образа: на лицах человечьих звериные глаза.
В сердцах не сохранится братающая высь, коль русский с украинцем спасаться разошлись.
Но злом налиты чаши и смерть уже в крови, а все спасенье наше в согласье и любви,
Не стану бить поклоны ни трону, ни рублю в любимую влюбленный все сущее люблю.
Спешу сказать всем людям, кто в смуте не оглох, что если мы полюбим, то в нас воскреснет Бог.
Сойдет тогда легко с нас проклятие времен, и исцеленный космос мы в жизнь свою вернем.
Попробуйте – влюбитесь,иного не дано,и станете как витязь, кем зло побеждено.
С души спадет дремота, остепенится прыть. Нельзя, любя кого-то, весь мир не полюбить.
1991
x x x
В лесу соловьином, где сон травяной, где доброе утро нам кто-то пропинькал, счастливые нашей небесной виной, мы бродим сегодня вчерашней тропинкой.
Доверившись чуду и слов лишены и вслушавшись сердцам в древесные думы, две темные нити в шитье тишины, светлеем и тихнем, свиваясь в одну, мы.
Без крова, без комнат венчальный наш дом, и нет нас печальней, и нет нас блаженней. Мы были когда-то и будем потом, пока не искупим земных прегрешений...