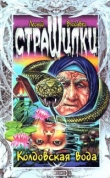Текст книги "Деревянное царство (с рисунками О. Биантовской)"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава пятая
«СВЕТИЛА В ОКНА ТУСКЛОГО ВАГОНА…»
Верный человек чуть не опоздал к поезду. Они так неслись к вокзалу, что не успели ни о чём поговорить.
– Ты вот что, старик! – кричал реставратор, когда Петька уже стоял в тамбуре вагона. – Адрес у тебя в рюкзаке, на бумажке! Проводница тебя высадит! Клава тебя встретит! А телеграмму подал – всё будет нормально! Старик! Держи хвост морковкой! Старик!..
Он бежал за поездом, кричал, что не сказал самого главного. Что-то выкрикивал про скит… про деревню Староверовку… поминал какие-то книги… иконы…
Петька ничего не понял. Расстроился ещё больше. Пошёл к себе в купе и залез на верхнюю полку. Стучали колёса. Скрещивались за окном пути. Мигали семафоры. «Сидеть бы сейчас дома! Читать книжку! Или помогать капитану Никифорову ловить преступников», – печально думал он.
Прямо перед Петькиной полкой четыре мужика резались в карты. Разговор шёл интересный и даже, как показалось мальчишке, героический. Да и вообще картёжники Столбову поправились. Широкоплечие! С обветренными лицами и хриплыми голосами. «Настоящие трапперы», – подумал о них Петька, припомнив сразу и «Зверобоя» и «Последнего из могикан», и даже «Дерсу Узала»…
– Счас лося… Лося надо брать, – говорил хрипло один из мужиков, упираясь мощным подбородком в воротник грубого свитера. – Лось тут непуганый. А лось – это что? Это мясо! В городишко приедешь – с руками оторвут. Значит, содействие городу в обеспечении продуктами.
– А разве тут не заповедник? – спросил его парень в очках и в жёлтой нейлоновой куртке, которую Петька сразу оценил: канадская или японская.
– Намёк понял! – сказал хрипатый. – Нет, дорогуша, тут не заповедник. Вот с вальта я и пойду! Не заповедник тут! И вот ещё вам в придачу. А вы каким промыслом живёте?
– Наука! – сказал очкастый и засмеялся. – Как это? Стас? Какая наука?
– Эта… – сказал его партнёр. – Этнография! Во!
– Это как же? Вот наше дело исконное – охота. А вы, я извиняюся, как?
– Очень просто, – говорит очкастый и запевает: – «Я ехала домой, двурогая луна… светила в окна тусклого вагона».
Петька смотрит на них с верхней полки с уважением, первый раз он видит этнографов.
– Вы, так сказать, собираете ценности материальные, а мы духовные. Вот вам дамочка! Тут деревни пустые стоят, а в них, знаете ли, пропадает всякая утварь, или, к примеру, иконы… Доски мы их называем, а это сейчас в большом ходу…
– Видал! Видал… – недобрым смехом засмеялся ещё один игрок, по виду тоже охотник. – А потом «рус ляпти, рус балалайка…» Скалки, прялки…
– Именно, именно… – смеется очкарик. – Не пропадать же этому в мёртвых деревнях… «Светила в окна тусклого вагона…»
– А в раньшее время церковных воров знаешь как убивали? – интересуется тот, с недобрым смехом. И тоже запевает про двурогую луну.
– Так дикие люди были! Опьянённые дурманом религии, они видели в иконах так называемые святыни, а не произведения искусства… А мы возвращаем народу утраченное достояние.
– И сколько же такое достояние дает, если, скажем, милиция застукает? – интересуется охотник.
«Что это он? – думает Петька. – При чём тут этнография и милиция?»
– «Светила в окна тусклого вагона…» – поёт очкастый. – Меньше, меньше, чем за охоту без лицензий. Да ещё в заповеднике.
– Не заповедник здесь… Не заповедник, – говорит охотник. – Вот вам раз! Два! Три! И… погоны! – И он довольно начинает подпевать про окна тусклого вагона.
«Что это они поют неправильно, – думает сквозь дремоту Петька, не „тусклого вагона“, а „окна тусклые вагона“, а тусклых вагонов не бывает, это окна тусклые…»
Трясётся вагон на стыках, гудит разговорами. В каждой секции своё. Ребёнок плачет, гармошка играет… Но разговоры всё больше про деревню да про места, мимо которых мчится поезд.
– То, что сейчас деньги вкладывают в Нечерноземье, это не только экономика… – говорит кто-то в соседнем купе. – Это наш национальный, патриотический долг, нужно воскресить исторический центр России…
– Болото не стоит! Оно наступает! Мы сейчас осушаем те земли, которые полвека назад обрабатывались… А озёр сколько болотом затянуло… – толкуют в проходе.
– И… милай, – встревает, суди по голосу, старуха, – я девчонкой была – всё озёры да озёры кругом, а теперя болотина онна…
– От болот реки образуются, – говорит ещё кто-то. – Болота осушите – рек не станет.
– Не заповедник тут, но заповедник… – говорит под Петькиной полкой охотник. – Это тут егерь есть один – Антипа Пророков, так он норовит все леса в заповедник превратить.
– Знаем, – подтверждает очкастый, – чокнутый он. Сумасшедший.
– Точно, – говорит охотник. – Меня в упор стрелял. Я кричу: «Что ты делаешь? Убьёшь – тебя в тюрьму посадят!» А он смеётся. «Не твоя, – говорит, – забота! Были бы у лосей ружья, я бы не стрелял». И в шапку мне пулей! Пулей! Ненормальный.
– Да, – тяжело вздыхает другой охотник. – С ним общего языка не найдёшь. А вот, к примеру, сколько икона может стоить?
– По-разному, – отвечает очкарик. – Смотря кто берёт.
«А разве иконы продают?» – сквозь сон думает Петька. И ему припоминается Николай Александрович. Как тот изменился в лице, когда Петька спросил: «Сколько это стоит?». Словно он про что-то стыдное спросил. И как восторгался реставратор: «Какие краски! Контур плавный! Рисунок…»
– Тут зверьё само на выстрел идёт, – говорит тот, с героическим подбородком, в свитере. – На прошлой неделе взяли лосиху. Рюкзака два мяса, шкуру сверху повесили. Только идти собрался, а за мной лосёнок сзади, здоровый уже, а совсем дурак, так до грузовика и шёл. За шкурой! Дурак!
– Это их Антипа избаловал! Он их солью да сеном всю зиму прикармливал. Они человека не боятся.
– Да нет! Это он за шкурой шёл! До самого грузовика. Так что мясо теперь за охотником само ходит…
Это последнее, что слышит засыпающий Петька. Ему снится индеец в полном боевом уборе. Зверобой и Чингачгук, друг индейцев, в исполнении югославского артиста Гойко Митича. И он, сам Петька, скачет куда-то на мустанге по прериям.
– Доски нынче в ходу! – говорит Чингачгук, а Зверобой добавляет:
– Теперь мясо за охотником само ходит… Только вот егерь сумасшедший всю музыку портит.
Глава шестая
ЗДРАВСТВУЙТЕ И ВЫ!
Ещё вечером решил Петька подружиться с героическими охотниками и с этнографами. А может, и попроситься с ними на охоту. Всё лучше, чем ехать в какую-то деревню о пяти дворах, к какой-то Клаве. Но утром он, как водилось в его обычаях, проспал и проснулся оттого, что его трясли.
– Мальчик, – орала над его ухом проводница, – что ты разлёгся! Твоя станция!
Петька с грохотом повалился с полки, роняя лыжи, которые всё время норовили стать поперёк прохода, побежал к выходу. Метнул в вагонную дверь рюкзак и, как десантник, ринулся за ним. Его ослепил радостный блеск синего неба, снега, солнца. Он даже ошалел немного…
«Где же я найду эту Клаву, которая должна меня встречать?» Петька огляделся. Далеко-далеко у станции он увидел сани и лошадь. В санях стоял дед и наяривал на гармошке. Поскольку никого у станции, кроме этого деда, не было, Столбов пошёл к нему.
Тепловоз зафырчал. Поезд уехал, и в наступившей тишине особенно весело заливалась гармошка. Невольно все вокруг шагали в такт плясовой, которую выделывал дед. Старик с гармошкой был похож на деда-мороза из мультика. Шуба до пят, из-под воротника задорным клином торчит бородёнка. А тут ещё принялся он выкрикивать частушки, да такие разудалые, что лошадь только вздрагивала и трясла перевитой лептами гривой.
– Я извиняюся! – закричал старик. – Не вы ли, я извиняюся, Столбов Пётра?
– Я! А вас за мною Клава прислала?
– Клаве меня прислать никак невозможно, – ответил старик, – потому как я Клава и есть! Клавдий меня называют – в честь римского императора!
Из-за угла вывернулась девчонка в пуховом платке крест-накрест и в оранжевом полушубке.
– Катюша! Вот он! Она, вишь ты, стесняется, что я на гармошке исполняю, – пояснил дед, укладывая Петькины вещи. «Вы, – говорит, – дедуня, меня на всю станцию позорите». А я так понимаю: гостя с музыкой надо встречать. А? Ну, поручкайтесь! Чего вы так стоите?
– Здрасти. Пётр!
– Здравствуйте и вы! Катерина, – нараспев сказала девчонка, покраснела и стала совсем похожа на апельсин.
– Катерина Николаевна Стамикова – приставлена ко мне по тимуровской линии, – объяснил дед. – Как пенсионеру и инвалиду войны воспомоществование оказывать. Вот. А сюда её старуха моя отрядила, чтобы я в буфете себе лишнее не позволил. Для досмотру за мной. Потому как ежели напьёшься, можно замёрзнуть в дороге: ехать-то двадцать пять вёрст!
Дед тараторил, мотался вокруг лошади, оправлял сбрую. У Петьки от него в глазах рябило.
– Что ж! – сказал вдруг дед. – Похож на отца! Похож и похож! Хорошай ты мой! – Он вдруг всхлипнул и прижал Петьку к себе. – Вспомнили старика. Робёнка свово прислали… А сами-то что? Ай при деле? Ну-ну-ну… А то вон идут с ружжами! А с ружжами я возить не любитель! Счас проситься станут… Погоняй!
Петька оглянулся. К ним, действительно, торопились вчерашние его попутчики. Петька узнал и очкастого и хрипатого.
– Эй, маэстро! – кричали они. – Погоди!
– Кричат? – подмигнул дед Петьке. – А я не слышу. Я на инструменте исполняю! – И он развернул гармошку во всю ширину расписных розовых мехов.
Гармошка рявкнула, зазвенела бубенцами лошадёнка, дёрнула. И поплыли мимо кирпичные сараи станции, избы, закрытые ларьки на привокзальной площади. И потом пошёл лес – румяные сосны, тёмные с фиолетовым отливом ели, голубые и розовые сугробы. Лошадёнка весело бумкала копытами по накатанной дороге, девчонка покрикивала на неё, скрипели сани.
– А вот, скажем, в автобусе на гармошке играть не дозволяется. Да и не сыграешь – мотор гудит. И на катере не сыграешь, опять же мотор заглушает. А вот на весельной лодке можно! Но для лодки нужнее гитара, потому в лодке плавность – там тихая музыка нужна, чтобы природу не пугать, рассуждал дед. – Ах! – закричал он вдруг так, что Катя оглянулась. – Голова я садовая! Ребёнок совсем окоченел, а я на гармошке исполняю! Я же тулуп тебе припас. Натягивай! А то ты в синтетике этой вовсе окочуришься.
– Да я ничего! – попытался возражать Петька, но зубы у него предательски выбивали дробь.
Дед вытянул откуда-то снизу тулуп, и Петька оказался в тёплом овчинном облаке. Он поёрзал, устраиваясь поудобнее, и вдруг под ногами увидел ящик. Не таким человеком был Петька, чтобы не сунуть в ящик руку. Раз – и в руке у него оказалась деревянная пёстрая птичка – свистулька! Два – и он вытащил деревянный грибок с алой шляпкой.
– А… – махнул рукой дед, объясняя назначение этих вещей, – это так, распродать не успел. От скуки на продажу – статья дохода… – Он вздохнул горестно. – Вот нонеча бирюльками этими пробавляюсь. А ведь я – плотник! Дворец могу срубить… Бывало, втроём избу за два месяца рубили. Пятистенок!
«Странный какой дед! – подумал Петька. – Совсем как мальчишка. Того гляди, начнёт из рогатки стрелять…»
Дед совсем не походил на тех, которых Петька видел в кино и про которых читал в книжках. Те были спокойные, рассудительные, мудрые. А это какой-то дёрганый, маленький, шебутной. Не настоящий дед. Петька ещё раз внимательно посмотрел на деда. Нет! Не верилось, что он всю войну прятал детей, рискуя жизнью. Нет, не так, но мнению Петьки, должны были выглядеть герои. Вот он сидит, шапка набекрень – одно ухо опущено, другое вверх торчит, как у собаки. Лицо коричневое – всё в морщинах, а зубы все ровные и белые, как у молодого. Да ещё гармошка эта дурацкая… Скоморох!
Катя делала вид, что всецело занята лошадью и дорогой. А сама нет-нет да и посматривала через плечо на приезжего мальчишку. «Вот какой! – думала она. – Городской! Книжек целую пачку везёт и молчит всё время – умный, значит. И лыжи везёт – спортсмен, значит. Умный и спортсмен! Чего же ещё желать!» И Катьке хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы мальчишка обратил на неё внимание, но ничего подходящего она придумать не могла и только досадливо прикрикивала на лошадь.
– Никак землемер бегит! – сказал дед, настораживаясь. – А ну, Катерина, придержи! Землемер и есть!
– Здравствуйте! – Из-за деревьев показался высокий худой человек. На плече у него была тренога с каким-то прибором. – Как хорошо, что я вас встретил, а то уж думал, совсем пропаду. Ноги промочил. Тут это болото чёртово. О господи… – застонал он, заваливаясь в телегу и стаскивая валенки. – Всё напрочь мокрое!
– А мы сейчас, сейчас… – хлопотал дед, стягивая с плеч тулуп. – Во, ноги-то в овчину заверни. Что ж ты по болотине-то ходишь?
– Трассу, трассу кладу, – сказал землемер. – Будем здесь канаву копать для осушения.
– А ну-ко! Вот у меня водочка есть! Давай и внутренне и наружно! – дед вытащил из кармана телогрейки бутылку. – Давай ноги-то разотру… Так, говоришь, осушать будете? Хорошо! Взялися! – приговаривал дед, растирая землемеру посиневшие ноги. – А то всякие пустыни да тундры осваивают, а своя-то коренная русская земля гибнет без присмотру. Ведь, милай, это вот, – он обвёл рукой вокруг, – это земли-то хорошие, раньше-то ведь мы их пахали. Я ещё пахал, а потом всё заболотилось… в Раскольниковом болоте ключи бьют и всё заболачивают.
– Да уж это болото! – вздохнул землемер. – Смешно сказать: до сих пор – белое пятно на карте! Почти сто квадратных километров, а что в этом болоте – неизвестно, непроходимое болото. Топи кругом.

– Это надо с егерем Антипой Пророковым сходить – он всё знает.
Петька насторожился. Второй раз он слышал это имя – Антипа Пророков.
– Да что ваш Пророков! Аэрофотосъёмка покалывает, что в этом болоте даже острова есть и на них лес густой, да что толку – не пройти! Понимаете, не пройти! Да и осушать это болото мы не можем полностью. И водный баланс может нарушиться. Может быть, когда-нибудь и превратим это болото опять в озеро. И у нас техники такой нет! Не изобрели ещё. «Вот тебе и раз! – подумал Петька. – Что-то не верится! В космос летаем, а болота осушить не можем».
– Да тут и без этого болота земли навалом. Одну канаву проложили за Плотниковым лесом и то…
– Где? – спросил дед шёпотом.
– Да за Плотниковым лесом спустили воду в овраг, теперь раскорчёвываем, а весной пахать будем.
– Милай! – сказал старик. – Дорогой ты мой! Это ж моё поле! Это ж я с отцом эту пашню раскорчёвывал. Эта земля-то мной у болота отвоёвана. Я её пахал, а потом война, дак не до пашни было. Я с войны пришёл израненный весь, лошади нет. Попробовал раскорчевать – куда! Не по силам! Заросло всё, заболотилось… Я и отступился.
Старика было не узнать. Он скинул шапку и, стоя в санях на коленях, блаженно улыбался.
«Ненормальный дед! – решил Петька. – Чокнутый! Чего радуется? Да кому она нужна, земля эта? Подумаешь, осушили десяток гектаров. Вон Голландия наполовину у моря отвоёвана, и ничего особенного. „Земля, земля“, – мысленно передразнил он деда Клавдия. – Радуется, словно остров сокровищ нашёл».
Глава седьмая
ДЕРЕВЯННОГО РУКОМЕСЛА МАСТЕРЫ
Дед не угомонился, он и дома всё рассказывал, что поле его осушили. Да всё себя ладонями хлопал, да всё охал и радовался. Хорошо бы один день, а то и второй, и третий… Собирался пойти поглядеть, как там работают. Всё в окно смотрел да головой сокрушённо мотал, потому что за окном мела такая метель, какую только в кино показывают, – света белого не видно. Ни о каких лыжах, ни о каких лесных прогулках и речи быть не могло!
Плохо было Петьке. Не привык он к деревенской жизни. Спать ложились вечером рано. Часов в девять. Закрывали ставни, гасили свет, и всё погружалось в такую тьму, словно избу опустили в бассейн с тушью. Петька, дома по ложившийся раньше двенадцати, страдал и ворочался в темноте. В голову ему лезла всякая чепуха. Страшные ночные звуки наполняли избу. То мышь заскребётся. То вдруг покажется, что ходики стали так тикать, что дом сейчас раскатится по брёвнышку. То дед заворочается на печке, двинет локтем в стену. То в диване, на котором спал Петька, заноют пружины… Невозможно уснуть.
Зато утром Петька мучительно просыпался в пять часов. Собственно, специально его никто не поднимал, валяйся хоть до обеда. Но в пять утра котёнок по имени Лазер, потому что лазал где не надо, забирался в кухонный стол и начинал громыхать посудой. И если стол бывал заперт, принимался скрести дверь и мяукать. Вслед за ним начинал лаять на дворе дурашливый, хитрый и весёлый пёс Лайнер. «Дворянин! Лайнер!», как называл его дед за беспородность и неудержимую страсть лаять просто так – для развития голосовых связок. За Лайнером вступал в хор петух Коля, он кукарекал подряд не менее двенадцати раз.
– Ну, – говорила шёпотом бабушка Настя, – Коля проснулся – день белый начался. Надоть вставать – за труды приниматься. – Она сильно возражала против тех диковинных имён, что дал дед коту и собаке, и звала петуха ласково – Коля, хотя дед собирался назвать его Оратор, потому что петух всё время что-то втолковывал курам.
Бабка вставала, убирала постель с сундука, на котором спала. Начинала греметь вёдрами, плескать водой – собиралась доить корову. На некоторое время становилось тихо. Проснувшийся Петька задрёмывал опять. Но не надолго – просыпался дед. Он резко садился на печи и стукал головой в потолок.
– Ах, чтоб ты прокисла! – крякал он, потирая шишку на лбу. Шишке этой было уже много лет, потому что дед колотился в потолок ежедневно. Постанывая и напевая, он слезал с печи и начинал внушать котёнку, что нужно не попрошайничать, а работать – мышей ловить, тогда не надо будет по шкафам лазать. После того как дед полностью тратил на котёнка запас нотаций, он напоследок называл его империалистом и экспроприатором.
– Воды небось не хочешь, Муссолини несчастная?
Но котёнок начинал пить.
– Господи! – удивлялся дед. – Совсем голодная животная! Настя! Где молоко-то?
Потом дед, подвывая, мылся в сенях ледяной водой. Помывшись, он шёл в боковушку, где у него стоял токарный станок, и начинал работать.
«Не слышны в саду даже шорохи! – начинало пиликать радио. – Московское время – шесть часов. С добрым утром, товарищи!»
Петька готов был зарыдать от такого доброго утра. И всё-таки он засыпал. И просыпался, теперь уже окончательно, оттого, что бабка ласково говорила:
– Петяша! Ну-ко блинка горяченького.
– Куда ты ему, неумытому! – говорил дед, сидевший у самовара за чаем.
– Так ведь пока горячий – вкусный!
– Пущай встаёт, за стол садится.
– Да пусть ещё понежится! – говорила бабка, гладя Петьку по голове лёгкой костистой рукой. – Пускай полежит – какие его годы. Ещё наломается…
– Я в его годы в Питер дрова пилить ходил. Мне уж ползаработка платили. Да что в Питер! Пётра! Сколь тебе годов?
– Тринадцать.
– О! – хмыкал дед. – Да я в эту пору за мужика остался. И пахал и сеял – отца-то на германскую войну забрали. А ты говоришь, какие его года! Самые мущинские года и есть! Не в годах дело. Вставай, Пётра! Кто рано встаёт – тому бог даёт!
Петька вставал. Шёл в холодные сени, двумя пальцами промывал глаза, мочил мыло и усиленно тёр полотенцем сухое лицо.
– Красавец ты мой! Весь в отца! – говорила восторженно бабка, садясь напротив него и следя, как мальчишка нехотя наталкивает в себя разваристую пшённую кашу.
– Мятёт? – спрашивал дед сам себя после завтрака. – Мятёт! – сокрушённо вздыхал он. – Никак на поле не сходить. Айда, Пётра, матрёшек точить! А то от безделья руки сохнут.
Берёт Петька книжку, идёт с дедом. Но читать ему не приходится, потому что дед работает и всё время разговаривает, да и потом интересно смотреть, как он работает. В сарайчике за стенкой стоит старый трофейный мотоцикл, от заднего колеса ремень перекинут через вал токарного станка. Мотоцикл работает – патрон у токарного станка крутится.
– Хороший станок! – говорит дед. – Ты не гляди, что он мичуринский, сборный. Он не хуже, как на Путиловском заводе, крутится.
Дед вставляет в патрон круглое полешко, включает станок и берёт в руки резец. Сначала из-под резца летят щепки, а потом стружки и наконец – тоненькая кудрявая ленточка. Смотрит Петька, а вместо полешка крутится уже половинка матрёшки, или шляпка от грибка, или чашка без ручки, миска деревянная.
– Земля у нас хорошая, но мало её – всё в болоте. Иной раз цельное лето вода с полей не сходит. Вот все мужики и знали какое-либо рукомесло. Вон в Глинянке, двадцать пять вёрст отсюда, – гончары. В Никольском – печники, в Петербург ездили печки класть! В Сухановке кирпичики делали, изразцы. А вот в Староверовке – плотники! Деревянного рукомесла мастеры. Они в Париже павильон ставили, так весь Париж на выставку смотреть приходил, а на то, как они работают, дивился. Четырёхэтажный дом десять человек за три дня подняли. Ну, конечно, матерьял готовый был…
Летит стружка, тарахтит за стеною мотор, и смотрит Петька, как из корявого полена словно вылупляется заготовка для весёлой матрёшки. Между делом научился уже Петька отличать жёлтую сосновую дощечку от сахарно-белой еловой. А для ложок дед припасал и мочил в корыте осиновые чурки – баклуши. А дальше, для особо тонких поделок, хранились липовые и вишнёвые чурбаны.
– Каждое дерево свою нацию имеет, – говаривал дед. – Вот как, к примеру, сосна и ель, и то, и это – хвойные, а жизнь у них разная. Вроде бы и похожи, а всё своё. Так и люди. Скажем, поляки и русские – и те и другие славяне, а всё ж различие есть. Братья, а всё ж другие. Да, – говорит дед, задумавшись и отложив резец, – вот на войне каких я только народов не повидал. Не в этом дело! – вздыхал дед и снова принимался за резец.
– А в чём? – спросил Петька.
– Ай?
– А в чём дело?
– А в том, какой ты сам. Коли сам хороший, так и память о тебе хорошая, и жить тебе легко. А что непонятные люди, так это спервоначалу, а приглядишься – такой же он, как ты.
Дед останавливает станок. Наверное, стоять устал. Но руки его большие, в старых шрамах, разляпанные в пальцах и удивительно ловкие – покоя не знают. Вот он взял баклушу. Закрепил в специальный станочек и точными движениями вырезает ложку.
– Вот, к примеру, – жили рядом с нами эти самые староверы. Ни мы к ним, ни они к нам. Бывало, и не разговаривают, ежели на ярмонке встретимся. Между собой дружные, здоровые все. Одно слово – богатыри! Не пьют, не курят и с мужиками не здоровкаются. И так спокон веку.
Смотрит Петька, как в мосластых дедовских руках появляется хрупкая тонкая ложечка. Вот уж и черенок появился, и рыбка на черенке. Чудеса да и только!
– А в четырнадцатом году отца у меня убили на войне. Нас у матери шестеро, я старший! Годов мне тринадцать – пошёл работу искать. Прихожу в Староверовку. «Нет ли какой работы?» – «Ты, – говорят, – чей?» «Сирота, говорю, прошлым месяцем на отца бумага пришла. Нужно сестёр кормить». Помолчали. Бороды свои потискали (они, вишь ты, бород никогда не брили, леригия им не позволяла), да и говорят: «Работы нет, а дело дадим» – и взяли меня в артель. И прошёл я такую науку, что до сих пор… – Дед загорячился, схватил свой особый, отточенный до маслянистого блеска на лезвии топор. – Станови спичку!
– Чего?
– Давай ставь спичку! Втыкай в колоду!
Петька торопливо воткнул в мягкое изрубленное дерево спичку.
– Мотри! – Дед взял топор обеими руками и вдруг, крякнув, обрушил его вниз. Лезвие раскололо спичку на две ровные половинки. – Видал? Видал? – горячился дед, отирая мгновенно вспотевший лоб. – А ведь я плотницкий-то топор последний раз в руки брал двадцать годов назад – мост чинили. А ведь я уж старик – мне семьдесят пять. А вишь ты, помню староверовску науку. Вот какие мастера были.
– Дедушка, а чего их так странно называли – староверы?

– А? Да это из-за леригии ихней. И в бога они по-своему веровали. Двумя пальцами крестились. Церквей не признавали. Вот их царь и преследовал. Они, слышь-ко, всё царя ругали… Говорят, их при Петре Первом в остроги сажали да в Сибирь ссылали. Вот они сюда, в наши болота, прятаться и пришли. А у нас тут места глухие. Целый город спрятать можно. Их никакая власть сыскать не могла. Сказывали, – заговорил дед шёпотом, – они бунтовщиков за границу через болото переводили. Там ведь, за болотом, другое государство считалось. Эх! – вздохнул дед и горестно почесал в затылке резцом. – Через это государство капиталистическое сколько они, бедные, приняли! Как ближе к революции, так молодёжь у них уж от леригии вовсе отшатнулась. Которые бриться уже начали. Все учиться ехать норовили. А как поедешь – паспортов-то от царя у них нет… Революция случилась – они к ней всей душой. Я ведь с ними вместе в гражданскую-то воевал. Не казал я тебе будёновку? В сундуке храню. Шесть годов в ней за Советскую власть кровь проливал. И староверы с нами совместно кайзеровские войска отбивали, интервентов, значит… А как Советская Республика организовалась – границу новую провели, хлоп, а они обратно под буржуями, за границей, значит! Обратно вне закона, теперь-то их и вовсе мало что раскольниками – так большевиками заругали. И никому никакой дороги ни к образованию, ни к благополучию! Во как!
Только в сороковом году Красная Армия их освободила. Они наладились было сразу школу строить – хлоп война! И всё прахом. Эх! – вздохнул дед горестно. – Жалко мне их, спасу нет… Такая судьба у них злосчастная…
Так за разговорами и пролетел день. Не успел оглянуться Петька, как настало воскресенье и приехала Катя, которая училась в школе-интернате в райцентре.