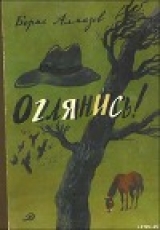
Текст книги "Считаю до трех!"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава восьмая
Хождение «в народ»
У отца в баре сидел тот худущий парень в свитере, который был в первый раз с Вадимом. Он был крепко пьян.
– А, – сказал худущий, – зародыш явился! Из молодых, да ранний!
– Заткнись, Сява! – одёрнул его отец. – Поговори, моментом отсюда вылетишь.
– Я не вылечу, я – корова!
– Вот и будешь летающая корова!
– Не-не-не, – пьяно протянул парень. – Вам тогда некого доить будет. Я вам нужен! Наш милый Вадик не любит чёрной работы! Чёрную работу должен делать Сява!
Лёшке было противно, что этот пьяный говорит так о Вадиме. Рядом с Вадимом и отец выглядел жалко, казался не таким уж красивым и богатым, а этот и вовсе в драном свитере, с испитым отёчным лицом.
– Поговори! Поговори! – сказал отец. – Тебе Вадим покажет, где раки зимуют.
– Мне? – засмеялся парень. – Мне никто ничего не покажет. А твой Вадим тем более! Интеллигенция тухлая! Он же всех дрейфит… Теперь вот зародыша этого испугался! Боится, что зародыш…
– Заткнись! – закричал отец и, выскочив из-за стойки, схватил Сяву за шиворот, но почему-то выталкивать из бара не стал, а несколько раз ударил его по лицу. И Сява вдруг пьяно заплакал.
Лёшка чуть в обморок не упал. Отец, такой сильный, бил этого противного, но слабого парня по лицу. Тренер всегда говорил, что поднять руку на того, кто слабее тебя, – этому нет названия, а драться можно, только защищая другого и если нет иного выхода. В самом крайнем случае.
– Папа! – закричал Кусков.
– Чего тебе? – Отец отпустил Сяву, и тот как мешок рухнул в кресло у столика.
«Как ты мог!» – чуть не сказал Лёшка. Отец больше ему не казался таким великолепным, как прежде. У него было хищное лицо, хитрые маленькие глаза и пухлые руки, покрытые рыжей шерстью. «Как это я не замечал, что у него такие отвратительные руки!» – подумал Лёшка.
– Чего тебе? – повторил отец. Он говорил это совершенно спокойно, словно ничего только что и не произошло. И поэтому Лёшка сказал другое:
– Ма… Мать если придёт, скажи, пусть меня не ищет, я в спортивно-трудовые лагеря уехал.
– Уже прибегала. – Отец поправил на руке золотой перстень с печаткой. – Я ей сказал, что нынешнюю ночь ты у меня был. Соку хочешь? – И отец протянул Лёшке стакан с его любимым апельсиновым, но мальчишка глянул на его веснушчатую короткопалую руку и сказал:
– Нет.
Сява вытирал пьяные слёзы. И Лёшке было противно, что взрослый мужик плачет, и одновременно жалко его.
Крепкая рука отодвинула Лёшку в сторону.
– Здравствуй, Ваня! – на стойку облокотился Вадим.
«Ну, сейчас он даст отцу! – подумал Лёшка. – Сейчас он ему покажет!»
– Привет! – ответил отец, и Кусков заметил, как забегали у него глаза.
«Ага! – подумал он злорадно. – Ты только и можешь, что пьяных бить, а вот Вадим тебе сейчас объяснит самому, где раки зимуют».
Но Вадим не обратил внимания на плачущего Сяву и всё тем же угрожающе-ласковым голосом спросил:
– А скажи мне, Ваня, как ты обошёлся с деньгами, что я тебе дал?
– За плёнку, что ли? – спросил отец. – Как велел, так и обошёлся.
– Именно?
– Мне кусок, ему кусок…
– Сява, – спросил Вадим, – сколько он тебе дал?
– Сто колов, – ответил тот.
– Ну вот! – закричал отец. – Всё по-честному.
– Тихо! Тихо! – сказал Вадим. – Лопнешь, борец за справедливость! Сява, исчезни.
Худущий Сява поднялся и поплёлся из бара.
– Звоню это я сегодня Айвазовскому в мастерские и спрашиваю, сколько ты ему передал. Он говорит – двести…
– Какие двести! – закричал отец. – Врёт! Триста!
Вадим вдруг схватил отца за запястье и пригнул его к самой стойке.
– Сейчас мы пойдём к нему вместе и спросим, сколько он получил.
Он повернулся, и Лёшка поразился тому, что у Вадима было такое же лицо, как у отца, когда он бил Сяву, – бледное и злое.
Художник наткнулся на испуганный Алькин взгляд. Вздрогнул и отпустил руку бармена.
– Совсем с вами человеческий облик потеряешь… – пробормотал он. – В общем, так. Идём в мастерские – сам отдашь Айвазовскому что должен.
«А мне что делать?» – хотел спросить Лёшка, но не решился – ещё скажут под горячую руку: «Катись отсюда!» – и вся замечательная жизнь, которая ещё не успела начаться, сразу кончится.
Поскольку Кусков-старший схватил табличку «Закрыто», Лёшка вместе со всеми двинулся к выходу.
Всю дорогу они молчали. Правда, идти было совсем недалеко. Вадим шёл, глубоко засунув руки в карманы брюк, отец, как под конвоем, вышагивал впереди, то и дело оглядываясь на художника. Лёшка еле поспевал за ними.
Скоро отец нырнул в щель высоких чёрных ворот, а Вадим и Лёшка уселись на скамеечке в сквере у памятника Пушкину.
Бронзовый поэт стоял совсем близко, на гранитном пьедестале, и над его головой и за откинутой рукой проплывали маленькие пушистые облачка, словно Александр Сергеевич играл в снежинки.
Лёшка глянул искоса на Вадима. Художник сидел, низко надвинув на лоб спортивную кепочку, и кусал губы.
«Вот он погорячился, и теперь ему стыдно!» – решил Кусков. И вдруг совсем некстати ему вспомнился тренер, сенсей – учитель, как на японский манер звали его ребята из команды. «Он бы сразу за Сяву вступился, – подумал Лёшка. – Но ведь Сява был пьяный и сам приставал! Ну и что! Бить-то зачем? Наверно, Вадим просто ничего не видел!» – успокоил себя Кусков.
– Вадик! – вдруг услышал он прокуренный голос. – Вадик Кирсанов? Я не ошибся?
Маленький человечек (даже не верилось, что такой громкий хриплый бас может в нём помещаться) протягивал руки к Вадиму.
– Здравствуйте, Николай Александрович, – встал Вадим.
– Узнал! Узнал! – растроганно хрипел человечек. – Не забыл учителя.
Он пытался обнять Вадима, но это было невозможно, потому что Кирсанов был вдвое выше и шире Николая Александровича.
– Неужели я не изменился?
– Не буду вас обманывать! – сказал Вадим, улыбаясь той улыбкой, которую он надевал, как шляпу. – Не буду обманывать: некоторые изменения есть… Я вас недавно по телевидению видел. Когда вам поляки за реставрацию алтаря медаль вручили.
– А! Мне говорили, что это транслировали! Мы, знаешь, не думали, не гадали, а они нам хлоп – награды… Там такая была интересная работа… А это кто? Никак сынок? – Человечек повернулся к Лёшке. – Похож! Похож! Совершенно одинаковое выражение лица! Подбородки волевые! Воители да и только! Глаза! Стальные глаза! Так? – засмеялся человечек.
«Сейчас возьмёт и скажет: да, это мой сын!» – подумал с надеждой Лёшка.
– Это мой племянник, – сказал Вадим.
– Нашёл? – закричал человечек. – Нашёл! Ну ты молодец! Нашёл-таки родственников. Умница. Я помню, как вы в художественной школе маленькие совсем были, после войны, почти все сироты. Придёшь на живопись, а вы глазёнки уставите и спрашиваете: «А вы не мой папа?» Какая тут живопись!
Николай Александрович вдруг достал платок и громко высморкался.
– Нервы, нервы… – прошептал Николай Александрович. – А ты был такой упрямый! Всё сам, всё один! Все родственников ищут, письма пишут, а ты, помню, заявил: «Раз меня никто не ищет, значит, я никому не нужен! И я никого искать не буду!» А всё-таки стал искать?
– Жизнь, – засмеялся Вадим, – часто вынуждает нас ко многим добровольным действиям.
– Вот именно, – захохотал Николай Александрович. – Вот именно. А чем занимаешься? Реставрацию бросил? Пишешь? Выставляешься?
– Понемногу, – сказал Вадим.
– Реставрацию бросил зря! – тряхнул головой старик. – Зря! Ты у меня был самым, что называется, схватчивым! Прямо на лету всё перенимал! Как ты тогда Рембрандта скопировал! Это в четырнадцать лет! А! – Он по-птичьи завертел головой. – До сих пор горжусь! Горжусь. Значит, бросил реставрацию? Ай-ай-ай… Стой! Идём ко мне! Идём! Может, сердце-то взыграет, потянет к старому?!
Как ни упирался Вадим, Николай Александрович не давал ему опомниться.
– Я учитель! Меня нужно слушаться! Накажу! В угол поставлю! – кричал он, заталкивая их в какую-то тёмную проходную, потом в раздевалку, где нарядил их в белые халаты.
– За мной! – И они шагнули в огромную комнату, где на длинных столах лежали ярко освещённые чёрные доски в белых наклейках.
– Вот! – сказал он. – Контролечки снимем. У меня предчувствие, у меня предчувствие, что это не позднее пятнадцатого века!
Лёшка никогда такого не видел. Здесь пахло химикатами, как в больнице. В огромном зале были собраны какие-то странные вещи. В основном совершенно чёрные доски и потрескавшиеся, облупленные картины.
Человек в халате, с лупой в глазу, как у часовщика, макал тоненькую кисточку в пузырёк и подклеивал чешуйки краски на картине. Он работал осторожно и медленно, как хирург, сходство дополнялось марлевой повязкой на лице.
– Почему в мастерской посторонние! – закричал вдруг Николай Александрович. В дальнем углу мастерской, где была дверь с надписью: «Фотолаборатория», Лёшка увидел отца. Он разговаривал с парнем. – Сколько раз! – закричал, покрываясь красными пятнами, Николай Александрович. – Сколько раз говорить вам, Ованес, чтобы вы все необходимые вещи получали сами, вне стен мастерской. Чёрт знает что такое! Проходной двор какой-то, а не реставрационные мастерские. Немедленно выйдите.
– Но ведь вы тоже с гостями! – буркнул Ованес.
Николай Александрович выпучил от растерянности глаза.
– Совершенно не могу наладить дисциплину, – сказал он Вадиму, держась за сердце. – Просто ужас какой-то. Я им говорил, что я не начальник. Нет! Назначили начальником мастерских! Ты понимаешь! Стали работы пропадать! Немыслимо, но факт!
Он сел, тяжело отдуваясь.
Человек в марлевой повязке молча подошёл к холодильнику. Достал минеральную воду, налил стакан и подал Николаю Александровичу.
– Спасибо, – сказал тот и жадно выпил воду.
– Вы хотели контрольки снимать, – сказал человек в маске.
– Да! Да! Вот именно. Нервы! Нервы! И склероз крепчает. А может, ты?
– Давайте, – сказал Вадим. – Давненько не брал я шашек в руки.
– Хе-хе-хе… – засмеялся реставратор. – Как там Чичиков говорил: «Знаем мы, как вы плохо играете!»
– Это Ноздрёв говорил, – поправил его Вадим. Они склонились над чёрной доской и принялись колдовать. Лёшка рассматривал зал. Посреди него стоял бронзовый Пётр I – его ботфорты были ростом с Кускова. В зале был полумрак. Сильные лампы светили только на работы, что лежали на столах. Над ними склонялись люди в халатах. Сейчас они один за другим откладывали скальпели, тампоны, кисти, убирали лупы и вставали за спиной Николая Александровича и Вадима.
– Увы! – сказал Николай Александрович. – Увы! – повторил он, когда отклеили белую полоску ещё от одной доски. И человек пять сотрудников за его спиной тоже разочарованно вздохнули.
– Ага! – вдруг закричал он. Лёшка вытянул голову вместе со всеми. Он увидел, что на чёрной доске, словно в окошке, светится ярко-алый квадратик.
– Давай второй!
Вадим снял пинцетом вторую тряпочку. И оттуда словно брызнул ярко-голубой цвет.
– Есть.
Сотрудники возбуждённо заговорили, склонились над этими двумя окошечками.
– Не позднее пятнадцатого! Не позднее! – кричал старый реставратор.
«Что «пятнадцатого»? – подумал Лёшка. – Века? Этой иконе? Полтыщи лет?»
– Это что же, – спросил он, когда они вышли в проходную, – этой иконе пятьсот лет?
– А ты как думал! – хлопнул его по плечу Николай Александрович. – Считай, на поколение двадцать пять лет. Итого двадцать поколений назад. Твой «пра» двадцать раз дедушка мог видеть эту икону. А может, он её и написал?
– Вот это да! – сказал Лёшка. – А сколько она может стоить?
– Нисколько! – насупился старый реставратор. – Она не имеет цены. – И, взглянув на Лёшку с сожалением, сказал: – Вырастешь – поймёшь. Вадик! – повернулся он к Вадиму. – Иди ко мне в экспедицию. Это целый роман. Мальчишка зимой вышел к скиту. Заблудился. Там поразительные вещи: иконы, книги, костюмы… Осколок Петровской Руси! А?
– И с тех пор нетронутый стоит? – удивился Вадим.
– Представь себе! Там, видишь ли, проникнуть можно только по единственной тропе. Без карты по этой тропе не пройти! А карта существует в единственном числе! У меня!
– А карта откуда? – полюбопытствовал Вадим.
– Местный один составил. Только он дорогу и знает! Ну, каково?
– Заманчиво, – улыбнулся Вадим.
– Поехали! – уговаривал его реставратор. – Это же впечатлений на всю жизнь!
– Да я на этюды собрался!
– Не говори «нет»! Это же можно совместить! Экспедиция и этюды – прелестно! Мне художник до зарезу нужен. Ты подумай!
– Хорошо! – сказал Вадим.
Они обменялись телефонами.
– Я жду твоего звонка! – кричал им вслед реставратор.
– Хорошо! Обязательно! – говорил Вадим.
А Кусков думал: «Дураки! Иконы, книги! Там же наверняка золото есть! Там, наверно, всякие сокровища! А если нет, эти старинные иконы, наверно, миллион стоят! Мне бы такую карту!»
Отец ждал их у памятника Пушкину.
– Ну! – спросил Вадим, опять становясь прежним – суровым и немногословным.
– Тоже мне! – прошипел отец. – «Немедленно вон!» Тоже мне академик! У самого ботинёшки скороходовские за одиннадцать рублей!
– Ваня! – сказал Вадим тихо, но у Лёшки от его голоса мороз продрал по коже. – Это мой учитель!
И он посмотрел сквозь отца, точно это было пустое место.
Глава девятая
«Пахнет сеном над лугами…»
– «Песней душу веселя…» – бормотал Вадим, макая кисточку в банку с грязной водой. Он совсем забыл, что за спиной у него стоит, вернее, сидит на свежей траве Лёшка. Вадим тут, в деревне, вёл себя совсем не так, как в городе. У него и лицо стало другим, – может быть, потому, что он снял свои дымчатые очки?
«Почему вы теперь очки не носите?» – не утерпел вчера Кусков.
«А? – вздрогнул Вадим. – Чтобы себя не обкрадывать. Чтобы цвет видеть! Понимаешь, цвет!»
Два дня они ходили по мокрым заболоченным полям, по влажным бороздам: их тянули трактора. Лёшка уже тысячу раз пожалел, что поехал с художником. Хотя что ему было в городе делать?
«Ничего, ничего, пусть мать по милициям побегает! – злорадно думал он. – Вот вернёмся отсюда…» Но что будет, когда они с Вадимом вернутся с этюдов, Лёшка не знал и старался об этом не думать…
Пока приходилось сидеть у Вадима за спиной, бегать к ручью менять воду в банке и смотреть, как на листе бумаги, приколотом к внутренней стороне этюдика, вырисовывается яркая, словно свежевымытая, деревня, высокие берёзы с вороньими гнёздами, развалины кирпичной конюшни, трактора и бульдозеры неподалёку от крайней избы.
– «Пахнет сеном над лугами…» – в сотый раз повторял себе под нос художник. Лёшка был готов выть от этого «сена» и «лугов». Никогда он не думал, что на рисование какой-то паршивой картинки, про которую сам Вадим говорил, что это ещё только подготовительный набросок, этюд, а до картины ещё далеко, – так вот на этот этюд уходит не меньше двух часов… И главное, Вадим словно не замечал, как бессмысленно тратит время. Нарисует, поморщится и сомнёт! Старался, старался, а потом сам же всё рвёт или мнёт! И такой злющий делается. Потом повалится на спину, глядит в небо и губами шевелит…
Лёшка не видел в этюдах Вадима никаких изъянов. Всё было похоже! И когда он узнал, что один такой этюд может стоить рублей двадцать пять, а то и пятьдесят, то даже возмутился: ведь можно сказать, что Вадим живые деньги рвёт.
Он поднял один смятый этюд.
– Можно утюгом разгладить! Десятку дадут!
– Брось! – рявкнул на него художник. – Брось и не подбирай всякую дрянь!
Он выхватил у Лёшки лист с акварелью и, разорвал его на мелкие клочки.
«Ну и пожалуйста, – обиделся про себя Кусков, – в конце концов, я тоже человек и нечего на меня орать».
Но деваться было некуда, и он волей-неволей таскался за Вадимом.
Деревня, которую рисовал художник и в которой они жили уже третий день, немножко напоминала ту, на Владимирщине, где раньше жил с бабушкой Лёшка. Такие же бревенчатые избы, палисадники, жердевые изгороди. Но в той деревне было полно людей, а здесь жили только в двух домах, остальные девять стояли заколоченными. Покосившиеся двери и провалившиеся крыши…
«Стоят тут одни! – подумал про избы Лёшка. – Никому не нужные, как я».
Ему захотелось повидать Штифта, посидеть у него в комнате с ободранными обоями, побренчать на гитаре.
Хотя какая ему от Штифта польза? Отец всегда говорил, что от этой дружбы никакого толку.
«А почему обязательно какой-то толк должен быть? – подумал Лёшка. – Что это такое – толк? Выгода, что ли? Почему во всём должна быть эта выгода?» Раньше такие мысли в голову Кускову не приходили, и сейчас он себе удивился, как удивился и тому, что скучает по приятелю.
Он послал Штифту два письма. Писал поздно вечером тайком от Вадима – очень боялся, что художник прочтёт его каракули. В этих письмах, мягко говоря, всё выглядело не совсем так, как было в действительности. А если честно, то совсем не так, как в действительности.
На пяти страницах Лёшка подробно описывал виллу, на которой они с Вадимом отдыхают, замечательный парк, и бассейн, и балкон с видом на море и на белую набережную с высокими пальмами.
В следующем письме говорилось о яхте, на которой они с Вадимом частенько выходят в море. Кусков никогда и никому писем не писал и в пылу вдохновенного вранья как-то выпустил из виду, что стоит Штифту взглянуть на почтовый штемпель и прочитать название области, откуда послано письмо, как он сразу поймёт, что никакого такого моря нет отсюда за сто вёрст!
Чем скучнее было Лёшке, тем ярче картины ему рисовались. Сегодняшнее письмо должно было поведать Штифту о торжественном приёме на вилле, где Вадим и Лёшка встречаются с иностранными бизнесменами, которые хотят устроить в Америке или в Англии выставку картин Вадима.
Лёшка подробно продумал свой костюм и что будет подано к столу и теперь размышлял, какую музыку будут слушать гости и какой фирмы должна быть у Вадима аппаратура.
Эти мечты так его захватывали, что он иногда не сразу понимал, что происходит вокруг, и даже не слышал, о чём его спрашивает художник.
– Это у тебя и раньше бывало или от деревенского воздуха? – усмехался Вадим.
– Что? – краснел Лёшка.
– Ну вот этот столбняк?
Кусков смущённо вздыхал, но через несколько минут опять ничего не видел, не слышал, а мысленно странствовал по набережной южного города или подавал гостям коктейль «Вечерние сумерки над Рио-Гранде».
– Виды сымаете? – услышал Лёшка за спиной и опомнился. – Вишь ты, никакого фотоаппарата не надо! Раз – и готово! Доброго здоровья!

К ним подошёл старик, у которого они квартировали. Странный это был дед. Шебутной, разговорчивый, вихрастый, как мальчишка. Да и звали его смешно: Клава!
– Вот именно – виды! – вздохнул Вадим. Он сорвал с внутренней крышки этюдника лист, посмотрел на него сокрушённо и скомкал.
– Эва! – ахнул старик. – Таку хорошу картину спортил.
– Чего ж в ней, отец, хорошего! – вздохнул Вадим.
– А чего худого? Похоже! Вся наружность налицо!
– Вот именно – наружность… Наружность есть, а меня – нет. Бумага и краска и ничего больше… Не живопись.
Кускова страшно обижало, что Вадим, такой умный, сильный Вадим, разговаривает с этим старикашкой как с равным, а с ним, Лёшкой, молчит… Буркнет только: «Принеси воды» или: «Разожги костёр, а то совсем извёлся…» – вот и всё.
Вчера Вадим забился к деду в сарайчик и часа четыре всяких матрёшек да петухов рассматривал. Старикан-то рад, конечно, кто хочешь обрадуется, когда такой человек с тобой целых четыре часа разговаривает. Надавал художнику полный мешок всяких копилок, грибов штопальных, каталок деревянных, коней резных… У Лёшки от всей этой деревенской пестроты в глазах рябило.
«Зачем вам вся эта чепуха?» – спросил он художника. «Чепуха? – Вадим поворачивал к свету то одну, то другую игрушку. – А ты такое можешь сделать? Придумать такое можешь?» – «А чего тут сложного?» – «Много чего, – сказал художник. – Это не просто деревяшка, а душа мастера… Этот старик – мастер. Понял?»
Лёшка вспомнил, как он тогда крикнул отцу: «Это мой учитель, понял?»
«Какой мастер! – возразил Кусков. – Научился строгать, вот и мастер…» – «А я научился краской мазать…» – «Ха! – сказал Кусков. – Вы – художник!» – «Нет! – ответил Вадим. – Я не художник! Вот старик этот – художник, а я ремесленник! Штамповщик…» – «Интересненько. Он, наверно, и рисовать-то не умеет». – «У него свой мир! – сказал Вадим. – Свой, понимаешь! Как это объяснить! Зачем вообще искусство, живопись в частности? А?»
Лёшка никогда на такой вопрос бы не ответил.
«Затем, чтобы увидеть и показать мир по-новому. Для этого нужен свой взгляд… Вот у старика он есть, а у меня нет».
Лёшка ничего не понял, но старика невзлюбил.
«Тоже мне мастер! – думал он, рассматривая старика. – А у самого из засаленной жилетки вата торчит».
Он тут же вспомнил, как отец сказал про реставратора, что у того, мол, ботинки скороходовские, и ему стало неприятно.
– А ты за натурой не гонись! – услышал он слова деда Клавы. – Не торопись!
«Вон! – подумал он с неприязнью. – Поучает. Учитель нашёлся. Репин!»
Но Вадим слушал внимательно.
– Ты вон шахматного коня посмотри. Ведь ни с чем не спутаешь – конь, он конь и есть. А ведь ни ног, ни хвоста, ни копыт! Один изгиб шеи!
Дед примостился поближе к Вадиму.
– Я раз взялся коня вырезать. Штук пяток вырезал… И всё у меня собаки получаются. Я уж и так и сяк, едва не плачу… А потом как этот изгиб ухватил, так сразу и конь… Теперь… с любой щепки, с глины, с проволоки могу сделать, всё будет конь…
– Эх! – крякнул Вадим, с силой вдавливая кнопки в крышку этюдника. – Давайте, отец, к нам в Академию! Композицию преподавать!
– Не! – засмеялся старик, по-молодому сверкнув зубами. – Я в городе не могу! Машин боюся! Вечером-то чё делаете? Приходите на беседу? Остання, значит, будет беседа. Часов в семь стол. Расставание, значит, играть будем. Со всей округи народ будет, и Антипа Пророков придёт.
– А кто это? – спросил Вадим, пристально всматриваясь в пейзаж.
– Егерь наш. Эх! – хлопнул себя по коленям дед. – Вы, случаем, портреты не рисуете? Это ж Сусанин да и только. В войну у него немцы всю родню в избу загнали да и сожгли.
– Как сожгли? – ахнул Кусков.
– Огнём.
– Живых?
– Живых, милай! Живых. У них тут в болоте укрытие было, они там от врага отсиживались, а тут в недобрый час в село вернулись да прямо на эсэсовцев и наскочили, те к своим через фронт ладились, проводника требовали, ну а Пророковы ни в какую… Вот всех и сожгли. Ты думашь, тут войны не было? Она, проклятая, во все углы позалезла! – вздохнул старик.
– Ну, а Антипа? Что он?
– Он фашистов догнал, проводником вызвался да всех в болотине и потопил!
– Круто! – покачал головой Вадим.
– Красивый! Бородища – во! Кудри как завитые! Рослый! Я ему едва не по пояс… Приходи, сам увидишь.
– Надо прийти! – сказал Вадим, делая на бумаге контурный набросок.
– Хотели мы эту беседу с экспедицией править, а не поспевает экспедиция. Вот счас на почту ходил, по телефону кричал. Пётра, как бы внук мой, говорит – через неделю… А уж мы беседу откладывать не можем. Вы того, приходите, не побрезгуйте компанейством, – тараторил дед.
– Придём, – сказал Вадим. – Спасибо.
Старик вприскочку стал спускаться с холма в деревню, а художник откинулся на спину и, глядя в небо, прошептал:
– Через неделю, значит, – и лицо его приняло жестокое и замкнутое выражение, как в городе.
– Эй! – закричал, обернувшись, старик. – Голова я садовая! Беседа ишо вечером будет, пошли пообедаем пока…








