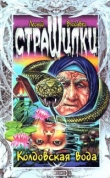Текст книги "Оглянись! Сборник повестей"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Когда-нибудь всё так будет, – сказал тракторист, когда они вернулись к машине. – Будут люди и звери вместе жить и друг другу не мешать. И голодных на земле не будет, и леса останутся, и поля и болота тоже, чтобы рекам основание давали… Только для этого техника нужна. Сейчас с одним топором много не наработаешь.
Глава девятнадцатая
Мир добром держится
Удивительно, как стало Петьке времени не хватать! Подымался он теперь вместе с дедом и не успевал умыться, как приходил кто-нибудь из соседей или бригадир.
«Клавдий Потапыч, – говорил он, снимая каракулевую ушанку с лысой головы, – сделай милость. С парнишкой своим двумя санями сгоняйте на станцию. Там, вишь ты, трубки керамические привезли для мелиорации. А у нас послать некого».
И катили они с дедом на станцию. Не успевали погрузить эти короткие, тяжёлые, как кирпичи, трубки и накормить лошадей, как приходил Катин отец.
«Петруша! – говорил он. – Ты у нас лыжник знаменитый – свези на Касьяновское поле напарнику моему подшипник. У него трактор встал, сейчас по рации передали».
И Петька летел на свистящих по снегу лыжах через Касьяновский лес на край поля, где застыл трактор, и тракторист, промасленный и пропахший соляркой, ждал Столбова, как спасения! А после обеда приходил Антипа, и они шли в лес заготовлять осиновые жерди, или возить сено на дальние участки, или сыпать соль в лосиные кормушки. Антипа исподволь учил Петьку разбирать следы, примечать дорогу, обращаться с ружьём и всем тем сложным наукам, без которых не обойтись охотнику.
– Глянулся ты Антипе. Привязался он к тебе, – сказал как-то дед. Он вырезал ложку, а Петька вытачивал на станке большого деревянного снеговика, Кате в подарок.
– Он мне тоже нравится, – сказал Петька. Точить было сложно: три шара да ещё ведро на голове. А выточить он хотел большущую фигуру, почти в метр высотой.
– Мужик-то он золотой! – подтвердил дед. – Да только всё злодеев вокруг видит. Одинокий он. И в голову себе втемяшил, что так оно лучше. А так нельзя. Я к тому, Петяша, говорю… Ты резцом-то не ковыряй, не ковыряй! Ты веди плавно! Я к тому, Пётра, что вот он к тебе расположен, дак ты его не гони от себя-то. Он душой застыл. Пущай он к тебе привыкнет! А? – И старик глянул на Столбова, словно для себя просил.
– Дед! – сказал Петька. – Знаешь чего?
– Ну?
– Я тебя люблю!
И Петька чмокнул старика в морщинистую щёку.
– Ты у меня самый лучший на свете.
– Ты наговоришь! – расцвёл дед. – Фулюган я!
Петька расписал снеговика цветами и поставил сушиться. А сам взял мороженой рябины и пошёл Катю проведать: он к ней каждый день ходил, а то и по два раза в день.
– Петя пришёл! – закричал Васька, тот самый, кто на горшке катался. Петька сделал ему большущий деревянный грузовик, и теперь он раскатывал на собственном транспорте. – Садись с нами картошку есть!
Катя лежала в светёлке. Она очень обрадовалась и Петьке, и рябине.
– Можно бусы сделать, – сказала она, перебирая ягоды тоненькой, похудевшей до синевы рукой.
– Ты ешь! Сладко! Необыкновенный какой-то вкус! – сказал Петька. Не мог он спокойно смотреть на эту девчонку, всё его совесть мучила, что загубил ей каникулы.
– Петя! – прямо глядя ему в глаза, сказала девочка. – А что ты не расскажешь, где это мы на болоте были?
– Да не на болоте вовсе! В Гончаровке были.
– Да? А я всё царство какое-то деревянное видела… И будто на мне сарафан парчовый и кокошник, как у принцессы. И огни горели…
– Нет, – отвёл глаза Петька, – это тебе в бреду…
– Зачем ты меня обманываешь, Петя?
Катя потянулась и вынула из-под подушки ту самую книгу, что читал ей Столбов там, в скиту.
– Это вот ты в мешок сунул.
Петька покраснел так, как не краснел никогда.
– Катя! Ты должна меня понять, – запинаясь, начал он. – Это не наш секрет…
Катя внимательно выслушала всё, что он сбивчиво говорил ей и про ценность находок, и про одиночество Антипы, и про опасность со стороны барахольщиков, и про совершенно справедливые опасения старого егеря.
Девочка машинально перебирала ягоды, рассыпанные на одеяле.
– Знаешь, – сказала она, подумав, – ты отдай Антипе Андреичу книжку эту. Скажи, мы случайно унесли. Пусть он нас за воров не считает. И ты, Петя, на него не обижайся. Это ведь его родной дом, скит-то. Хочет – пустит туда, а хочет – не пустит… А знаешь, почему наше болото не замерзает? Там ключи горячие. Я в этой книжке прочла. И ещё: как эти ключи начинают сильно бить, так во всей окрестности неурожай. В этой книжке за сто пятьдесят лет наблюдения записаны…
– Видишь, – сказал Петька. – Это ж научные сведения! Им цены нет! А он их прячет.
– Отдай, – сказала Катя. – Это его книга. Его!..
Глава двадцатая
Калёная стрела
– Ты на меня не серчай! – говорил Антипа. – Я от людей добра-то не много видел, всё больше зло. И никаких у меня обязанностей к людям не имеется.
Они сидели на поваленной осине. Петька только что отдал старику книгу, и тот говорил растерянно, словно убеждал самого себя:
– Сам посуди. Все мои прадеды двести лет в болоте от людей прятались. А ведь не воры, не разбойники! А их в тюрьмы, и в рудники, и в Сибирь! А эти вот пришли, поджигатели-то! Стариков, детишек невинных пожгли. Это как?
– Это фашисты! Понимаете, фашисты! Они не люди! По ним нельзя о людях судить!
– Те фашисты, эти царисты, а те и вовсе пятые-десятые… Все одинаковые!
– Неправда! Неправда! – доказывал Петька. – А дед Клава? Он детей всю войну прятал, жизнью рисковал!
– Пошли! – сказал охотник. – Сам-то ты небось меня рогатиной встретил. А барахольщиков-то чуток не пострелял? А?
– Так ведь это не со зла, а в защиту. А в скиту вообще я думал – волки забежали…
– Пойдём! Нам ещё двадцать третий участок надо посмотреть. Что-то вчера там двое городских шныряли, не учинили бы беды какой!
Старик оттолкнулся палками и покатил под гору. Петька за ним. Он бежал легко и сильно, выбрасывая вперёд палки, дышалось свободно, хвойный лесной запах бодрил.
– Замотал ты меня! – закричал Антипа. – Здоров ты на лыжах ходить. Становись первым, я отдохну.
Они поменялись местами. Теперь Петька шёл первым, а старый егерь бежал позади.
– Что, не любишь, когда на пятки наступают? – смеялся он. – А всё ж удивил ты меня с этой книгой! – прибавил он вдруг. – То вон как дрожал, а тут отдал! Удивительно…
– Ничего удивительного! – повернулся к нему Петька. – Это ж ваше!
– Да уж я и то гляжу, – примирительно сказал Антипа. – Хороший ты парень, Пётра. Я к тебе привык, знаешь…
Но в этот момент Петька ткнулся в какую-то проволоку грудью. Она сорвалась, резанула его по горлу. И в ту же секунду что-то свистнуло над головой мальчика. Падая, он услышал, как охнул Антипа. Когда Столбов вскочил, он увидел, что старик лежит навзничь. А из груди у него торчит… Петька не сразу понял что. Стрела? Что тут, индейцы? Большущая стрела, толщиной в два пальца с наконечником в мужскую ладонь, пробила ватник старика и глубоко вошла в грудь.
– Всё! – хрипло сказал Пророков. – Конец мне, Пётра!
– Что это? – испуганно выдохнул Петька.
– Самострел, – тяжело опуская веки, сказал охотник. – Браконьеры на лося ставили. Конец мне…
– Антип Андреевич! Что вы! Антипа… – заголосил Петька, падая на колени. – Не умирайте! Не надо! Пожалуйста!
Он хотел вырвать стрелу, но вспомнил, что в «Трёх мушкетёрах» как только вытаскивали кинжал из груди раненого, так фонтаном била кровь и тот испускал дух.
– Что же делать? Что делать? – причитал он, ползая на коленях.
– Ничего! – прошептал старик. – Ступай, сынок. Волки доделают.
– Нет! – закричал Петька.
Он стащил с Антипы лыжи, пошарил в кармане, нашёл два гвоздя. Этого было мало. Тогда он вернулся к той проволоке, что приводила в движение самострел. Раздирая кожу на ладонях, отломал несколько кусков. Потом без сожаления сломал свои лыжи и обломки их укрепил на лыжах охотника. Получилась волокуша.
– Антипа Андреич, помаленечку давай переползай! Дорогой мой, давай!
Старик со стоном перевалился на эту волокушу.
– Не дам помереть, не дам! – приговаривал Петька, впрягаясь в проволочную лямку.
Старик был страшно тяжёлым, а снег глубоким. Петька, опираясь на лыжные палки, тянул и тянул вперёд. Он не помнил, сколько он шёл. Сердце у него колотилось где-то в ушах, голова раскалывалась от боли, а дышать было так трудно, словно он дышал огнём.
– Ничего, ничего! – приговаривал он во время остановок, растирая старику побледневшие щёки.
Старик был в полузабытьи, он иногда что-то говорил, просил оставить его. Потом стал называть Петьку разными именами.
– Матвеюшка, – шептал он, – сильный ты у меня какой! Серёженька мой!
Петьке хотелось кричать от этой путаницы: старик называл его именами своих погибших сыновей. Ему казалось, что идёт он очень давно. Что вообще всё давно кончилось. Что не было ни города, ни школы, а всегда был этот лес и проволока, готовая вот-вот распилить его пополам…
Он не знал, сколько часов он шёл. Но когда лес вдруг кончился и Столбова ослепил свет тракторных фар, он уже не мог ничего вымолвить и очнулся только в бараке мелиораторов.
– Ну, паря, – говорил, растирая его, милиционер. – Ты никак двужильный… В старике килограмм девяносто, а ты его шесть километров волок.
В бараке были какие-то люди с ружьями. Доктор в халате. И радист кричал в микрофон: «Да! Да! Значит, сначала примете раненого, а потом вертолёт верните. Да, он нужен для облавы. Охотники собрались. Да, двадцать семь человек! Вооружены! От райцентра идёт вездеход! Из лесничества передали: егеря уже прочёсывают лес…»
– Жив Антипа Андреич? – спросил Петька.
– Теперь-то выживет! – ответил врач.
Глава заключительная
Береги честь смолоду
А может, всё это приснилось? И не было ни леса, ни старого егеря, ни Кати.
Петька стоит в классе у стола. А ребята говорят обидные слова.
– Врун! – кричит Васька Мослов. – Систематически обманывает коллектив!
Пионерский сбор с обсуждением вруна Столбова состоялся в первую неделю третьей четверти. Только отца не было на обсуждении и мама не смогла прийти: у неё «полетела» какая-то установка – и она задержалась на работе.
А тут ещё на обсуждение пригласили учителя литературы Бориса Степановича, единственного учителя, который относился к Петьке серьёзно и даже один раз его хвалил за фантазию и находчивость. Но Петьке от того легче не было.
Петька смотрел на негодующий класс, и ему казалось, что ребята говорят не о нём.
– Ребята, – сказал Петька, – я теперь совсем другой. Тут так много всего за каникулы произошло! Я совсем переменился, честное слово.
И он начал рассказывать про болото, про скит и про книги… Сначала его слушали завороженно. У второгодника Сапогова прямо глаза на лоб вылезали и рот открывался так, что казалось, он нижней челюстью парту зацепит. Но когда Петька стал рассказывать, как он тащил Антипу шесть километров, Борис Степанович – сам Борис Степанович! – покачал головой:
– Нет, Столбов, ты неисправим!
Все будто очнулись.
– Староверский скит! Ха-ха-ха! – захохотал второгодник Сапогов. – Вот умора! Деревянное царство!
И вслед за ним захохотал весь класс. Даже Панама смеялся! Даже Маша Уголькова! Даже Борис Степанович!
Петька смотрел, как дёргаются от смеха ребята, как Сапогов, дубина Сапогов, валится с парты, и вся эта картина заволакивалась у него туманом. Класс стал стихать, потому что увидел: всем известный врун Столбов… плачет. Ребята растерялись. И никто не задерживал Петьку, никто не побежал за ним, когда он взял портфель и медленно вышел из класса.
Он шёл длинным коридором, и ему хотелось назад в деревню, туда, где он был нужен. Где никто не смеялся над его рассказами.
Он очнулся, когда за плечи его обнял Борис Степанович.
– Петя, – сказал он. – Неужели ты говорил правду?
На этот вопрос Петька мог только шмыгнуть носом.
– Это поразительно! – взъерошил себе волосы учитель. – Ты первый раз говорил правду – и тебе не поверили.
– Это нормально! – сказал Петька. – Береги платье снову, а честь смолоду… Фольклор.
– Петя, ты извини меня.
И Петька простил учителя, и всех ребят, и даже Ваську Мослова, потому что он был добрым человеком. А дома его ждала бандероль. Когда Петька разорвал упаковку, он увидел знакомую ему книгу в кожаном переплёте. «Неужели Антипа Андреич умер?» – было его первой мыслью, и сердце его оборвалось. Но тут же он увидел чёткую подпись на конверте: «Пророков» – и облегчённо вздохнул.
«Дорогой Пётр Михайлович! – начиналось письмо. – Во первых строках письма кланяются тебе твои любящие бабушка, дедушка, Катя…» Дальше шло бесчисленное перечисление имён Катиных братишек, мелиораторов, лесоустроителей, егерей, милиционеров, бригадиров, трактористов. И Петьке показалось, что все они вошли в его комнату. И стоят, улыбаются, похлопывают его как равного по плечам, угощают семечками.
«…Все желают тебе здоровья и успеха в учении, а также ждут на летние каникулы, поскольку осушение идёт вовсю и каждые руки на счету. Сообщаю также, что после заживления раны поселился я у Клавдия на отдыхе. Чему очень рад. Катерина Стамикова навещает нас каждое воскресенье, как только из интерната приезжает. Про свои дела она напишет тебе особо.
Дорогой Пётр Михайлович! Я тогда был не прав. Но пойми, не хочется кровное и нужное отдавать людям дурным. Мы ведь за это умирали, и не в одном поколении…» Дальше было совсем непонятно. Видно, Антипа очень волновался, когда писал. «…А также посылаю тебе карту Раскольникова болота со всеми промерами, трясинами и путём в скит. Карту и книгу покажи людям сведущим и привози летом учёных».
«Так вот почему дорогу-то найти не могли!» – понял Петька. Тропа была замысловата, изломанна, она шла сначала у самого леса, вдоль края болота, и всякий, кто пытался пересечь его по прямой, попадал в трясину…
Столбов долго рассматривал карту, следил за извивами тропы.
Но странно: не было в его душе радости, что путь открылся теперь для всех. А была тревога и даже тоска.
«Вот и Антипа Андреич понял, что нужно всё людям отдать… Нельзя таить: пропадёт!» – уговаривал себя Петька.
Но беспокойство не оставляло его.
Нет! Ни сбор, ни насмешки одноклассников, ни даже собственные слёзы были причиной его тревоги, а странное предчувствие беды. Точно он, Петька Столбов, сорвал печати с дверей сокровищницы, распахнул двери настежь, да так и бросил, без присмотра, без защиты…
Больше всего ему сейчас хотелось туда, в деревню, к старикам, к Кате… Чтобы защитить, заступиться за них… От кого? Этого он не знал. Но предчувствовал, что защита потребуется.
СЧИТАЮ ДО ТРЁХ!
Глава первая
Полоса невезения
Мальчишки сидели на пустыре. Огромные многоэтажные коробки новостроек подступали к нему со всех сторон, по утрам здесь уже тарахтели бульдозеры и экскаваторы, громыхали компрессоры.
Совсем недавно пустырь был полем. Его ещё пересекала речка. Теперь она уже ниоткуда не вытекала и никуда не впадала.
Кое-где торчали изуродованные деревья – остатки садов бывшей здесь деревни. Но каждый день самосвалы везли сюда битый кирпич, ломаные железобетонные конструкции, опилки.
Высокий вал мусора накатывался со всех сторон на пустырь, и был он уже не деревня, но ещё и не город, а строительная площадка.
Мальчишки любили пустырь. В новых домах, куда они недавно переехали, были для них организованы игротеки и Красные уголки, спортивные залы и кружки, но их тянуло сюда.
Дурная слава ходила о пустыре. Два раза в неделю дружинники проводили рейды, и тогда отсюда разбегались те, кто состоял на учёте в милиции, кем занималась комиссия по делам несовершеннолетних при районном исполнительном комитете народных депутатов.
– И правильно сделал, что ушёл! – сказал Штифт. – Пусть милуются как хотят. Но без тебя. Тоже мне придумали! Догадались! Сколько твоей матери лет?
– Тридцать четыре!
– Ге! – сочувственно усмехнулся Штифт. – Это скоро у тебя вполне может брат появиться!
– Есть уже! – буркнул Алёшка. Ему хотелось завыть от слов приятеля. – Она на то и упирает, что, мол, у Ивана Ивановича сынишка без матери. Маленький. Сегодня утром села ко мне на диван и давай: «Лёша! Что ты скажешь, если Иван Иванович будет жить с нами?» Ну, я ей сказал! Надолго запомнит!
– Я поражаюсь! – сказал Штифт. – Скоро на пенсию, а они… Противно. Тьфу! – Он плюнул в маленький костерок, который развели мальчишки просто так, чтобы сидеть у огня, смотреть на пламя.
– Этот Иван Иванович всё ходил, ходил к нам. Всё про море болтал, а сам в море-то и не был – в порту на буксире плавает! Моряк из лужи! – рассказывал Лёшка. – Всего в нём и морского что фуражка с «крабом».
– Главное, – засмеялся Штифт, – как это она: «Мальчишке нужна мать, а тебе нужен отец…»
– Во-во! – подтвердил Лёшка. – А мне такая мать не нужна! Обойдусь!
– Главное дело, тебе «отец нужен», – не унимался Штифт. – Да у тебя отец – позавидовать можно! Такого отца поискать… Не то что какой-то буксирщик. С таким отцом не бойся, не пропадёшь! Что тебе, отец не поможет? Уходи жить к нему, вот и всё…
– Конечно, – согласился Лёшка.
– Всегда надеешься на лучшее, мечтаешь, мечтаешь, а получается наоборот, – сказал, помолчав, Штифт. – Всегда думаешь: «Ну, повезло!», а на самом деле – нет. – Он горестно шмыгнул носом. – На прошлой неделе специально с уроков удрал: накопил, понимаешь, шестьдесят копеек, хотел в центре жвачки достать. Приезжаю – дают. Чинно-благородно стал в очередь. На шестьдесят копеек четыре штуки выходит, это целый день жевать! И представляешь, перед самым носом на обед закрываются! – Белёсые брови Штифта поднялись, как у Пьеро из «Золотого ключика» – домиком. – Выхожу на улицу – подваливает парень. «Прикупи, – говорит, – жвачки. Я, – говорит, – перебрал, уже так нажевался – тошнит». Я ему как порядочному – «спасибо», а он не по пятнадцать копеек продаёт, а по двадцать! Спекулянт! Ну, думаю, подавись моими деньгами. Купил! Тут нас дружинники и сцапали. И до шести вечера в штабе дружины с нами разбирались.
– И жвачку отобрали?
– Конечно. Ему назад жвачку, мне назад деньги. Пожевал называется. Ему ещё в школу напишут. Он выходит из штаба, говорит: «Лучше бы я тебе эту жвачку даром отдал…» – Штифт горько засмеялся. – Там один тип чудной сидел, у него на руке наколка: «Нет в жизни счастья». Это точно. Я себе тоже такую сделаю! А на другой руке у него написано: «Ах, судьба ты моя, полосатая!»
– В тюрьме, что ли, сидел?
– Вот именно, что нет. Это – он мне объяснил – жизнь, как зебра, то хорошая полоса, то плохая. Как придёт плохая полоса, хоть ложись и помирай!
– Точняк! – согласился Лёшка.
Сегодняшний разговор с матерью и его уход из дому был последней каплей в огромной чаше бед. Начались они ещё в марте, когда его выгнали из секции дзюдоистов. Не посмотрели, что Лёшка чемпион среди юниоров, выгнали за неуспеваемость в школе.
Об этом он не говорил никому, даже Штифту.
«Как только во дворе узнают, что я больше не чемпион и вообще не в секции, – думал Лёшка, – весь мой авторитет как песочный домик рассыплется». «Уважение и авторитет только у сильных и у везучих» – так говорил отец, и Лёшка с ним был совершенно согласен.
Он вспомнил, как вызвал его тренер. Лёшка занял второе место на городских соревнованиях, и ему только что вручили Почётную грамоту. Вот уж действительно: готовишься к радости, а получается несчастье.
«Как у тебя дела в школе?» – спросил тренер вместо поздравления. «Обыкновенно», – холодея от предчувствия беды, сказал Лёшка. «Звонил завуч, – глядя в окно, сказал тренер. – У тебя три двойки в четверти…» – «Но я же всё время на тренировках…» – прошептал Лёшка. «Я тебя предупреждал? – всё так же не оборачиваясь, спросил тренер. – Ты мне что обещал?»
Он поднялся и стал ходить по тренерской.
«Ты кем собираешься быть?» – «Дзюдоистом!» – выпалил Лёшка. «Нет такой профессии! – отрезал тренер. – В общем, так, – сказал он, опять поворачиваясь к окну, словно там за окошком было что-то такое интересное, от чего этот плотный широкогрудый человек с крепкой шеей и с седыми висками никак не мог оторваться. – В общем, так! Исправишь двойки – приходи». – «Но я же в секции самый способный!» – закричал Лёшка. «Ну?» – спросил тренер, обернувшись к мальчишке, словно впервые его увидел. «Я же всех победил. Я – чемпион!» – опять закричал Лёшка. «Что? – поднял брови тренер. – Иди исправляй двойки!»
Наверное, у Лёшки в это время было такое лицо, что тренер смягчился и добавил: «Кимоно можешь оставить у себя, до возвращения».
Он положил руку Лёшке на плечо. Но мальчишка стряхнул её…
«Выгнали! Выгнали!» – эта мысль постоянно стучала у Лёшки в голове.
«Ну, ничего! Ничего! – приговаривал он, обливаясь потом, тридцатый, сороковой раз отжимаясь от пола. – Я ещё вам всем покажу! Перейду в другое спортивное общество, я всем из этой дурацкой секции пятки на затылок заверну. Не исподтишка! Честно! На соревнованиях. И вы ещё пожалеете, что выгнали меня». Он не собирался исправлять двойки, а целыми днями возился с эспандером и гантелями, с пособиями и рисунками по дзюдо. У него болели мышцы, но, стиснув зубы, Лёшка продолжал тренироваться в одиночку днём, а по вечерам отрабатывал приёмы со Штифтом.
– Вот ты уйдёшь – я без тебя здесь совсем пропаду! – вздохнул Штифт.
– Я тебя год учу драться! – сказал Лёшка. – Ты кучу приёмов знаешь и не слабак, а защитить себя не можешь! Ты же не трус!
– Не трус! – согласился Штифт.
– Так в чём же дело?
– Так ведь жалко! – сказал Штифт. – Одно дело – грушу колотить, а другое – живого человека.
– Жалко? – закричал Лёшка. – А они тебя жалеют? Ты что, забыл, как тебя Монгол с дружками отделал, «жалко»? На таких добреньких, как ты, воду возят.
Штифт только вздыхал в ответ.
– Мой отец знаешь как говорит? Жизнь – это война: либо ты бьёшь, либо тебя! Она, подлая, так устроена, что всегда один едет – другой везёт! Тот, кто везёт, – ишак! Ты что, ишак?
– Ну чё ты, чё ты, – сказал Штифт, – чё ты обижаешься? Тебе хорошо: у тебя мужской характер. Раз – и ушёл. А я так не могу.
– Чего ты не можешь? – глядя на конопатый нос Штифта, спросил Лёшка.
– Ничего не могу! И уйти не могу. Без меня мать совсем сопьётся!
– Что ты её, теперь до конца жизни тащить обязан?
Штифт в ответ пожал плечами.
– Вот если бы она замуж вышла да пить бросила, я бы сразу от неё ушёл, – сказал он, – так не могу. Пропадёт она без меня. Вчера позвонила с работы. «Приходи, – говорит, – сынок, получи мой аванс, и пусть теперь все деньги у тебя будут, а то я их размотаю. Меня деньги не любят…» Вот! – вздохнул Штифт, подкладывая щепки в огонь. – Теперь прощай жвачечка!
– Как это? – удивился Лёшка. – Теперь же все деньги у тебя – бери сколько хочешь!
– В том-то и дело, – засовывая руки в старенькую курточку, сказал Штифт. – Это раньше – от завтрака накопишь или там у матери из кармана мелочь возьмёшь, а теперь нельзя. Что ж я, сам у себя деньги воровать буду?
– Ну а завтрак? От завтрака же можешь оставлять? – удивился Лёшка, совершенно не понимая философию Штифта.
– Нет, – ответил Штифт, – не могу! Я так подумал, что мне теперь нужно быстрее сил набираться, нельзя на жратве экономить…
– Ну ты даёшь… – только и смог сказать Лёшка.
– Я знаешь что хочу? – повернул к дружку раскрасневшееся от огня лицо Штифт. – Я хочу мать вылечить! Я ее в больницу положу, где от пьянства лечат! Она же не плохая, она даже очень добрая, только несчастная и безвольная! Её все обманывают и никто понять не может… А так она хорошая.
– Ты счастливый! – сказал Лёшка. – Ты своей матери нужен. А я своей не нужен!
– А мне? Я бы без тебя пропал!
– Ты не в счёт! Ты мой единственный кореш. Только уж больно ты добренький. Нельзя таким быть. Надо быть резким человеком. Волевым и целеустремлённым… Нужно в себе развивать жизнестойкость и бойцовские качества – так отец говорит, – иначе ничего не добьёшься в жизни.
– Может быть, и я когда-нибудь таким стану, – сказал Штифт, – ты, что ли, всегда таким был, как сейчас?
– Всегда! – отрезал Лёшка, но это была неправда, и он это прекрасно знал.
Глава вторая
Каким был Лёха
Лёшка Кусков до десяти лет жил в деревне на Владимирщине с матерью и бабушкой. Отца он почти не помнил. Отец уехал в город, когда Лёшка ещё не умел ходить. Мать всё собиралась к нему в город, но он не очень приглашал, как понял Лёшка из разговоров.
Сейчас, сидя у маленького костерка на пустыре за новостройками, Лёшка Кусков, по нынешнему своему прозванию Лёха, вспомнил бревенчатый дом, куст сирени, который ломился весною в окно его комнаты. Тёплую, словно живую, печь, лохматого Напугая, что кидался каждое утро мальчишке на грудь и норовил лизнуть в щёки.
Он вспомнил бабушку.
Наверное, огонь был виноват: языки пламени в костре плясали на углях, как там – в печке, около которой она всегда гремела ухватами.
Маленькая, сгорбленная, с улыбчивым морщинистым лицом, она всегда норовила сунуть Лёшке то кочерыжку, то репку, то блинок…
Мать с утра до ночи была на работе, и Лёшка всё время с бабушкой. Весною, в такой же тёплый день, как сегодня, они вдвоём копали огород и сажали картошку. Свежая земля пахла травой и влагой. Длинные кольчатые розовые червяки ввинчивались в свежевскопанные грядки. Цыплята, которых вывела в огород курица Настя, хватали их и растягивали, как резиновые подтяжки.
«Сади, внученька, горох, да расти, как он: быстро и весело… Матери на помощь, людям на радость…»
Лёшка аккуратно раскладывал горошинки в лунки и закапывал их совочком.
Бабушка повела Лёшку в школу, когда пришло время, бабушка слушала по десять раз, удивлялась и ахала рассказам из букваря и «Родной речи», и Лёшке хотелось читать ей и читать ещё. Он любил пересказывать, что узнавал в школе. Бабушка расспрашивала подробности, а Лёшка казался себе очень умным и знающим…
Когда он делал уроки, она садилась напротив за стол и, подперев маленькую сухонькую голову в белом платочке мосластым кулачком, следила, как выводит внук кривые буквы.
«Не такие уж кривые…» – подумал Лёшка. В первом классе он учился отлично.
В деревне ему было хорошо, все между собой жили дружно: и взрослые и дети. Конечно, он дрался с мальчишками, бывали ссоры, но почему-то здесь, в городе, когда он вспоминал деревню, ему казалось, что там всегда светлое лето и каждый день как воскресенье.
А потом бабушка подняла тот страшный чёрный чугунок, где кипело в щёлоке бельё, вдвинула его в печь и, тихо охнув, села на лавку под окном.
Лёшка как раз учил уроки. Он поднял голову и увидел: бабушкино лицо стало совсем белым.
«Беги к дяде Ване, пусть за доктором пошлёт… – прошептала бабушка. – Стой! Поди сюды».
Она обхватила Лёшку костистыми руками, прижала изо всех сил к груди, и мальчик услышал, как там что-то булькает и хрипит. Он почему-то подумал, что так птица крыльями машет.
«Господи! – прошептала бабушка, прижимаясь холодными губами к Лёшкиному лбу. – Не дай ему пропасть! Побереги ты его! Беги, Алёшенька! Беги! – подтолкнула она мальчишку, отшатываясь к стене. – Да назад не ходи! Не ворочайся назад!..»
«Вот только бабушка меня и любила, – подумал Лёха, ворочая железным прутом угли. – А мать так… только говорит, что любит. Любила – не нашла бы себе этого Ивана Ивановича…»
Со смертью бабушки ушёл из дома покой, словно в печи огонь погас и весь дом выстыл.
Лёшка после уроков сам разогревал кашу, ел её, запивая холодным молоком, потому что никак не мог научиться его кипятить, оно всегда либо пригорало, либо убегало. Чаще хватал кусок хлеба и шёл на улицу, потому что дома ему было находиться без бабушки невмоготу – всё время хотелось её звать и плакать.
Он старался быть на улице дотемна, пока мать не приходила с работы.
Дальше было ещё хуже.
Однажды они заколотили окна, двери и поехали в город. Настали для Лёшки тяжёлые дни.
Мать всё так же с утра до ночи была на работе, и Кусков слонялся на улице. Но здесь была другая улица и другие мальчишки. С первого дня они прозвали Кускова обидным прозвищем «дерёвня» и всё время дразнили его за то, что он говорил по-владимирски, на «о». Кусков бросался на них с кулаками. С двумя, с тремя он мог справиться, но ведь его били впятером и даже вдесятером!.. Не успевал мальчишка оглянуться, как оказывался в самом низу кучи малы.
И в школе было то же самое. Ребята смеялись над ним, как только он раскрывал рот: «Володимирская корова!»
Те мальчики, что не дразнились, не обращали на него внимания. После уроков они разбегались кто куда: кто в спортивную секцию, кто на скрипке играть, кто в кружок рисования… Лёшка хотел бы подружиться с этими занятыми мальчиками, но стеснялся.
А те мальчишки, что были свободны, только и знали, что драться да обзываться.
Однажды его так разделали, что он минут пятнадцать не мог остановить кровь, текущую из носа. Шёл дождик, и Лёшкины слёзы мешались с холодными каплями, падающими на лицо.
«Ничего медали! – сказал какой-то мужчина. – Ну а ты хоть сдачи-то дал?» – «Я де убею!» – ответил Лёшка. «А хотелось бы?» – «Угу! Кодеждо!» – «Приходи ко мне в секцию!» – сказал волшебный человек, как бы из дождя и Лёшкиных слёз возникший.
Так Кусков тоже стал занятым. Он был готов тренироваться с утра до вечера. С каждым занятием прибавлялись синяки на локтях, на коленках, на бёдрах, но он чувствовал, как наливаются силой мышцы, как крепнет брюшной пресс, как цепкими становятся пальцы.
Теперь, если называли его «дерёвней», Лёшка хватал обидчика за локоть и за пиджак, рывок – и противник, сверкнув подошвами, шмякался на спину. «Психованный» – было новое прозвище Кускова, но никто не говорил его Лёшке в лицо.
Они с матерью получили квартиру в новом районе. Здесь-то и познакомился Лёшка со Штифтом. Как-то раз он возвращался из секции. В парадном трое подростков отнимали деньги у заморённого парнишки.
– Ну ребята, ну не надо, – жалко приговаривал тот. – Ну пожалуйста.
– Отдай назад деньги! – сказал Лёшка самому длинному, раскосому, по прозвищу Монгол.
– Кто это? – спросил дурашливым голосом Монгол. – Не вижу.
Кусков занимался в секции третий год. Он поставил сумку с кимоно и скинул туфли.
– Сейчас тапочки белые примерять будет, – хихикнул кто-то из прихлебателей Монгола.
– Ты что, ты что? – почуял недоброе Монгол.
– Считаю до трёх! – сказал Кусков. Перед схваткой у него всегда холодели щёки и что-то сжималось в животе, словно он становился пружиной – крепкой и жёсткой.
– Раз!
Он увидел, как восторженно и испуганно смотрит на него мальчишка, у которого отнимали деньги, вспомнил все обиды, которые пришлось ему вытерпеть в школе и во дворе на старой квартире.
– Два!
Всегда перед боем он вспоминал, как его били, и старался представить, что перед ним именно тот, кто его бил. «Перед боем нужно разозлиться, иначе не победишь!» Лёшка свято верил в справедливость этих слов.
– Три!
Захват! Рывок!