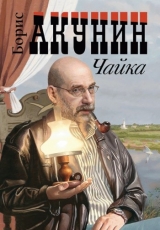
Текст книги "Чайка"
Автор книги: Борис Акунин
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Действие 2
Дубль 1
Часы бьют девять раз.
Дорн (сверяет по своим). Отстают. Сейчас семь минут десятого… Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один – или одна из нас убийца. (Вздыхает.) Давайте разбираться.
Вспышка молнии озаряет проем двери, ведущей на террасу, и видно чей-то силуэт.
Полина Андреевна. Смотрите, кто это?
Дорн (оборачивается и вглядывается). Если не ошибаюсь, это госпожа Заречная. Здравствуйте, Нина Михайловна. Сколько лет сколько зим.
Аркадина (резко). Зачем она здесь? Зачем она пришла? В такую минуту! У нее нет ничего святого!
Нина (неотрывно смотрит на Тригорина). Совсем такой же, нисколько не переменился… (Очнувшись.) Я проезжала мимо. Сильный дождь… Размыло дорогу, коляска не может дальше ехать. Видите, я вся вымокла. Настоящий потоп… Я знаю, Ирина Николаевна, что мой вид вам неприятен, но не выгоните же вы меня в такую непогоду. «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам…»
Сорин (пытается приподняться). Господи, Нина Михайловна, милая, что вы такое говорите! Вы моя гостья, драгоценная гостья. Да на вас сухой нитки нет! Долго ли простудиться. Вот, возьмите мой плед.
Тригорин (равнодушно). Здравствуйте, Нина Михайловна.
Дорн. Выходит, я ошибался. Вот теперь действительно все участники драмы на месте.
Пауза. Нина удивленно оглядывает присутствующих.
Нина. Что-то случилось? Почему у вас такие лица? Вы что, говорили обо мне?
Аркадина. Ну и самомнение. (Дрогнувшим голосом.) Кости больше нет. (Оборачивается к правой двери.) Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой – да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы – жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик… Ты – единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих…
Нина (схватившись за сердце, пронзительно вскрикивает, как раненая птица – она актриса явно не хуже Аркадиной). Что такое?! Костя! В какой страшный миг я сюда вернулась! Будто чуяло мое сердце! Бедный, бедный! На нем всегда была тень несчастья. (Плачет). Почему, почему я не пришла вчера, позавчера, третьего дня! Я столько раз проходила, проезжала мимо, сердце мое чувствовало, откликалось… Но я боялась, что он оттолкнет, прогонит меня… Он… Он снова стрелялся? Я угадала?
Дорн (сурово). Не совсем, Нина Михайловна. Константина Гавриловича убили.
Нина (С растерянной улыбкой, возникшей как бы помимо воли). Как убили? Что значит убили? Я помню, Евгений Сергеевич, вы любите бравировать цинизмом, но время ли сейчас для шуток! Петр Николаевич, милый, что он говорит?
Сорин (всхлипывает). Да, да, это правда. Кто-то стрелял Косте в ухо, и расколол голову, и выбил глаз. Костя лежит в той комнате, на полу, и его даже нельзя положить на стол, потому что приедет полиция и будет искать следы.
Нина (В ужасе оглядывается на правую дверь.) Сердце, нужно слушаться сердца… Почему я не пришла раньше!
Закрыв рукой лицо и неверно ступая, проходит по комнате. Возле письменного стола вдруг, покачнувшись, оседает на пол. Тригорин и Шамраев бросаются к ней и даже Сорин с неожиданной легкостью поднимается из кресла, но, впрочем, тут же снова садится.
Дорн (громовым голосом). Назад! (В несколько прыжков пересекает комнату, нагибается над лежащей и поднимает из-под подола ее платья шарфик, ранее оброненный Заречной.) Сухой! Браво, Нина Михайловна, вы и в самом деле стали выдающейся актрисой! Теперь понятно, зачем вы сюда вернулись.
Аркадина. Что значит «вернулась»? Так она здесь уже была?
Дорн. Поднимайтесь, Нина Михайловна, сцена обморока окончена. (Подает Нине руку. Нина лежит, смотрит на него, но не встает). Разумеется, она здесь была и обронила шарфик. Видите, платье и тальма совершенно мокрые, а шарфик сухой. Обронила, когда была здесь, дождь полил уже после. Задумано и разыграно превосходно. Сейчас мы все бросились бы хлопотать над несчастной барышней, привели бы ее в чувство, и она поднялась бы на ноги. Падала без шарфика, поднялась с шарфиком – поди-ка заметь. И улика бы исчезла.
Тригорин. Улика?
Дорн (смотрит сверху вниз на Нину). Со склянкой эфира у вас вышло ловко. Только вот рука при выстреле дрогнула – слишком револьвер перекосили. Ну же, поднимайтесь. Что вы лежите, как утопившаяся Офелия. Ничего не поделаешь, милая, теперь придется ответ держать. Зачем же вы так с Константином Гавриловичем? Он-то в чем перед вами провинился? (Искоса бросает взгляд на Тригорина.)
Нина (Не коснувшись протянутой руки Дорна, поднимается с грацией гимнастки). Холодно. Зуб на зуб не попадает… Да, я была здесь. И стреляла тоже я.
Аркадина (изумленно). Вы?! Но зачем?
Нина (горько усмехнувшись). Сделала то, на что никогда не решились бы вы. Выполнила вашу работу – кажется, это так называется. У нас ведь с вами, Ирина Николаевна, в жизни один интерес… (Кивает на Тригорина.) Я узнала, что вы должны приехать. Не сомневалась, что вы непременно притащите с собой Бориса. Ты ведь, Боренька, в совершеннейшую болонку при Ирине Николаевне превратился. Как у Чехова – «Дама с собачкой».
Аркадина. Сумасшедшая! Убийца! Борис, не слушай ее!
Нина (смотрит не на нее, а на Тригорина, хоть и обращается к Дорну). Я получала от Кости письма и знала, что он совершенно спятил, он помешался на ненависти к Борису Алексеевичу. Я ходила вокруг дома кругами, ждала. И вот сегодня вы наконец приехали. Я была здесь какой-нибудь час назад. (Оглядывается на часы.) Меньше. Дождалась, пока Костя останется один, и вошла – через эту вот дверь. Решила проверить, действительно ли он настолько безумен. Оказалось, еще безумнее, чем я думала. Он не выпускал из рук револьвера, вел себя дико, взрывы ярости сменялись холодной рассеяностью, которая пугала меня еще больше, чем неистовство. Я попробовала смягчить, успокоить его, но мои нервы расстроены… Я сорвалась, само собой выплеснулось про… про мои чувства к Борису. Боже, как я испугалась! Ведь я сама подписала Борису Алексеевичу смертный приговор! Не помня себя, выбежала в сад и стою, будто приросла к земле… (От волнения не может говорить дальше.)
Дорн. И снова стали смотреть снаружи на освещенное окно. А когда Константин Гаврилович вышел в соседнюю комнату, вы тоже вошли туда – с террасы. Должно быть, еще сами не знали, что намерены сделать.
Нина (опустив голову.) Нет, знала… Я готова была на то, чтобы… Чтобы (едва слышно) отдаться Косте… Лишь бы отвлечь его от мысли об убийстве, лишь бы спасти Бориса… Мы стояли у стеклянной двери. Он взял меня за плечи, стал целовать в шею, и вдруг я почувствовала, что не вынесу, что это выше моих сил… Вижу – на секретере револьвер. Лежит и поблескивает в свете лампы. Это было как символ, как знак свыше… Я прошептала: «Погасите лампу!» а когда он отвернулся, схватила револьвер, взвела курок… Я умею стрелять. Меня офицеры научили – в прошлом году, когда я гастролировала в Пятигорске… Ах, это неважно. (Оглядывается на чучело чайки, бормочет.) Я чайка… Я чайка… (Медленно выходит на террасу и стоит там. Шум дождя слышен сильнее.)
Аркадина (Тригорину). Не смотри ты на нее так. Вся эта сцена была разыграна, чтобы тебя разжалобить – уж можешь мне поверить, я эти фокусы отлично понимаю. Жалеть ее нечего. Разыграет перед присяжными этакую вот чайку, и оправдают. Даже на уловку с эфиром сквозь пальцы посмотрят. А что ж – молода, смазлива, влюблена. Такую рекламу себе сделает на этой истории! Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит. Публика будет на спектакли валом валить.
Раскат грома, вспышка, свет гаснет. (К концу этой картины, как и всех последующих кроме самой последней, все актеры должны оказаться на тех же местах, где были в начале картины.)
Дубль 2
Часы бьют девять раз. Свет зажигается вновь.
Дорн (сверяет по своим). Отстают. Сейчас семь минут десятого… Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один – или одна из нас убийца. Давайте разбираться.
Шамраев. А как разбираться-то? Если кто убил, то сам ведь не признается.
Дорн. Для того, любезнейший Илья Афанасьевич, человеку и дана лобная часть коры головного мозга, где, согласно новейшим научным гипотезам, сосредоточена вся мыслительная деятельность. Кроме того, мы располагаем двумя древними как мир сыскными рекомендациями: Cui prodest и Cherchez la femme. Рекомендации препошлые, но от того не менее верные – почти все убийства именно из-за этих двух причин и совершаются.
Медведенко. Про «шерше ла фам» я помню, что это значит. А первое вот запамятовал. Это по-латыни?
Шамраев (резко). Не знаешь, так молчи, не срамись. Cui prodest – значит «ищи, кому выгода». А еще учитель! Зачем ты вообще ночевать остался? Шел бы домой.
Медведенко. Так ведь вы, папаша, лошадь не дали. Сказали, только со станции приехали, не гонять же опять.
Шамраев. И что с того, что не дал. Шесть верст – не околица, не рассыпался бы. Послушал бы меня, ушел бы – не угодил бы в этакую историю.
Медведенко. Гроза началась, ливень… Так и простудиться недолго. Здоровье у меня некрепкое. Прошлую зиму вон два месяца кашлял. А умирать мне никак невозможно. Ну, Маше с ребенком вы, конечно, пропасть не дадите, но у меня ведь еще мать, две сестренки, братишка. Кроме меня кому они нужны?
Маша (оборачивается, зло затягиваясь папиросой). Знаем. Тысячу раз слышали, почему тебе нельзя умирать. Да ты ведь, кажется, и не умер. Умер Константин Гаврилович. (Заходится кашлем, никак не может остановиться, кашель переходит в сдавленное рыдание. Мать хлопает ее по спине, потом обнимает, обе плачут.)
Медведенко (жалобно Тригорину). Ну вот, опять не так сказал. Теперь долго поминать будут.
Тригорин. Страдательный залог – самая угнетенная из глагольных форм и сама в том виновата. Вам бы полегче быть, повеселее. А то вы все жалуетесь – и два года назад, и теперь. Женщины этого не любят.
Медведенко. Хорошо вам говорить. Вы богатый человек, знаменитый писатель, а у меня мать, две сестренки…
Маша. Заткнись! Мама, пусть он уйдет! Я видеть его не могу! Особенно теперь, когда, когда… (Не может продолжать и тычет пальцем в закрытую дверь, за которой лежит тело Треплева).
Дорн (задумчиво). Ну, насчет Cui prodest – сомнительно. У Треплева за душой ни гроша не было. Стало быть, остается «шерше».
Аркадина. Костя был влюблен в Заречную, это всем известно.
Дорн. Не вижу здесь мотива для убийства. Разве что кто-то другой, тоже влюбленный в Заречную, застрелил соперника из ревности? Например, вы, Петр Николаевич. Вы ведь, кажется, к Нине Михайловне были неравнодушны?
Сорин. Нашли время шутить.
Дорн. М-да, нет логики. Убивают счастливых соперников, а Константин Гаврилович, кажется, успехами на сем поприще похвастаться не мог. Значит, дело не в Заречной. Но ведь тут, по-моему, имелась и иная любовная линия? (Поворачивается к Маше.) Прошу прощения, Марья Ильинична, но сейчас не до деликатностей, да вы, по-моему, не очень-то и скрывали свою сердечную привязанность к Константину Гавриловичу.
Маша (вздрогнув, после паузы). Да, любила. Все знают, и он знает (презрительный кивок в сторону Медведенки.) И всегда буду любить.
Полина Андреевна. Что ты говоришь! Зачем? Любить люби, но зачем говорить!
Шамраев. Сама виновата, что вышла за это ничтожество. Мы с матерью тебе говорили. Нужно было уехать в Тверь, я же подыскал тебе отличное место гувернатки – в хорошем доме, двадцать пять рублей на всем готовом!
Медведенко (Тригорину жалобно). Это про меня – «ничтожество». В моем присутствии. И всегда так.
Аркадина (недовольна тем, что разговор сосредоточен не на ней). Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой – да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы – жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик… Ты – единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих…
Почтительная пауза.
Дорн. Скажите-ка, как вас, Семен Семенович, вы ведь, кажется, примерный отец? Помнится, вы собирались идти домой пешком, невзирая на шесть верст и непогоду? Я слышал, как вы об этом говорили какой-нибудь час назад. Отчего же все-таки остались? (Подходит к Медведенке и смотрит на него в упор.)
Медведенко (делая шаг назад). Гроза… Погромыхивать стало. Мне простужаться нельзя… Здоровье слабое.
Дорн (задумчиво). Шерше ля фам, шерше ля фам… Да не случилось ли чего, из-за чего вы уходить передумали?
Медведенко. Ничего. Только вот тучи и гром.
Полина Андреевна (хватается за сердце). Господи, неужто… Это ты, ты был! Я-то, помню, подумала – с чего бы сквозняку взяться. А это не сквозняк, это ты в щелку!
Дорн (быстро). Какая щелка? Какой сквозняк?
Полина Андреевна. Подслушивал!
(Медведенко машет руками, пятится.)
Дорн. Подслушивал? Что подслушивал? С кем был разговор? О чем?
Маша. Мама, не вздумай!
Полина Андреевна (страстно). Нет, я расскажу! Я просила Константина Гавриловича… быть с Машей поласковее. Знаю, матери о таком просить стыдно, но ведь сердце разрывается! А он (показывает на Медведенко), он подслушал!
Шамраев (грозно). Поласковее? Ты… ты сводничала?!
Полина Андреевна. Ты ничего не видишь вокруг себя! Тебя интересуют только овсы, сенокос и хомуты! Твоя дочь страдает, гибнет, а ты…
Дорн. Тихо! (Полина Андреевна послушно умолкает на полуслове. Дорн подходит к Медведенке и крепко берет его за плечи, тот мотает головой.) Итак, Семен Семенович, вы подслушали, как ваша теща уговаривает Треплева быть поласковее с вашей женой и после этого передумали возвращаться домой. Кажется, у вас нашлось другое дело, поинтереснее. (Смотрит на Медведенку с любопытством.) Вот уж воистину «и возмутятся смиренные». Всякому терпению есть мера, а?
Медведенко (рывком высвобождается, расправляет плечи, говорит громко). Да, Евгений Сергеевич, да! Возмутятся смиренные, потому что и у чаши смирения есть своя кромка. Когда переполнится, одной малой капельки бывает довольно. Живешь-живешь, терпишь-терпишь. Все видишь, все понимаешь, а надежда нашептывает: подожди еще, потерпи еще, воздал же Господь Иову многострадальному. Где вам, баловню судьбы, женскому любимцу, понять, каково это – быть самым что ни на есть распоследним человеком на свете! Говорят, у каждой твари своя цена есть. Я всегда знал, что моя цена небольшая – примерно в двугривенный, а сегодня мне и вовсе глаза открыли. Не двугривенный, не алтын даже, и не полушка, а нуль, круглый нуль – вот цена Семена Медведенки. Если б ставили хоть в полушку, так дали бы лошадь – только уезжай, не путайся под ногами, не мешай разврату. А тут даже этой малости не удостоили – уйдешь, козявка, и собственными ногами. Этот барчук, этот бездельник (тычет пальцем в правую дверь) растоптал мне жизнь! Казалось бы, стал модным писателем, деньги тебе из журналов шлют, так уезжай в столицы, блистай. Нет, сидит, как ворон, над добычей. Губит, топчет, сводит с ума. А Машенька и сошла с ума. Смотреть на это сил нет! И пьет, много пьет. Ребеночка забросила. Я ведь не убивать хотел, хотел попросить только по-человечески – чтоб уехал, пожалел нас. Для того и пришел – наедине поговорить. А он на меня как на грязь какую посмотрел, пробормотал что-то по-французски, зная, что я не пойму, и отвернулся. Тут на меня будто затмение нашло. Схватил со шкафчика револьвер… Как дым рассеялся, думаю: нельзя мне на каторгу. Никак нельзя. Господи, молюсь, спаси, избави! Вдруг на глаза ваш саквояж попался. Думаю, там бинты, йод. Что если Константин Гаврилович жив еще? Открываю, вижу склянка и написано «Эфир». И вспомнил про кислород, про нагревание – читал в учительской газете. Еще слово вспомнил французское – «алиби». Вот тебе и алиби. Господи, что теперь с ребеночком-то будет… (Закрывает руками лицо, глухо, неумело рыдает).
Шамраев (вполголоса). Положим, слово не французское, а латинское.
Раскат грома, вспышка, свет гаснет.
Дубль 3
Часы бьют девять раз.
Дорн (сверяет по своим). Отстают. Сейчас семь минут десятого… Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один – или одна из нас убийца. Давайте разбираться. Итак, кто-то вошел с террасы в комнату, мирно поговорил о чем-то с Константином Гавриловичем, потом взял с секретера револьвер, вышиб собеседнику мозги, подогрел на свечке склянку с эфиром и удалился. При постепенном соединении с воздухом нагретый эфир взрывается через пять-шесть минут. Для того чтобы обеспечить себе алиби, в момент взрыва убийца должен был непременно находиться здесь, в гостиной, причем в присутствии свидетелей. Иначе уловка утратила бы всякий смысл. Давайте-ка припомним, кто предложил перебраться из столовой в гостиную.
Тригорин (пожав плечами). Никто. Мы просто закончили пить чай и решили продолжить игру в лото.
Аркадина. Нет-нет! Я рассказывала, как меня принимала публика в Харькове, а Марья Ильинична вдруг перебила и говорит: «Как здесь душно. Идемте в гостиную». Впрочем, все это пустое и глупости… Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой – да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы – жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик… Ты – единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих…
Дорн. Хм, а ведь верно. Это Марья Ильинична увела нас из столовой.
(Все поворачиваются к Маше, которая стоит спиной к зрителям у окна и курит).
И еще, Марья Ильинична, вы зачем-то попросили меня открыть дверь. (Показывает на дверь, что была загорожена креслом.) Я, помню, удивился – вроде бы амплуа беспомощной барышни не по вашей части. Или вы знали, что дверь заставлена креслом? Если так, то откуда вам это было известно? Как и все мы, вы отлучались из столовой. Не могли бы вы объяснить, куда и по каким делам?
Пауза. Маша будто не слышала.
Марья Ильинична, извольте ответить.
Маша (произносит монолог не оборачиваясь, ровным и вялым голосом). Пошла посмотреть, где он и что делает. Я часто за ним подглядываю. То есть подглядывала. Папа называет меня дурой, а я очень хитрая. Бывало, стою на террасе у окна, и смотрю, как Константин Гаврилович пишет, или просто сидит, глядя на огонь, или мечется по комнате, ероша волосы. Войти боялась – он сердится, когда я к нему вхожу. То есть сердился. Я его раздражаю. То есть раздражала…
Дорн. Не отвлекайтесь вы на грамматику. Продолжайте.
Маша. Он был здесь, и с ним была Заречная. Она все повторяла: «Я чайка, я чайка». Ах, как он на нее смотрел! Если бы он когда-нибудь, хоть один-единственный разок посмотрел так на меня, мне хватило бы на всю жизнь. Я бы все вспоминала этот взгляд и была бы счастлива… Это не Заречная – чайка, это я – чайка. Константин Гаврилович подстрелил меня просто так, ни для чего, чтоб не летала над ним глупая черноголовая птица! (Резко оборачивается, стоит, обхватив локти). Жизнь моя ужасна. Я живу в бревенчатой избе, с мужем, которого не люблю и не уважаю. Его многочисленное семейство меня боится и ненавидит. А этот ребенок! Я его не хотела, я не испытываю к нему совершенно никаких чувств кроме досады и раздражения! Зачем он кричит по ночам, зачем требует молока, зачем пачкает пеленки! А ведь я могла бы жить иначе. Я могла бы уехать, заняться каким-нибудь делом или хотя бы просто додремать до старости. Но Костя привязал, околдовал, отравил меня… Какой он был красивый! Только я это видела, больше никто. В последнее время мне стало казаться, что он посматривает на меня по-другому. Нет, не с любовью, не с нежностью – я не настолько слепа. Но он мужчина, ему нужна женщина, а кроме меня около него никого не было…
Полина Андреевна. Что ты говоришь! Опомнись!
Шамраев. Бесстыжая тварь! (Бросается к дочери, но Дорн крепко берет его за локоть и останавливает.)
Маша (словно никто ее не прерывал). Я думала, рано или поздно он будет мой. Но тут появилась она и снова вскружила ему голову. О, она актриса, она отлично умеет это делать. И ведь ей он даже не нужен – она просто упражнялась в своем искусстве… Я стояла за окном и думала: довольно, довольно. Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом. Вот и я клюну его в темя, или в высокий, чистый лоб, или в висок, на котором подрагивает голубая жилка. Я готова была смотреть на эту жилку часами… Освобожусь, думала я. Избавлюсь от наваждения. И тогда можно будет уехать. Уехать… Уехать…
Медведенко. Маша, ты не в себе. Ты на себя наговариваешь.
Шамраев (громовым голосом). Молчи, жалкий человек! А ты, мать, рыдай. Наша дочь – убийца! Горе, какое горе!
Аркадина (Тригорину, вполголоса). Теперь «благородного отца» так уже не играют, разве что где-нибудь в Череповце.
Тригорин (оживленно). Потому что вот это (показывает) не театр, а жизнь. Я давно замечал, что люди ведут себя гораздо естественней, когда притворяются. Вот о чем написать бы.
Раскат грома, вспышка, свет гаснет.





