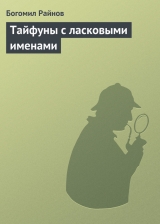
Текст книги "Тайфуны с ласковыми именами"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Я не против. Убивайте. Только не так. Не этими идиотскими вопросами. Попробуйте ходить на руках. Или свистеть – меня это будет меньше нервировать. Или спойте что-нибудь…
– А ведь иные в этот час поют… И играют… Оркестр в «Мокамбо» еще не выбился из сил…
– Да, играют, и поют, и наливаются шампанским, распутничают, занимаются групповым сексом, обжираются мясом, заливая его бургундским. Треплются о том, где лучше провести отпуск, на Багамских островах или на Бермудах… – неторопливо излагает он, как бы припоминая, чем еще могут заниматься люди. – А вот грязную работу предоставляют Бэнтону и ему подобным, и то, что Бэнтона этой ночью заметут либо он сам задохнется в каком-то подвале в собственных испарениях… никакого значения не имеет, это заранее предусмотрено, как неизбежная утруска, словом, это в порядке вещей, об этом даже не принято думать…
Он замолкает, словно желая перевести дух, и я тоже пытаюсь перевести дух – мне не хватает воздуха, или я воображаю, что не хватает. Я чувствую, как в голове снова начинается та отвратительная боль, с которой я проснулся под вечер в отеле «Терминюс».
Под вечер в отеле «Терминюс» – сейчас все это мне кажется чем-то очень далеким, почти забытым, чем-то из Ветхого завета… И Флора, и мосье Арон…
Проходит время. Может, час, а может, больше. Не желаю смотреть на часы. К чему на них смотреть, когда знаешь, что тебе больше нечего ждать, кроме… И мы молчим, каждый расслабился, каждый занят своими мыслями или пытается прогнать их.
– Вот почему мне бы хотелось унести ноги и исчезнуть, если бы мог, – слышится снова тихий голос Ральфа, совсем тихий, потому что Ральф, в сущности, говорит сам себе, а не мне. – Это было бы наиболее логичным. Меня ведь всю жизнь этому учили, это было стимулом: преуспевать, двигаться вперед. Ради чего? Чтобы иметь большее жалованье, больше денег. А раз так, раз ты нащупал наконец эти деньги, целые горы денег, почему не набить ими до отказа мешок и не податься куда заблагорассудится…
– И все-таки вы бы этого не сделали, – встреваю я совершенно машинально, так как мне уже не хочется разговаривать, не хочется ничего.
– Ну конечно, потому что существует и другое: воспитание, дрессировка. Мне все время внушали, что наша разведка – это величайшее установление, вам тоже, наверно, говорили что-нибудь в этом роде. Мне доказывали, что деньги – великое благо, и я поверил. Вам говорили, что брильянты – это всего лишь чистый углерод, и вы поверили. С чего же вы взяли, что вы выше меня, если вы такая же обезьяна, как и я?
– Однако совсем не безразлично, во что человек поверил, – возражаю я равнодушно.
– Абсолютно безразлично… Все – чистейшая ложь. Или, если угодно, удобная ложь. А что из того, что одна из них поменьше, а другая побольше? Я – один. Так же как и вы. Каждый из нас сам по себе… Каждый из нас, жалкий идиот, поверил, что это не так, ему это вдолбили с корыстной целью…
Он прекращает рассуждения, а может, продолжает, но только про себя, для него это все равно, поскольку – хотя и упоминает мое имя – обращается он все время к себе. Если бы он провел день, как я, с мучительной головной болью, если бы какая-нибудь Флора раздавила ему в рот ампулку жидкого газа, у него наверняка пропало бы желание рассуждать, как оно пропало у меня, и единственное, что я стараюсь сейчас делать, – это не думать о том, что мне уже не хватает воздуха; от такого ощущения немудрено, если начнешь царапать ногтями стену, царапать себе грудь и вообще царапаться.
– И все из-за женщин… – слышу после продолжительного молчания голос Ральфа. – В своих устремлениях женщина – необузданное существо, предсказать ее поступки невозможно.
– Так же как и поступки мужчины, – произношу я, едва слыша собственный голос.
– Вовсе нет. У мужчины есть какая-то система. А раз есть система, ее можно расшифровать… Тут себя чувствуешь уверенней: есть система, есть за что уцепиться. Другое дело женщина… Вы сами как-то сказали, что Флора налетела на вас, как тайфун. А ведь это истинная правда: женщины – это стихия, ураган. И не случайно тайфуны всегда носят женские имена: Клео, Фифи, Флора… Ох, эта мне Флора!.. Тайфуны с ласковыми именами… Налетают и все опрокидывают вверх дном…
– Вы уверены? Мы с Розмари жили довольно спокойно… по крайней мере до определенного времени.
– Вполне естественно. В центре урагана погода всегда спокойная. Безоблачная и тихая. Зато попробуйте стать на его пути… Знаю я, что это такое – ураганы. Рассказывал же: Гватемала.
– Может быть, вам хорошо знакомы ураганы, но у меня создается впечатление, что женщин вы не знаете, – замечаю я опять же после долгого перерыва – Ральф, наверно, уже успел забыть, о чем шла речь.
– И женщин знаю, – нудит американец, как свойственно пьяному или засыпающему человеку. – Потому я с ними и не якшаюсь, если вы это имеете в виду… Никогда не якшаюсь. Просто прихожу и плачу… и ухожу с облегчением и с тем чувством отвращения, которое позволяет не думать о них какое-то время…
Он умолкает, совсем замерев там, у стены, куда сполз в тихом истерическом смехе, давно это было, прошли часы, а может, и годы. Потом, по прошествии еще нескольких часов или лет, мучительно изрекает:
– Женщины хороши только на страницах журналов, Лоран… Журналов для подрастающих онанистов… Тех журналов, где можно увидеть множество проституток после режиссуры опытного порнографа… А в обыденной жизни их амбиции и страсти… Нет, не говорите мне… Тайфуны с ласковыми именами…
Затем опять, после того как миновали часы или минуты, я слышу его голос, какой-то очень далекий:
– Впрочем, вы с полным основанием выгораживаете их… этих женщин. Не будь их… я бы вас давно вынюхал и обезвредил.
– Каким образом? – спрашиваю я, еле разжимая зубы.
– Самым радикальным… Я вас уважаю, Лоран… самым радикальным. По отношению к человеку вашего ранга… полумеры оскорбительны…
И мы продолжаем отдавать концы, каждый у подножия своей стены, каждый на своем лобном месте.
– И вот на тебе… взаимно обезвредили друг друга… в этом бункере… в этой нашей общей гробнице… И вам, должно быть, противно, что приходится умирать рядом с таким… как я.
– Почему? На поле боя враги часто погибают рядом…
– Да, верно… погибают рядом… Но хоронить их вместе не хоронят… А нам выпало остаться в братской могиле… в братской могиле шпионов…
В сущности, именно тут твое место, говорю я, правда не вслух, потому что у меня нет сил говорить вслух. В этом бункере времен войны. В бункере, который сохранился, хотя война уже далеко позади… В сущности, нам обоим здесь место, оставшимся от войны, для которых война никогда не кончалась… И нечему тут удивляться, что мы оказались вместе, Ральф… И нечего прикидываться дураком… потому что ты прекрасно знаешь, что она совсем иная, эта наша война, не похожая на ту, с окопами и огневыми позициями… это совсем другая война, и каждый находится в тылу противника, и у каждого в тылу имеется свой противник… и пока она продолжается, нам придется иметь дело друг с другом, нам или другим таким, как мы… потому что противник без противника немыслим… потому что мы порождаем друг друга, и, не будь одного, пропала бы нужда в другом, мы соприкасаемся друг с другом, как день и ночь, как свет и мрак…
Свет, да… Только он уже заметно слабее… Он исчезает. Наверно, спускаются сумерки. И я удивляюсь, до каких же пор нам сидеть в этом мраке, неужели никто не догадается включить свет.
Мы с Бориславом притихли каждый в своем кресле под зеленым фикусом, верхушка которого уже касается потолка этого кабинета. На диване, разумеется, восседает мой бывший начальник, в моем представлении он всегда был немного педант, так же как он всегда придерживался мнения, что я немного авантюрист. А вот у генерала другая особенность, он не любитель официальных заседаний. Вот и сейчас он меряет неторопливыми шагами ковер и задумчиво останавливается то здесь, то там.
– Это не первый случай, – сухо произносит мой бывший начальник, так как ему первому предоставлено слово. – Боев с задачей справится, и неплохо, преодолеет все трудные этапы, и наконец, когда пора поставить точку, он, вместо того чтобы поставить точку, обязательно полезет в западню… Это не первый случай…
– В западню угодить немудрено, – проявляет нетерпение Борислав. – Если бы в жизни все было как на бумаге, этого бы, конечно, не случилось…
– Как бывает в жизни, не вы один знаете, – спокойно отвечает мой бывший начальник. – Мы тоже выросли не в канцеляриях… Хорошо начертанный на бумаге план можно так же хорошо выполнить. Особенно если этим займется такой опытный работник, как Боев. Если, конечно, вовремя сумеет подавить в себе склонность к авантюризму…
– Какой еще авантюризм? – снова вторгается Борислав вопреки установленному порядку. – Разве это авантюризм?
– Ты пока помолчи, – тихо говорит генерал. – Не прерывай человека.
– Пускай, – произносит мой бывший начальник. – Меня это не смущает. Только ему надо быть более объективным. – Он окидывает моего друга острым холодным взглядом и продолжает: – А как иначе назвать весь этот торг с американцем? И зачем, собственно, он ему понадобился, этот торг? Чего ради ему надо было соваться в этот бункер?
– Разве не ясно: чтобы пополнить досье. Чтобы добраться до последнего недостающего куска, – отвечает Борислав.
– Данные, содержащиеся в этом куске, не настолько важны, чтобы ставить на карту свою жизнь. Их можно было получить и в ходе следствия.
– Да, но, возможно, не все, а сколько маеты, сколько времени потратили бы!
– Но не рисковать жизнью, – спокойно возражает бывший шеф.
– В конце концов он рисковал собственной жизнью… – кипятится Борислав, проглотив конец фразы. Я знаю, что он хотел сказать: «…а не вашей».
– Наша жизнь принадлежит не только нам, – сухо поясняет бывший шеф.
– Верно, – соглашается Борислав. – Но что поделаешь: есть люди, которые привыкли доводить дело до конца, выполнять задачу полностью, до последней точки» даже если это связано с риском не вернуться.
– Не вернуться – значит не до конца выполнить задачу, – возражает мой бывший шеф. – Или выполнить, заплатив слишком дорогую цену.
Я внимательно слушаю их, скрючившись в кресле. У меня такое чувство, что они начинают повторяться – это нередко случается, когда возникает спор, хотя генерал не без оснований считает, что истина рождается в споре. Я внимательно слушаю их, и порой мне становится как-то не по себе и я прихожу в недоумение. В самом деле, раз речь идет обо мне, то, может, имеет смысл и у меня спросить, как я сам смотрю на вещи, а не продолжать разговор так, словно меня здесь нет?
– Ты и впрямь немного пристрастен, Борислав, – отзывается наконец генерал. – Нельзя закрывать глаза на то, что последнего куска досье у нас до сих пор нет. Нет у нас его, хотя и заплатили мы за него слишком дорого… – Он замолкает, потом говорит с каким-то упреком в голосе, но упрекает он вроде бы не Борислава, а самого себя: – Пристрастен ты, браток… и я тебя понимаю… Мы потеряли опытного работника… и товарища…
И только теперь я начинаю соображать, почему мне не дают слова – потому что я умер.
Темнеет все больше и больше, уже почти ничего не видно. Но это не черная пелена ночи, а беспокойный сумрак неясных сновидений. И, как всегда в такие моменты, я вижу Любо, который идет с беспечным видом своей неторопливой походкой, слегка припадая на одну ногу.
В те времена, когда мы с ним преследовали в пограничье бандитов среди голых каменистых холмов, Любо тяжело ранили, и хотя ему удалось выжить, он с тех пор прихрамывает, едва заметно, но все же прихрамывает, и это стало его неотъемлемой чертой. Он даже во сне является мне чуть прихрамывая, хотя было бы логично предположить, что призрак не обязательно должен строго копировать человека – он может передвигаться, не припадая на одну ногу.
Он подходит ко мне, останавливается, но на меня не смотрит, словно это явка и мы делаем вид, что совсем не знаем друг друга, а оказались рядом по чистой случайности.
– Своему бывшему начальнику ты можешь говорить все что угодно, браток, но только не мне, – бормочет Любо, почти повернувшись ко мне спиной. – Я-то знаю, зачем ты сунулся на виллу американца, знаю и то, как ты очутился в бункере. На виллу ты полез только ради того, чтобы выручить моего мальчишку.
– Не болтай глупости, – говорю. – Ты же знаешь, я выполнял задачу.
– Расскажи это кому-нибудь другому, только не мне, я как-никак сам тебя учил этому ремеслу и знаю все твои повадки. И нечего мне толковать, зачем ты это сделал.
– Но, выручив Бояна, я тут же мог отправиться восвояси.
– В том-то и дело, что не мог. И ты это прекрасно понимал. У тебя была возможность ретироваться, показав им нос, но чуть раньше, когда стало ясно, что Боян провалился. И если взглянуть на это с профессиональной точки зрения, ты обязан был так поступить. Вместо того чтобы прыгать с террасы, ты должен был немедленно исчезнуть, предоставив Бориславу выручать парня. Его, наверно, все-таки отпустили бы. Зачем они стали бы с ним связываться? Ты им был нужен, ты!..
– Глупости ты говоришь, – отвечаю я, не глядя на Любо, как будто у нас явка. – Разве мог я махнуть рукой на третью часть досье?
– Третья часть!.. Велика важность! Ты соблазнился третьей частью уже после того, как пришел к мысли, что тебе все равно деваться некуда. Тебе было ясно, что ты приглянулся им в качестве искупительной жертвы и что после провала Бояна, говоря строго профессионально, тебе там больше нечего было делать и ты должен был молниеносно исчезнуть. А вместо этого ты сам полез волку в пасть. Чтобы выручить моего парня.
– Да перестань наконец болтать всякую чепуху… Строго профессионально, с профессиональной точки зрения… В конце концов будем мы поступать строго профессионально, нет ли, но рано или поздно мы все равно все к тебе придем, ты ведь знаешь… Так что нечего раньше времени меня отпевать…
И чтобы помешать ему меня отпевать и заставить его убраться, я открываю глаза. Открываю мучительно, с большим трудом и пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь реальном, пока я все еще здесь, среди этой реальности, и вперяю взгляд в серую пустыню бетонного потолка с неровными следами опалубки. Но, как будто сообразив, что я хочу уцепиться за него, уцепиться за что-либо прочное, потолок вдруг начинает вращаться надо мной, этот самый бетонный потолок с отпечатками тесин и с тускло горящей лампочкой. Вращается медленно, но непрерывно, вращение длится так долго, что меня начинает мутить, и я снова пытаюсь уцепиться за него, чтоб не рухнуть куда-нибудь в сторону или даже на этот вращающийся потолок… «Закрой глаза! Закрой глаза!» – говорит мне чей-то голос, и я закрываю, но под веками мельтешат полосы яркого света, словно раскаленная добела проволока, а в голове стучит невыносимая боль, стучит не молотком, а вроде бы долотом. Я поворачиваюсь в сторону, но и тут меня сетью опутывает раскаленная добела проволока, поворачиваюсь в другую сторону – то же самое, я уже опутан со всех сторон и чувствую, как эта огненная сеть меня душит, душит, и, боясь задохнуться совсем, я снова открываю глаза, но надо мной темно, вокруг меня всюду темно, и в черном мраке плывут темно-багровые пятна, а среди них, где-то вдали, словно одинокая звезда, смутно мерцает кружочек от лампочки.
«Надо малость расшевелиться… – слышится голос. – Ты должен встать и рассеять тьму. Она внизу, у самого пола. Ты должен подняться…»
Я пытаюсь подняться, опираясь спиной о стену, но тут же снова сползаю вниз. Я делаю новую попытку. Мрак несколько рассеивается. Ночь превращается в сумерки. Бэнтон, сидящий у противоположной стены, вынимает пистолет… Совсем нечем будет дышать… Я уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы подойти к нему, и… падаю. Встаю на колени, силюсь снова выплыть из мрака и опять падаю, уже возле Ральфа. Вырываю у него пистолет без всякого труда. Он едва удерживал его в руке.
– Верни его мне, – произносит он чуть слышно. – Не могу больше… задыхаюсь…
– Совсем нечем будет дышать…
– Отдай…
– Не отдам…
И мы замираем оба, вконец обессилев. Он – на своем лобном месте, а я – в углу, возле передвижной стены. И снова сгущается мрак. Этот пятнистый мрак. Черные и темно-багровые пятна. «Вот и все», – слышится голос. Я смотрю вверх. Одинокая звезда погасла. Полнейший мрак. Значит, действительно все. Наконец-то. Столько раз приходилось думать о смерти. И как тут не думать, если она ходит мимо тебя. Как тут не думать, если ты знаешь, что в один прекрасный день она неизбежно остановится возле тебя. Одни считают, что смерть страшна. Для других – это отдохновение. Словно непробудный сон после трудного дня. Настало время тебе самому увидеть, как оно там, у Любо, по ту сторону жизни.
11
Смерть опять прошла стороной. Невероятно, но факт. Только в этот раз задержалась поблизости дольше обычного и заглянула мне в глаза. И, подумав немного, дала отсрочку.
В двух шагах от меня, в углу, незаметно образовался просвет, совсем узкий, но его оказалось вполне достаточно, чтобы я ощутил в помещении, насыщенном окисью углерода, дуновение жизни. Здесь темно, однако это не загробный мрак, а обычный: старая лампочка не привыкла к длительному употреблению и просто-напросто перегорела.
Я ощущаю в себе способность двигаться. Ползком, конечно. Подбираюсь ближе к щели и замираю. Хочется вдыхать струящийся сквозь нее воздух полной грудью, но я замираю.
Как долго я остаюсь в таком состоянии, сказать трудно. В этом бетонном гробу я утратил всякое представление о времени. Погребенных оно не интересует. Но вот я вдруг чувствую, что просвет становится шире. Стена бесшумно отодвинулась, чтобы открыть свободный доступ воздуху и свету. Она проследовала всего в нескольких сантиметрах от меня. Достаточно одного рывка, и я на той стороне, вне зоны удушья и смерти. Но поспешные движения рискованны. И я жду, затаив дыхание.
В образовавшемся проеме появляется что-то живое. И на освещенную часть бетонного пола ложится большая тень. Тень женщины. Она начинает перемещаться. Женщина осторожно входит в бункер, и режущий луч карманного фонаря полосует открытую кассу – она пустая, – спускается ниже, на чемоданчики, и задерживается на них…
Вот он, наиболее подходящий момент. Я быстро на четвереньках выбираюсь наружу, достигаю кранов и нажимаю на первый. Там, в бункере, у меня было достаточно времени, чтобы сообразить: раз второй открывает, то первый, по всей вероятности, служит для закрывания. Стена и в самом деле бесшумно перемещается, и просвет исчезает.
Теперь можно перевести дух. И попытаться встать на ноги. Это удается не сразу, однако скорее, чем я ожидал. Подышав полной грудью всего несколько минут, я окончательно оживаю. Очищается кровь, и мысли делаются яснее. Мысли о тех, что в бункере. А также о тех, которые, несомненно, караулят меня снаружи.
Я стою, все еще опираясь о стену, и шевелю ногами. Сперва одной, затем другой. Проверяю, насколько они способны слушаться и держать меня. Сперва одну, затем другую. Потом делаю первые шаги. Не блестяще получается, но падать не падаю. Надо выждать еще немного, пока кровообращение сделает свое дело. А теперь мне пора приниматься за мое.
Итак, эти двое. Слегка нажимаю на рычажок второго крана, и снова образуется щель – узкая, сантиметров десять: я поторопился отпустить рычажок.
– Пьер, это ты, мой мальчик? – слышится голос Флоры, мигом приникшей к щели.
Она прекрасно видит, что это я, и вопрос ее рассчитан лишь на то, чтобы восстановить атмосферу интимности, что может служить хорошим началом взаимопонимания.
– Да, милая. Ну как там, внутри? Обнаружила сокровища? Убедилась, что я слов на ветер не бросаю?
– Я никогда не сомневалась в этом, мой мальчик. Только перестань валять дурака. Нажми-ка покрепче на рычажок вон того, второго крана и дай нам выйти.
– А, ты насчет стены? Это и есть та самая стена, которая нам с тобой мерещилась. «Сезам, откройся!» Разве не помнишь? Вот она и открылась.
– Только потом снова закрылась, – напоминает Флора.
– Верно, чтобы не было сквозняка…
– Вы не способны на такую пакость, Лоран! Это уже не Флора, это немощный голос Ральфа, бессильный и апатичный голос, который, кажется, целую вечность зудел у меня в ушах, зудел, зудел… до умопомрачения. Фраза доходит откуда-то снизу, как будто из-под земли, Флора отстраняет свою массивную ногу, и я вижу бледное лицо американца – он все же дополз сюда, к просвету, как умирающий от жажды доползает до спасительной лужи.
– Вы не способны на такую пакость, верно… после того как мы вместе провели эти кошмарные часы…
– А окажись вы здесь, вы выпустили бы меня?
– Вероятно… Не знаю… – бормочет Бэнтон. – Во всяком случае, если бы вы не отняли у меня пистолет и будь у меня силы, я бы сейчас всадил в вас пулю, чтобы вы не торчали так вот и не злорадствовали…
– Я вовсе не злорадствую, Бэнтон. Просто у меня работа. И чтобы выполнить ее, мне необходимо уцелеть. Так что первым делом бросайте-ка мне сюда негативы, которые вынудили меня отдать вам.
– Из-за каких-то паршивых негативов разыгрывать такую комедию? – пренебрежительно изрекает американец.
И несколько секунд спустя миниатюрная кассета катится к моим ногам. Подняв ее, вношу ясность:
– Да, из-за негативов. Не из-за брильянтов. Насчет брильянтов вы там разбирайтесь с Флорой. Она женщина сговорчивая…
– Пьер, ну хватит болтать, мой мальчик, – напоминает о себе сговорчивая женщина. – Нажимай-ка лучше вон на тот рычажок. А то я уже сварилась в этой дыре.
– Я в ней варился гораздо дольше, милая. И этой отдушины не было. А остался жив-здоров, как видишь. Так что ничего не случится, если потерпишь маленько.
– Лоран, вы не способны на такую пакость… – подает голос Ральф у подножия величественной дамы.
– Нет, конечно. Я вас оставлю распечатанными. И через непродолжительное время пришлю кого-нибудь, чтобы выпустил вас на чистый воздух. Но только не сразу, а немного погодя, когда я смогу в достаточной мере удалиться от выстрелов ваших людей, Бэнтон.
– Пьер! – умоляюще восклицает Флора.
– Лоран… – слышится голос и американца.
Но я уже устремляюсь на свет божий, правда, не так быстро, как хотелось бы. Осторожно преодолеваю лестницу, затем так же осторожно пробираюсь по коридору. Открываю одну за другой двери – кухни, холла, столовой. Везде пусто.
Однако в комнате, что у самого выхода, не пусто. На своем прежнем месте лежит Виолета. В гипсе. И хорошо упакована. Еще одной повязкой ее, вероятно, снабдила Флора. Видать, пустила в ход все подручные средства, и прежде всего шнуры от штор. А в довершение основательно запечатала жертве рот кружевной скатертью тончайшей работы.
Я распутываю скатерть и вынимаю изо рта Виолеты платок. Она несколько раз жадно вдыхает большие порции воздуха – хорошо знакомый мне рефлекс – и только после этого произносит слабым, беспомощным голоском:
– Какая ужасная женщина!.. Вконец извела меня, грозилась задушить и вынудила-таки сказать, где что находится, а после этого – видите, что сделала, – оставила меня, словно вязанку дров…
– Действительно ужасная женщина, – соглашаюсь я. – Однако она просто ангел по сравнению с вами.
– Но у меня не было иного выхода, господин Лоран! – произносит с подкупающей наивностью это милое существо. – Что я могла сделать голыми руками, когда меня осаждали со всех сторон все эти люди…
– А как вы догадались, что осада переместится именно сюда?
– Да очень просто: Кениг уже начал было у меня выспрашивать… А позавчера эта ваша приятельница, Розмари, с присущим ей нахальством приезжала сюда, в Лозанну, к моей подруге, чтобы узнать, где мой дом… Та, разумеется, не настолько наивна и не стала ей объяснять, но когда кто-то вроде Розмари пускается в расспросы, то узнать адрес не такое хитрое дело… Да и вы при встрече со мной там, в «Меркурии», клонили к этому. Я стала лихорадочно соображать, что вас так тянет сюда… и где может находиться то, что вас привлекает. Я сама толком не знала, где что спрятано… Поэтому решила перебраться снова сюда…
– И на всякий случай загипсовать ногу…
– А что особенного? Чем ты беззащитней в глазах окружающих, тем меньше опасность, что на тебя поднимут руку.
– Это вполне логично, – признаю я. – Так же как то, что вы заперли нас в той дыре, чтобы сгноить…
– А что мне было делать, попав в такое безвыходное положение?..
– Вы чересчур хитры, милое дитя. А чересчур хитрые в конце концов остаются с носом, просто от избытка хитрости…
И поворачиваю к выходу.
– Неужели вы так меня оставите?
– Да. И только из милосердия. Потому что в таком положении вы кажетесь особенно беззащитной. И у вас не появится соблазна сунуться туда, где вас мигом растерзают как пить дать.
Пока шла эта беседа, я успел, посматривая в окна, изучить окружающую обстановку. На небольшой поляне между домом и деревьями пусто. В стороне от поляны виден «опель» Флоры – тоже пустой. Так что, выбираясь из дома, я настроен воспользоваться этой свободной машиной, взять напрокат, конечно. Не успел я и два шага ступить, как чья-то могучая рука хватает меня за шиворот, а другая уже готова превратить в фарш мою руку.
– Смываетесь, да? – слышу позади хриплый голос. Оказывается, это Бруннер.
– Вы угадали, – спокойно говорю я. – Мне это начинает надоедать. И не старайтесь изувечить мне руку, умоляю. Это совсем не на пользу нам обоим.
– Особенно вам… – рычит немец. Однако он заметно расслабляет свои клещи, видимо, обезоруженный моей выдержкой.
– Я вас отпущу, Лоран. Вы же знаете, лично против вас я ничего не имею. Но сперва я должен сделать обыск. Поднимите руки вверх и не шевелитесь.
Я повинуюсь и, пока он меня ощупывает, поясняю:
– Если вы ищете брильянты, то, уверяю вас, у меня их нет. В данный момент они, вероятно, в руках вашей приятельницы. Я сдержал слово, Бруннер.
– Я готов заплакать от умиления, Лоран. Не опускайте руки, – снова рычит немец и после беглой проверки начинает обшаривать меня основательно.
– Только ради бога не трогайте моих кассеток…
– Больно они нужны мне, ваши кассетки…
– Что касается пистолета, то я готов уступить его вам. Он, правда, принадлежит Бэнтону, но сейчас и вам вполне может пригодиться.
– Пожалуй, – соглашается немец, пряча пистолет в карман.
Тем временем физико-химические реакции в его ленивом мозгу позволяют ему усвоить значение только что услышанного.
– Бэнтон! Где он?
– Там, в подвале, вместе с Флорой. Но бояться нечего: сейчас он вам не наставит рога. Что касается брильянтов…
– Хватит болтать! – нервничает Бруннер. – Говорите, Лоран, брильянты в самом деле там? Да или нет?
– Вы что, глухой? Вроде бы ясно сказано: и брильянты там, и Флора там, и Бэнтон там!
Мое раздражение, так же как и содержимое моих карманов, побуждает немца действовать, и он, показав мне спину, кидается к дому. А я, как нетрудно предположить, – к «опелю», но – какое разочарование! – ключи отсутствуют. Пресловутая немецкая сообразительность!
Мое приближение к машине не лишено, однако, смысла: мне удается спрятаться за нею на две-три секунды, пока на поляну выскочит другой автомобиль. На сей раз «ситроен». И кажется, достаточно знакомый.
Двое приехавших выскакивают из машины и тоже сломя голову несутся к дому. Насколько мне удалось рассмотреть, один из них Кениг, а другой – Тим или Том, нет, пожалуй, Тим – он вел машину. Еще годик-другой, и я начну свободно их различать, этих метисов.
Направляюсь к «ситроену» в надежде на то, что метисы не столь аккуратны, как немцы, но тут откуда ни возьмись на меня набрасывается из-за деревьев пленительная Розмари, запыхавшаяся, измочаленная.
– О Пьер! Вы всегда появляетесь очень кстати. Куда девались эти двое?
– А что у вас с ними общего?
– Они все время за мною гнались, и все-таки я сумела ускользнуть от них.
– А теперь, выходит, они от вас ускользнули. И всего на минуту вас опередили. Хочу сказать, в длительной погоне за брильянтами.
– Где они, брильянты? – спрашивает Розмари, лихорадочно хватая меня за руку.
– Там, в подвале. Но я вам не советую туда соваться. Не исключено, что с минуты на минуту начнут греметь победные залпы.
Как бы в подтверждение моих слов от цоколя дома доносится глухой выстрел. Потом еще два – один за другим. Потом еще.
Но эта сумасшедшая, вместо того чтобы прийти в растерянность, в свою очередь бросается к дому.
Безумцы.
Делать тут больше нечего. Одно меня заботит – что предпочесть: «ситроен» или пурпурный «фольксваген» Розмари, который обнаруживаю за кустарником.
Розмари как-никак моя приятельница. Столь продолжительное сожительство… И почти безоблачное. Пока оно длилось, я узнал так много полезного об импрессионистах, о благородных камнях, о том, что человек по природе своей эгоист. К тому же «ситроен» помощней, а меня воспитывали в духе известного изречения: «Берегите время».
Сев на могучего коня современной французской техники, я пришпориваю его, и он с яростным ревом мчит меня в сторону Берна. Тихого, сонного Берна, жить в котором одно удовольствие… А быть может, и умереть. Как говаривал Бруннер: «Умереть в Берне!..» И все же у меня иной девиз: умереть всегда успеешь.
– И долго еще ты будешь так вот нестись сломя голову? – спрашивает Борислав, который то дремлет рядом со мной, то болтает о том о сем.
– Сломя голову не шибко понесешься, – отвечаю.
– Лично я не прочь позавтракать. И выпить две-три чашки кофе.
Похоже, я действительно увлекся, совсем как милая Розмари: чем сильней меня донимают всякие мысли, Тем крепче я нажимаю на газ. А ведь уже целый час, как мы в Австрии. И вообще нет оснований нестись сломя голову.
Шоссе извивается среди роскошных альпийских пейзажей. Вот они наконец, эти роскошные пейзажи, знакомые нам по цветным открыткам. Высокие заснеженные пики, застывшие на фоне голубого неба. А под ними – плавные изгибы хребтов, поросших хвойными лесами. А еще ниже – изумрудные пастбища.
Если же сделать еще один-единственный шаг, отделяющий великое от смешного, то мне придется добавить: а еще ниже средь этой необъятности, по узкой и серой полоске ползет черная машина – куда он так торопится, этот махонький жучок? – а в машине, покачиваясь, едут двое. Тот, что дремлет, – Борислав. А другой… Ну, так уж и быть – ваш покорный слуга Эмиль Боев.
– Эмиль, – снова подает голос проснувшийся Борислав. – Если ты не остановишь машину у первого попавшегося заведения, может прохудиться радиатор.
С худым радиатором в эту июньскую теплынь далеко не уедешь, к тому же скоро десять, а в такое время даже последние бездельники успели позавтракать, а о порядочных людях и говорить не приходится.
Еще два изгиба шоссе, и перед нами возникает упомянутое заведение: кокетливый ресторанчик с террасой, примостившийся на взгорке, у самой дороги, текущей в темной зелени хвои.








