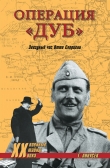Текст книги "Похищение Муссолини"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
11
Подъезжая к Змеиной гряде, на которой шел бой, Штубер уже довольно четко представлял себе, что здесь, в лесу, произошло и почему столь тщательно спланированная операция по уничтожению группы партизанских отрядов провалилась.
Из сведений, полученных от офицеров, выводящих свои подразделения из леса, он понял, что об операции партизанам стало известно заранее и, выставив ложное прикрытие, отряды сгруппировались на болоте. Отходя с боем, это прикрытие повело карательный отряд к Змеиной гряде, в то время как основные партизанские силы незаметно вышли из болота и, смяв две линии заградительного оцепления, состоявшего в основном из румын и полицаев, вырвались из окружения и скрылись в Тудоровском лесу.
Знал он также, что, по предположениям полицаев, Беркут находится именно там, на гряде. Из чего следовало, что основной удар приняла на себя его группа. Приняла; отвлекла – и почти вся погибла.
– Господин гауптштурмфюрер, – подошел с докладом обер-лейтенант, руководивший операцией на Змеиной гряде, – сопротивление партизанского отряда подавлено, через несколько минут…
– Бросьте, обер-лейтенант: «сопротивление подавлено»! – презрительно прервал его Штубер. – Мы подавляем его с лета сорок первого.
– Но вы сами можете убедиться.
– Уже убедился. Где Беркут?
– Если еще жив, то за той стеной.
– Это еще что за крепость? Я не слышал ни о какой крепости, которая бы находилась в этих лесах.
– Естественная гряда. Первый вал ее действительно похож на разрушенную крепостную стену. За этим валом они и засели. Группа наших пробралась в тыл. Но партизаны сбили ее с вершины.
– Вот как: уже сбили?
– Полицаи утверждают, что партизан осталось всего двое.
– И что один из них – Беркут?
– Так точно.
– Кто тот человек, который лично убедился в этом? – резко спросил Штубер.
– К сожалению, полчаса назад этот полицай погиб. Кстати, отчаянный был парень, что среди полицаев встречается крайне редко.
– Из ваших? – спросил Штубер командира залещинского полицейского отряда, молчаливо стоявшего в двух шагах от них.
– Из наших.
– Представить к награде. Посмертно. Описать его храбрость и представить. Приказ об этом будет объявлен во всех ближайших полицейских гарнизонах. Мы постоянно вдалбливаем в головы полицаям, что они трусы. В то время как воспитывать нужно на примерах смелости и преданности рейху.
– Яволь, господин гауптштурмфюрер. Сейчас мои хлопцы и Беркута возьмут. Он там, на том скалистом зубце, засел на вершине. Двое моих зашло ему в тыл, но он, гад, осилил их. Одного пулей, другого в рукопашной.
– Если в рукопашной, то похоже, что лейтенант Беркут. Брать живым. Немедленно передайте приказ: только живым. До темноты операцию нужно – завершить. Ночью он ускользнет.
– Некуда ему отсюда ускользать, господин гауптштурмфюрер, – вмешался обер-лейтенант. – Теперь в тыл ему направлены почти два взвода. Сейчас они окружили плато и прочесывают его.
– Именно потому, что все окружено и вы уверены, что уйти он не сможет, операцию нужно начать немедленно. Всем в атаку. Рассредоточиться. Передайте, что это будет последняя атака. Каждого, кто хоть на шаг отступит от гряды, я пристрелю.
– Не отступят.
– Нескольких человек – на деревья. Они должны взять партизан в огненные клещи, простреливая все пространство и на этом хребте, и за ним. Пусть прижмут их к земле. Прижмут и держат. Вы поняли меня? – улыбнулся Штубер своей загадочно-властной, непостижимой для людей, не знавших его, улыбкой и, не вынимая пистолета, первым пошел к «крепостному валу».
На позициях партизан он внимательно осматривал каждого убитого, даже если тот был в немецкой форме. О пристрастии Беркута к «перемене костюмов» он знал. Но среди павших партизанского командира не оказалось.
– Господин гауптштурмфюрер! – окликнул его Зебольд, когда Штубер присматривался к партизану, лежавшему на вершине перевала. – По-моему, там, в скале, – пещера! Если это так, Веркут наверняка в ней! Человеку, столько просидевшему на Днестре в доте, к подземельям не привыкать!
– Только потому, что Беркут столько просидел в подземелье на Днестре, в эту дыру он не сунется! И вообще, фельдфебель, нам здесь делать больше нечего!
– Но, господин гауптппурмфюрер, подождите! А вдруг?! Уж отсюда-то мы его выкурим!
– Обер-лейтенант, осмотрите все вокруг, каждую расщелину, каждый кустик, – бросил Штубер запыхавшемуся офицеру, только теперь, в числе последних, взобравшемуся на перевал. При этом Штубер заметил, что обер-лейтенант старается не смотреть вниз. Он был из тех, кого горы привлечь уже не способны. – На пещеру времени не теряйте. Вряд ли он рискнет зайти в эту ловушку. Впрочем, – добавил Штубер, уже спускаясь вниз, к «крепостному валу», – разложите в ней, у входа, хороший костер! Перекройте доступ воздуха. Так, на всякий случай!
Если бы Беркут попался ему сегодня, он бы его действительно пристрелил. Прямо здесь. Он пристрелил бы каждого, кто попался бы ему сейчас у этой гряды.
Штубер не понимал такой войны: на измор, на износ, на истребление человеческих ресурсов. До этого была война во Франции, в Бельгии, Голландии. В Польше, наконец. Тоже ведь славяния… Как и везде, здесь, на Украине, преимущество немецкой армии в силе, технике, дисциплине, в опыте боевых действий очевидно. Почему же его до сих пор не удалось реализовать?
12
Над каменистым распадком сгущался холодный туман, клубы которого закипали где-то в глубине этой незаживающей раны земли и черной накипью оседали на огромные валуны, причудливые силуэты скал и полуокаменевшие стволы сосен.
Никакой тропы здесь не было, да, казалось, и быть не могло. Каждый, кто решался преодолеть распадок, должен был спускаться в него, как в погибельное чрево ада.
Проскочив небольшое плоскогорье, Ярослав Курбатов протиснулся между двумя валунами и, привалившись спиной к сросшимся у основания молодым стволам лиственницы, оскалился яростной торжествующей улыбкой. Тигровая падь рядом. Он дошел до нее. Еще каких-нибудь двести метров каменного безумия – и он окажется на той стороне, у пограничной тропы Маньчжоу-Го[17]17
Государство, существовавшее в годы Второй мировой войны на севере нынешнего Китая, в Маньчжурии.
[Закрыть]. Каких-нибудь двести метров… Пусть даже каменного безумия. Он, ротмистр[18]18
Ротмистр – капитан кавалерии.
[Закрыть] Курбатов, пройдет их, даже если бы весь этот распадок оказался утыкан остриями сабель и штыков.
Жидкость, стекавшая по пробитому в каменном склоне руслу, была ржаво-красноватой и издавала подозрительно тухловато-серный запах. Однако это не сдержало Курбатова. Опустившись на корточки, он намачивал ладони на мокром камне – ручеек был настолько слабеньким, что зачерпнуть из него было невозможно, – и потом старательно облизывал их.
Тигровая падь не пугала его. Пограничные наряды туда не заходят: ни красные, ни маньчжурские. А если где-то наверху окажется засада, он будет прорываться, перебегая от карниза к карнизу, под нависающим гребнем левого склона.
Месяц назад он провел этим ходом одиннадцать диверсантов. Это были сорвиголовы, которых Курбатов знал еще по специальному отряду «Асано»[19]19
Отряд «Асано» был создан в 1938 г. из белогвардейцев на Маньчжурской станции Сунгари-П., по требованию японцев. Офицеры-этого отряда привлекались потом для создания других белогвардейских, формирований.
[Закрыть] и с которыми прошел подготовку в секретной школе «Российского фашистского союза»[20]20
«Российский фашистский союз» организован в тридцатые годы в Маньчжурии, в основном из молодых офицеров армии атамана Г. Семенова. Фюрером русских фашистов являлся полковник К. Родзаевский. В 1946 г. К.Родзаевский расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного куда СССР.
[Закрыть]. Да, тогда их было двенадцать. И продержались они месяц. Группа прошла по станциям почти до Читы, пуская под откос и обстреливая эшелоны, нападая на колонны машин, вселяя страх в станичные и поселковые советы. Они знали свое солдатское дело. Каждый сражался, как подобает воину «Асано». Восемь погибло в стычках. Один пропал без вести, но никто не заставит его, Курбатова, поверить, что тот сбежал.
Еще одного, раненного, удалось оставить в семье белоказачьей вдовы. Последнего, одиннадцатого, тяжело раненного в совершенно дурацкой перестрелке с тремя мужичками из истребительного батальона, Курбатову просто-напросто пришлось добить ножом уже в километре отсюда. Они все же ушли от погони. И ротмистр тащил его сколько мог. Поэтому совесть его чиста. Но ситуация складывалась так, что Курбатов вынужден был добить его. Хотя этим одиннадцатым оказался командир отряда, и тоже ротмистр, Гранчицкий.
Жидкость была солоноватой и вообще отвратительной на вкус. Тем не менее Курбатов сумел кое-как утолить Жажду, а утолив ее, снова привалился спиной к сросшейся лиственнице и несколько минут просидел так, совершенно отключив сознание, в каком-то полуобморочном небытие, в которое умел вводить себя, возможно, лишь он один. Потому что только он обладал полубожьей-полусатанинской способностью: в самые трудные, самые опасные, а иногда и постыдные, минуты вдруг как бы изымать себя самого из бытия; возноситься над всем, что происходило вокруг; превращаться в такой Дьявольский сгусток желания «во что бы то ни стало – спастись», что каким-то образом тело его как бы оказывалось изолированным от окружающего мира, защищенным от всякой угрожающей ему опасности.
Нет, Курбатов не способен был ни описать Это состояние, ни уж тем более объяснить его. Однако пользовался им всегда умело. И тогда, когда нужно было дольше всех пробыть под водой. И когда приходилось ворочать такие тяжести, к которым даже страшно подступаться. И когда выдерживал такое, чего никто другой, казалось, уже не в состоянии был бы выдержать.
Теперь же именно эти несколько минут «небытия» помогли Курбатову немного восстановить силы. Почти пятьдесят километров по горным дорогам и перевалам он прошел без отдыха. Километров семь из них – с раненым Гранчицким на спине. Вот почему несколько минут, которые он провел у ствола лиственницы, показались ротмистру блаженственными.
Чей-то голос? Послышалось? Да нет же, голоса!
Курбатов повернул карабин стволом вниз, проверил оба пистолета. Расстегнул кожаный чехол, в котором носил специально для него сработанный кузнецом-маньчжуром метательный нож, с ложбинкой в острие для закапывания туда яда, ампулка с которым всегда хранилась в кармашке чехла. Снова прислушался, внимательно осматривая гребень распадка. Вроде бы все тихо. Можно уходить. Но в том-то и дело – просто так, взять и уйти, ему не хотелось. Без стычки, без риска, уйти за кордон – это не для Курбатова.
– И все же я видел человека, – вдруг донесся до ротмистра тонкий юношеский голосок.
«Вот и достойный противник на арене, – поиграл желваками Курбатов. – Святое дело гладиатора».
Говорили где-то совсем рядом, за плоской, похожей на изодранный ветрами парус, скалой. Как раз в этом месте, где узкая, блуждающая между валунами тропа описывала большую дугу, по которой пограничникам или охотникам – кто бы они там ни были – придется топать еще минут пять.
– Это мог быть промысловик.
– Непохоже. Я видел его еще вон на той скале. Когда ты отстал. Что на ней делать охотнику?
– Почему же сразу не сказал?
– Я не думал, что он двинется к границе. Пока ты подошел; он уже исчез,
– Пошарь биноклем по склону.
– Зачем по склону? Если он у лее где-то здесь.
– А не почудилось?
Теперь Курбатов не сомневался, что это пограничный наряд и что за скалой их двое. И уж совершенно ясно, что по ту сторону ущелья, на горе, один из пограничников мог видеть только его. Правда, солдату трудно сейчас поверить, что диверсант сумел так быстро спуститься с горы, переправиться через ручей и снова подняться на возвышенность. Однако поверить-то придется.
Конечно, ему ни на секунду не следовало показываться на плоской оголенной вершине горы. Но если Курбатов и допустил такую ошибку, то лишь потому, что на северном скате вершины, в небольшой трещине, пришлось оставить ротмистра Гранчицкого.
Весь путь к Чите и обратно он прошел, тая в себе недовольство тем, что полковник Родзаевский назначил старшим группы не его, а ротмистра Гранчицкого. Причем сделал это за день до выступления. Когда стало ясно, что Ульчану придется лечь в госпиталь, чтобы залечить неожиданно вскрывшуюся рану, полковник несколько дней не решался назначить нового командира, хотя никто в группе не сомневался, что им станет Курбатов. Однако Родзаевский, для которого успех этого рейда был не только актом престижа, но и важным аргументом в пользу существования своей школы, остановил выбор на осторожном, покладистом Гранчицком.
Как бы ни был недоволен Курбатов таким решением, он честно тащил командира на своей спине, поил и перевязывал, подбадривал, кормил и снова тащил. Не потому, что ценил ротмистра как диверсанта или считал его другом. А потому, что так велел долг. Тем более что простоватый, на удивление порядочный, Гранчицкий оставался последним из отряда. Последним, кто мог подтвердить, что все, что с ним произошло в этом глубоком рейде в красное Забайкалье, – действительно произошло. Он последний, кто мог засвидетельствовать всю ту удаль, которую пришлось проявить в походе ротмистру Курбатову. И единственный из отряда, кто свидетельствовал бы по этому поводу абсолютно честно, не терзаясь ревностью к силе и удачливости соперника.
– Ну, что ты высматриваешь? – кончилось терпение у того, кто был без бинокля. – И так вижу, что никакого дьявола там нет.
– Неужели ж показалось?
– А раз нет, будем считать, что и не было. Понял, Колымахов?
– Что «понял»?
– А то, что я сказал: нет, значит, и не было, – начальственным голосом проговорил старший. – Показалось – и все тут. Видишь сухое дерево, вон, у вершины? Его ты и принял за человека. И не о чем докладывать лейтенанту.
– Не вижу я там никакого дерева, – проворчал Колымахов. – Зато знаю, что ты – сержант, а значит, тебе Виднее. Что с биноклем, что без него.
– Расторопный ты мужик, Колыпаха. Мудрый и скользкий, как полу облезлый змей.
– Идтить надо. Вечереет. А нам еще назад к заставе.
– Дальше – Тигровая падь. Молчи и зырь в оба.
Пограничники затихли и на какое-то время как бы исчезли. Но ему-то не почудилось. В галлюцинации он не верил. Курбатов напряг слух. Когда послышалось, как на изгибе тропы прошуршал, слетая вниз, камешек, ротмистр попробовал переметнуться за выступ скалы, но обнаружил, что, привалившись к лиственнице, он, сам того не замечая, протиснул плечо в просвет между стволами. И оказался зажатым ими.
Курбатов уперся рукой в один из стволов, отогнул его так, что где-то у основания послышался треск, и, освободившись, со злостью подумал: «А будь я послабее? Взяли бы, словно волка в капкане».
Он сумел освободиться как раз к тому моменту, когда старший наряда появился между скалами. Единственное, что успел ротмистр, так это переступить через пикоподобное острие камня и прижаться к скале.
Сержант покряхтел, стоя у выступа, однако зайти за скалу так и не решился. Еще несколько мгновений, и шаги послышались уже по ту сторону камня, где начиналась небольшая, покрытая альпийской травой, ложбина.
Сержант-то ушел, но дотошный рядовой задержался.
– Слыш, старшой, ротный сказывал, что распадок этот стеной замуруют и минами обставят. Старички говорили, будто в прошлом году здесь восемь групп нарушителей задержали-постреляли.
– Пусть хоть весь кордон замуровывают.
«Из новичков, потому и болтливы», – вновь поиграл желваками Курбатов, сжимая в руке нож.
– Э, сержант, глядь-ка!
Курбатов мельком бросил взгляд на лиственницу и инстинктивно отшатнулся от скалы. На камне, у сдвоенных стволов, лежал его короткий кавалерийский карабин. Он забыл его! Больше привычный к пистолету, он просто-напросто забыл о том, что добрался сюда с карабином!
Колымаха еще дважды негромко, очумело проговорил Свое «Э, глядь-ка!», однако сержант то ли не слышал его, то ли не желал реагировать на балабонство рядового, но только так и не отозвался.
– Да ведь стрелявка чья-то! – возмутился рядовой. Сейчас он наверняка заметил бы Курбатова, если бы только взгляд его не был прикован к карабину, брошенному Кем-то у самой тропы, словно сброшенному Богом.
Увидев плечо солдата – приземистого, худощавого, – двухметровый медведеподобный Курбатов неслышно ступил ему за спину и не просто закрыл ладонью рот, а с такой силой впился пальцами ему в щеки, что почувствовал, как затрещали челюсти. И нож в грудь вводил с такой лютью, что, пронзив ее, чуть было не достал лезвием собственный ватник.
Вытерев нож о шинель убитого, Курбатов опустил тело на землю и снова метнулся к скале. Теперь можно было уходить, но именно сейчас уходить Курбатову не хотелось. Встреча со старшим наряда обещала еще несколько минут риска. Как он мог отказать себе в них?
– Агов, Колымаха! – позвал возвратившийся с полпути сержант. – Уж не в Маньчжурию ли ты настроился?
– В Маньчжурию, – спокойно ответил Курбатов, как только из-за скалы выглянул ствол его автомата.
Пограничник вздрогнул и долго, очень долго поднимал голову вверх, пока где-то там, на высоте двух метров, не увидел непроницаемое, цвета полуобожженного кирпича, суровое лицо. И это последнее, что ему дано было увидеть. Мощным ударом левой ротмистр выбил из его рук оружие, правой припечатал затылок к ребристому выступу скалы, потом еще и еще раз.
Сержант еще был в сознании, когда Курбатов приподнял его и почти на вытянутых руках перенес к лиственнице.
– Кто ты? – в ужасе спросил этот низкорослый коренастый парнишка, глядя на одетого в красноармейскую форму Курбатова расширенными помутневшими глазами.
– Смерть твоя. Гнев Божий. Когда люди узнают о твоей гибели, распятие Христа покажется им сатанинскими шалостями.
Вновь оглушив сержанта, ротмистр забрал у него документы и, упершись плечом в один из стволов, ногой оттянул другой, а затем, приподняв пограничника, буквально вогнал его тело в образовавшийся просвет.
Курбатов прошел уже почти весь распадок, а вслед ему все доносился и доносился душераздирающий вопль раздавливаемого человека. И не было никого в этом мире, кто бы спас его или хотя бы помог побыстрее умереть.
13
Сидя в машине, поспешно увозящей его из вечернего леса, Штубер чувствовал, что удача изменяет не только ему, она неотвратимо изменяет всей доселе непобедимой армии. Даже в Украине окончательно овладеть обстановкой она так и не сумела. Хотя, казалось бы, у местного населения нет оснований для особой любви к большевикам…
По всем данным, которые имелись у немецкой разведки (а Штубер как командир особой группы со многими из них был ознакомлен в подробностях), атмосфера в Украине складывалась таким образом, что эта республика должна была, по существу, сразу же перейти на сторону Германии, стать ее союзницей. Не на равных, конечно, как, допустим, Венгрия, Италия или Румыния, но все же…
И поначалу создавалось впечатление, что так оно и будет. Судя по количеству пленных, которых им пришлось взять в первые месяцы войны, по тому, как быстро организовывались полицейские участки, отправлялись в Германию эшелоны рабочих-добровольцев, так оно все и должно было сложиться…
– А знаете, что я вспомнил? – прервал его размышления Зебольд, когда наконец они выбрались из леса и, следуя приказу Штубера, водитель остановил машину недалеко от сгоревшего грузовика да покореженной «фюрер-пропагандмашинен». Одним из партизан, которые подстерегли нас на дороге, был тот самый поляк, что приходил к нам в крепость.
– Да, тот польский офицер? Вы не обознались?
– Ручаюсь. Я не мог ошибиться.
– А вторым – сержант Крамарчук, – только сейчас сообщил Штубер фельдфебелю то, что раньше сообщать не хотелось. – Которого мы однажды пожалели, не распяли. Хотя должны были.
– Значит, вы его тоже узнали?
– Еще бы, мой фельдфебель! – беззаботно отозвался гауптштурмфюрер. Снова, как в лучшие дни существования их группы, особенно когда он был в прекрасном расположении духа, Штубер произнес это свое «мой фельдфебель» так, как произносят «мой фюрер». Толысо со значительной долей горькой иронии.
– Я не решился назвать этого партизана сержантом Крамарчуком только потому, что мне показалось, будто имеем дело с самим Беркутом.
– Они похожи, – не стал спорить Штубер. – Очень похожи. Осмотрите «фюрерпропагандмашинен». Нужно взять ее на буксир и доставить в крепость.
– Мы рискнем остаться на ночь в крепости?
– А что, был приказ передислоцироваться? – жестко поинтересовался Штубер.
Он и сам понимал, что оставаться в цитадели с пятью-шестью солдатами слишком рискованно. Однако прекрасно понимал и то, что, уйдя из крепости, тем самым признает: диверсионной группы Штубера больше не существует. А значит, к нему станут относиться, как к офицеру, оставшемуся без солдат и без дела. Чем это кончается, Штубер знал – бессмысленным марш-броском на передовую, в одну из эсэсовских частей. Или прикомандированием к отделению гестапо, что, конечно, хотя и предпочтительнее, но особого энтузиазма у него не вызывало.
– А ведь отряд Беркута все же уничтожен, – будто извинился за свою бестактность фельдфебель. – Думаю, это учтут. Если, конечно, должным образом сообщить об этом в Берлин. Или хотя бы в ставку гауляйтера.
Туго бы мне пришлось без ваших дипломатических подсказок, мой фельдфебель. Именно за них я вас и ценю.