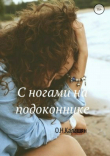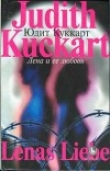Текст книги "К Альберте придет любовник"
Автор книги: Биргит Вандербеке
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Жан-Филипп
Прошло уже несколько лет с тех пор, как я написала рассказ «Альниньо». Мы жили в Т., маленьком городке на берегу реки Роны между Вьенной и Валенсой в доме родителей моего мужа. На субботу и воскресенье из Лиона приезжал Жан-Филипп. После недельного сидения за письменным столом ему было только полезно побыть с семьей на природе. Он любил ездить с отцом на виноградники по другую сторону реки и, когда отец его спрашивал, давал советы, пора или нет еще заменить один сорт винограда другим; он ругал старика за привычку распылять над виноградниками слишком много инсектицидов, «продукта», как они здесь говорили, так много, что листья потом целую неделю отдавали синевой.
Пару раз я тоже ездила с ними на виноградники, и мне всегда нравилось, отстав от них на пару шагов, наблюдать, как они оживленно разговаривают, жестикулируют, подмечать, как они друг другу близки. Когда-нибудь Жан-Филипп унаследует виноградники и, скорее всего, сдаст их в аренду. Он никогда не говорил об этом с отцом, но мы полагали, отец догадывался.
Иногда по воскресеньям мы все вместе ужинали в ресторане. Это было хорошее время. Не для всего мира, о котором мы каждый день читали в газетах, а лично для нас. Сесиль перешла из подготовительной школы в обычную и гордилась тем, что стала по-настоящему взрослой, а я радовалась, что могу теперь уделять себе больше времени. Случалось, я оставляла Сесиль с бабушкой и ехала на неделе в Лион, чтобы взять книги в библиотеке, найти какую-нибудь цитату, просто побыть среди людей, сделать покупки, для которых Т. и Валенса были слишком малы. Потом я заезжала в институт за Жаном-Филиппом, и мы с ним вместе шли ужинать в ресторанчик на улице Марронье, а иногда – в оперу; случалось, мы просто вместе готовили ужин и говорили друг с другом о работе, и я оставалась ночевать в маленькой квартирке на площади Белькур, которую мы и после рождения Сесиль оставили за собой.
История о Надане и Альберте возникла у меня однажды чудной весенней порой. Чаще всего я сидела тогда на солнышке на нашей нижней террасе в Т. и писала: именно так в мою историю проникли флюиды мая, сирени и даже красного вина собственного свекра, впрочем, я думаю, истории это не повредило. Я считала, она закончена и получилось неплохо.
Но прежде чем положить ее туда, где лежали другие мои рассказы, и отослать по почте в издательства, я дала ее прочесть Жану-Филиппу. Мне нравится следить за его лицом, когда он читает. К тому же я уверена, он это знает. Читая, он время от времени задавал вопросы, не мог перевести некоторых слов, хотел знать точнее, о какой именно радиостанции идет речь и в довершение всего мне пришлось, переборов себя, спеть ему не только «Прекрасную полячку», но и «Его последним словом было „водка“». Он наморщил лоб, прикрыл глаза, помотал головой. Потом сказал: «Какая недобрая история».
Я вовсе не считала, что это недобрая история, может быть, потому, что писала ее в приподнятом, даже иногда озорном настроении, сидя на весенней террасе с видом на виноградники моего свекра, которого я очень люблю, и от этого сама история казалась мне милой и немного абсурдной, но Жан-Филипп стоял на своем: это недобрая история.
А потом произошло нечто странное, чего между нами никогда не бывало прежде и позднее никогда не повторялось. Он сказал очень определенно: «И к тому же история еще отнюдь не закончена».
Теперь, когда я пишу эти строки и снова слышу его голос, мне кажется, что он произнес это не просто уверенно, но даже твердо, если не жестко.
И хотя мы всегда охотно и подробно говорили друг с другом о работе, ни один из нас никогда не вмешивался в дела другого, и мне очень не понравилось, что он вдруг позволил себе столь определенное высказывание по поводу моей работы. Я сказала:
– Она, несомненно, закончена. Ничего не осталось. Il n'y en a plus. Надан сидит в обсерватории в Аризоне, Альберта преподает в Лионском университете, и точка. Занавес.
– Может, и занавес, но лишь до поры до времени, – сказал Жан-Филипп. – Конец первого действия, да, но до настоящего конца еще далеко, и конец не наступит просто потому, что ты отправила его в Аризону, а ее – в Лион. Случится еще много чего, и веселого тут будет мало. Мужайся, моя дорогая.
Все это он говорил с подчеркнутой любезностью, хотя глаза его смеялись, и было невозможно не уловить насмешку.
Это меня удивило. Это меня рассердило. Это звучало так, будто Жан-Филипп знает о моей истории больше меня. С этим трудно было смириться. Я не привыкла к тому, чтобы Жан-Филипп говорил со мной в таком тоне. Таким тоном мужчины обычно рассказывают женщинам о войне.
И все же ему удалось сбить меня с толку, я сама вдруг потеряла уверенность, что история и в самом деле завершена; для начала отложила ее в сторонку и написала парочку новых рассказов. Жан-Филипп больше к этому не возвращался. В течение всего лета.
Август мы провели на море. По утрам Жан-Филипп сидел над диссертацией своего коллеги и шел с нами на море только после обеда, был сосредоточен и молчалив.
Осенью он снова поинтересовался моей историей. На время сбора винограда он взял отпуск и привез с собой в Т. целую стопку книг, в том числе и собственную работу о застольной песне в «Заратустре», иногда рассказывал нам об особенностях смешного у Ницше и был, очевидно, рад, что он наконец дома и может до хрипоты спорить с отцом: производить ли много вина среднего качества или немного, но исключительного; и что необходимо предпринять для переориентации производства, если, конечно, вообще стоит его переориентировать. В любом случае выходило, что надо прикупить еще несколько гектаров земли.
– Господин философ решил пройтись по виноградникам, – миролюбиво отшутился отец, когда решил, что с него хватит. Услышав эти его слова, я почувствовала прилив любви к нему, ибо в тот момент мне стало совершенно ясно: конечно же он знает, что Жан-Филипп не будет сам заниматься виноградниками, а не говорит он об этом потому, что щадит чувства сына и уверен – бессмысленно спорить с сыновьями о будущем. До сих пор я думала, им просто весело, это у них такая игра – спорить о виноградарстве. Теперь я засомневалась.
Иногда Жан-Филипп вставал среди ночи, чтобы отправиться с друзьями на рыбалку, в горы. Бывало, им даже удавалось что-нибудь поймать. Но когда Элиза видела эту форель, она со смехом говорила: «Они выудили ее в ближайшем супермаркете».
Все было почти как всегда.
Только начиная с весны я не давала ему читать ничего из написанного мною. Впрочем, он тоже не давал мне своих работ.
Однажды вечером, когда Сесиль уже спала, он вдруг как бы между прочим спросил:
– А что поделывает твоя Альберта? У нее все в порядке?
– Спасибо, все отлично, – сказала я.
– Дело движется?
– Поживем – увидим.
Вот и все. И мы снова уткнулись каждый в свою книгу.
После праздника Вознесения Надан и Альберта молча решили больше друг другу не звонить и не встречаться. Несколько дней Альберта чувствовала облегчение. Не слишком приятное чувство, что тебя разлюбили, да ты же еще и Альниньо, говорила она себе. Никакая она не Альниньо и вовсе не хочет ею быть. За всем этим стоит недоразумение, очень давнее недоразумение, но и очень давние недоразумения вместе с сопутствующими им предысториями должны рано или поздно заканчиваться. Кроме того, работу над переводом Валло пора было заканчивать, сроки поджимали, нужно было скорее искать цитаты, вставлять их в текст, звонить Валло, а по обе стороны компьютера росли горы книг. Работа шла уже не так быстро, теперь она тащилась как черепаха, текст, казалось Альберте, к концу стал труднее, чем она предполагала, хотя, конечно, с самого начала было ясно, что в этом тексте время от времени попадаются препротивные куски. Как раз когда Альберта переводила один из таких мерзких абзацев, очень возможно, что в ее голове ни с того ни с сего возникли одна за другой картинки их бегства: в отеле, на лугу, но также и ужасный Наданов дом, к сожалению, и Альберта погрузилась в их созерцание вместо того, чтобы пытаться следить за смыслом в переводимом тексте, а уследить за ним было непросто. Вышло даже так, что ей дважды пришлось звонить в Париж с одним и тем же вопросом; особая интонация в голосе Валло исчезла, ее сменило нечто другое, что, правда, пока еще никак нельзя было назвать несдержанностью, но за вежливыми словами уже угадывалось легкое раздражение.
Ко всему прочему что-то случилось с ее квартирой. Она вдруг стала казаться Альберте гораздо меньше, чем даже два дня назад, хотя, разумеется, мебели в ней было не так уж много, скорее ее обстановку можно было назвать спартанской, если не обращать внимания на книги, которыми все было завалено. В кабинете на письменный стол из окна падало слишком мало света, в ванной краска слоями отставала от стен, плитка на кухне приобрела вдруг ядовито-желтый оттенок, а несколько штук вообще отвалилось. Все это, решила Альберта, срочно нуждается в ремонте. Плюс безотрадный вид из кухонного окна на оптовый рынок напитков, а к безотрадному виду добавились вдруг шум грузовиков и отвратительное бряканье ящиков с бутылками при погрузке и разгрузке – это было невыносимо.
Так и мигрень заработать можно.
По мнению Альберты, единственное, что было хорошего в Надановом доме – это панорамный вид из его больших окон на юг. Вдали можно было даже различить лес, чуть ближе – несколько частных домиков с березами и ивами в садах. От этой картины веяло покоем.
Она забыла, что совсем недавно у них состоялось ужасное молчаливое сражение – ничего подобного вообще не должно происходить с людьми, которые всю жизнь любят друг друга. Ни вслух, ни молча.
Надан: «Так не пойдет».
Альберта: «А как, скажи пожалуйста, как пойдет?»
Надан: «Перестань говорить этим писклявым голосом».
Альберта: «В моем голосе нет ничего писклявого! И вообще я же ничего не сказала».
Надан: «Ну ты же видишь, так не получится».
Альберта: «А как, скажи пожалуйста, получится?»
Надан: «С тобой вообще ничего получиться не может».
Альберта: «Вот как? Разве это я полощу горло после того, как почищу зубы, так, что дрожат стены? Разве у меня на ногах эти, прошу прощения, прелестные тапочки?»
Надан: «Знаю, знаю, ты очень хочешь погнусничать, но так ничего не выйдет».
Альберта: «Тогда оставим это».
Надан: «Только не начинай сейчас плакать».
Альберта: «Ну вот еще, вот уж чего я точно не буду делать, так это из-за тебя плакать».
Она не забыла ни эти немыслимые диалоги, ни слезы, которые следовали за ними. Какая-то ее часть, запертая навсегда, так и осталась сидеть на той поваленной сосне и не становилась умнее, с тех самых пор как жизнь много лет назад поперхнулась и на какое-то время перестала дышать.
И в тот момент, когда Альберту вдруг захлестнули чувства – ведь есть же что-то трогательное в том, что Надан, едва достигнув совершеннолетия, задумал построить дом, связался со строительной фирмой и в конце концов построил его на участке земли в пригородном районе, и в этом доме, так он задумал, с ним должна была жить Альниньо, ведь это на самом деле очень трогательно, конечно немного наивно, так же трогательно и наивно, как галстук со слониками и, если подумать, как выглаженная пижама, и эти, ну, тапочки, и почему вообще человек не может, почистив зубы, как следует прополоскать рот, – так вот, в этот момент ей вдруг пришла в голову другая, очень своеобразная мысль, и она никак не могла от нее отделаться. Она вдруг осознала, что уже в начале следующего года в одной из нескольких детских комнат, предусмотренных в доме Надана, мог появиться обитатель.
Эта мысль тоже пробудила в Альберте нежность. Хотя в такой же примерно степени и испугала; день ото дня оба чувства становились сильнее: нежность и страх. Она еще не записалась ни в Клермон-Ферран, ни в Лион, такие вещи быстро не делаются, и однажды вечером, едва лишь нежность чуть-чуть пересилила страх, сняла телефонную трубку.
Потом сказала то, что хотела сказать.
Потом после долгой молчаливой паузы, в которой ей было ясно каждое слово, услышала: «Ах вот как».
Потом положила трубку и сказала себе, что она его разлюбила, и вообще этому пора положить конец, пока эта дьявольщина не слишком укоренилась в ее жизни.
Потом стала искать в телефонной книжке другой номер и снова схватилась за телефон.
В Аризоне сквозь самый чистый воздух в мире Надан смотрел на луну, лишь изредка завешенную облаками, и производил сложные расчеты, связанные с Млечным Путем. Пока его наблюдения постепенно выливались в астрофизическую теорию о природе межгалактического тумана, которая позднее повлекла за собой поездку с докладами по всем Соединенным Штатам, Альберта прогуливалась в лионском тумане между Роной и Соной сначала потому, что ее влекла красота эпохи Возрождения, и потому, что все здесь было чужим, возбуждающим, иногда до изнеможения, и восхитительным, как, например, сказочные цветочные магазины, где даже из полевых трав умели создать сверкающий букет. Со временем восхищение поутихло, и наступил момент, когда ей пришлось признаться себе, что в Лионе, к сожалению, невозможно разрешить самое большое недоразумение ее жизни, за которое она помимо собственной воли продолжала цепляться настолько, что ей постоянно приходилось вступать в переговоры с самой собой, даже ссориться, действительно ли речь здесь идет только лишь о недоразумении, а не о большой любви, хотя, кажется, одно напрочь исключает другое. Короче, Альберту одолевали ностальгические мечты, она часто ходила в кино, время от времени предпринимала попытки относиться к жизни легче, на французский манер, но ей удавалось создать лишь видимость легкомыслия, кое-что по-прежнему задевало ее за живое.
Например, знакомство с Эженом Пюшем.
Эжен занимал квартиру над Альбертой. Однажды возле почтовых ящиков он заговорил с ней: «Вы та самая дама, что любит Моцарта?» И Альберта пришла в совершеннейший ужас. Она тут же пообещала, что отныне будет включать музыку тихо-тихо, но Эжен засмеялся и сказал: «Нет-нет, что вы, мне нравится».
В нескольких кварталах от дома находилась его мастерская. Через некоторое время у Альберты вошло в привычку после лекций или прогулок в тумане ненадолго туда заглядывать. Там пахло жженым металлом, огнем, искрами и спокойствием Эжена. Она старалась принести туда что-нибудь: кусочек торта с лимоном или букет цветов, чтобы поставить его на бюро с раздвижными стеклами, где стоял компьютер, за которым Эжен иногда работал.
В ноябре я не продвинулась дальше осознания того факта, что, несмотря на особенные отношения с Эженом, Альберта в Лионе отнюдь не счастлива, в то время как Надану облегчала жизнь его если не счастливая, то, по крайней мере, достойная удивления практическая способность, присущая многим мужчинам, – способность полностью забываться, погрузившись в работу. Надан прекрасно осознавал, что работает в одной из крупнейших обсерваторий мира – посреди пустыни, вдали от городов, автострад, промышленности – в условиях, о которых прежде мог только мечтать. Он разрывался между спектроскопами, астрографами, радиотелескопами, моделированием параллактических сдвигов, работой по ночам, расчетами содержания гелия и водорода, компьютерным анализом межзвездной пыли и газа, и в конце концов он придумал собственную теорию происхождения межгалактического тумана и был страшно доволен, что эта работа вызвала переполох в научной прессе, за которым сразу же последовало несколько приглашений. Он ездил из одного университета в другой и делал доклады, пока его теорию не опровергли, но все-таки работа на какое-то время стала для него действенным средством против нашествия саранчи.
Свой дом, в строгом соответствии с количеством детских комнат, Надан весьма рассудительно сдал на два года семье с тремя детьми, и вернуться его в конце концов заставила вовсе не тоска по дому, а скорее тот факт, что его предположения не оправдались. Млечный Путь остался там, где и был, в Аризоне срок его работы в обсерватории истек, а после того как специальные журналы напечатали опровержения его теории, приглашений в другие унивеситеты не последовало. И хотя в любой европейской стране были бы рады взять на работу астрофизика с опытом работы в Штатах, Надан предпочел провести еще несколько месяцев во Флориде; он жил то с одной женщиной, то с другой, спал то в одной, то в другой постели – и ему вдруг показалось, что все это не то чтобы уж вовсе плохо, но как-то неправильно. Он так и не смог снова стать таким же беззаботным, как в том отеле, неподалеку от Манхайма и Людвигсхафена.
В конце концов он вернулся и стал строить заново свою жизнь и работу, перемещаясь между университетом в Х. и собственным домом, который, как он и опасался, семьей из пяти человек был приведен в весьма плачевное состояние, да и как могло быть иначе. На велюровом ковровом покрытии фломастером были нарисованы клеточки для игры в классики и трассы для автомобильных гонок, повсюду налипли остатки пластилина, а в детские он вообще старался не заглядывать, успел только заметить отпечаток маленького грязного большого пальца около выключателя, когда же ему попались на глаза пятна от овощей на обоях в столовой, он решил, что здесь, должно быть, устраивали соревнования, кто дальше плюнет. Больше всего его расстроило, что весьма далекий от строительных работ отец семейства бестолково и неаккуратно понаделал где только можно розеток для внутренних телефонов, телевизоров, дистанционных беби-ситтеров, все провода шли поверх штукатурки, да еще и самым идиотским образом были выкрашены масляной краской.
Надан зафиксировал факт осквернения своего дома квартиросъемщиками, но дальше этого дело не пошло. Все чаще теперь ему в голову приходила мысль продать дом, и только сентиментальные воспоминания о юности, которые порой вдруг накатывали на него, в самый последний момент не давали ему обратиться к маклеру.
У него вошло в привычку часок перед работой бродить по лесу, два раза в неделю ходить в тренажерный зал, чтобы не потерять форму.
Когда мы с Жаном-Филиппом встречались в Лионе, мы нередко говорили с ним об Альберте.
– Ну, как поживает твоя Альберта? – спрашивал он, и я отвечала:
– Боюсь, ей грустно. Город, конечно, очень ей нравится, но преподавание связывает руки, и хотя студенты попались довольно симпатичные, ей хотелось бы побольше переводить, а может, попробовать что-нибудь совсем новое – например, как Эжен, стоять в мастерской со сварочным аппаратом в руках и, разглядывая куски металла, приговаривать: «Тут мне потребуются четыре электрода, потом надену очки, проведу световую дугу по металлу, и эти части срастутся. Но пока ничего не получается, потому что Альберта слишком несчастна».
Если же мне самой хотелось поговорить с ним об этом, я просто говорила:
– Знаешь, Альберта меня тревожит.
Как-то раз Жан-Филипп сказал:
– Может, ей влюбиться, выйти замуж, родить ребенка, все бы и прошло.
Мне не понравилось, как он это сказал, в голосе звучали провокационные нотки, будто это была проверка, и я чуть не завелась, потому что не люблю, когда откуда-то из засады вдруг выстреливают такими провокационными фразами, не говоря всего, что на уме, но мне показалось, правильнее сделать вид, будто я ничего не заметила, и я сказала:
– Думаю, с этим лучше подождать, пока она не почувствует, что с прошлым покончено, женщина переживает любовные проблемы всем своим существом и страдает тоже. Ей нужно время.
Жан-Филипп сказал:
– Мне кажется, ты сама ждешь чего-то.
Потом сменил тему, спросил о розах, которые мы с его матерью хотели посадить перед виноградниками, причем до первых морозов – всю осень мы с Элизой не могли договориться, какой сорт выбрать: Элизе нравились небольшие светлые розы «боника», а я пыталась уговорить ее на более выносливые «леонардо».
– Она решительно настаивает на «бонике», – пожаловалась я, и Жан-Филипп, качая головой, сказал:
– Ничего не поделаешь, это ее дом и ее виноградник.
В последний раз я представила себе, как красиво смотрелись бы на склоне «леонардо», и в конце концов сама посадила «бонике», потому что у Элизы из-за осенних дождей разболелась голова. Розы и работа на радио занимали все мое время, хотя с цветами мне иногда помогала Сесиль, что, конечно, работу только затягивало.
Надан посадил куст бузины и маленький клен.
У Альберты была комнатная липа и деревце ибискуса, которое погибло, пока она ездила на Рождество к матери в Висбаден. Ее мать считала ненормальным, что Альберта до сих пор не замужем. И сообщала ей об этом по нескольку раз в день. Однажды они даже поссорились.
Надан поехал на Рождество к своим родителям, которые жили неподалеку от Мюнстера. Родители действовали ему на нервы своими восторгами по поводу его американской карьеры и вообще чрезмерной гордостью за единственного сына. По дороге туда он обдумывал, не стоит ли предложить им перебраться к нему после того, как мать в следующем году выйдет на пенсию, – дом был достаточно велик, и, вообще-то говоря, родители в свое время внесли довольно значительную сумму на строительство и потом еще несколько раз давали ему в долг, при этом и он, и они знали, что отдавать эти деньги необязательно, как-никак единственный сын. Он уехал, так и не задав этого вопроса.
Вместе с Сесиль я ездила к своим родителям в Берлин.
На это время из Орлеана в Т. приехал брат Жана-Филиппа с женой и двумя детьми, они поселились в комнате Сесили и моей, и когда мы вернулись, я обнаружила, что сынишка Бруно восковым мелком нанес некоторые исправления и дополнения на мою любимую картину Шагала, а Сесиль даже немного поплакала из-за того, что у ее Барби-невесты больше не было головы, а без головы – какая же свадьба.
Я пообещала ей, что в следующий раз на Рождество мы останемся дома. Голову в конце концов отыскали в багажнике игрушечного автомобиля и водрузили на место, но невеста была опозорена, и позор этот не смыть никогда.
Альберта задумала в следующем году поехать на Рождество в Тунис, а Надан решил поехать на горных лыжах, и только семейство Бруно, возвращаясь в Орлеан, намеревалось в будущем году снова приехать в Т.
Альберта начала считать оставшиеся в Лионе дни. Она готовила студентов к зачету, по вечерам проверяла контрольные работы и переводила детектив Габриеллы Гудар, чья проницательная и блестящая героиня ей с самого начала не понравилась, на протяжении всех ста девяноста страниц книги Альберту не переставала удивлять узость сознания этой куклы в кожаных брюках, а сама она была слишком несчастной и слишком вялой, чтобы строить планы дальше чем на текущий день, а потом день наконец заканчивался и вычеркивался в календаре.
Иногда ей снились странные сны, которые путались с реальностью. Однажды она проснулась среди ночи и ей показалось, что рядом с ней спит Надан. Она сперва испугалась, но тут же ей пришло в голову, что вот ведь Надан проспал рядом с ней всю ночь, и она тоже целую ночь проспала рядом с Наданом, не прокашляла, а именно проспала. Утром она проснулась от прикосновения. Его рука была ледяной. Она нащупала своей ступней его ногу, потом осторожно потрогала плечо. В конце концов она в ужасе сказала: «Не может быть, чтобы ты так замерз во сне, ты, наверное, по сути холодный, как камень». Надан во сне проснулся и, то ли защищаясь, то ли переводя на нее стрелки, сказал: «Ты горишь, будто всю ночь тушилась бог знает в какой печке».
Пока Альберта считала дни, Надан иногда на работе, разговаривая с коллегами в Х., или в тренажерном зале вспоминал – нет, так просто, между прочим – ту фразу: «Ах вот как», которую он произнес тогда в ответ. Он не рассчитывал, что Альберта сразу положит трубку. Если он правильно помнил, он ожидал, что после этой фразы она жалобно спросит его: «Что же мне делать?» На всякий случай он продемонстрировал некоторую неуверенность и оставил пути для отступления.
Для мужчины вообще-то весьма опасно, когда женщина, которая, во-первых, сама по себе Альниньо, и, во-вторых, у нее долгая история неудавшихся взаимоотношений с этим мужчиной, и как раз недавно в очередной раз между ними было достигнуто молчаливое соглашение никогда больше не встречаться и разве только иногда перезваниваться, – и вот эта женщина вдруг звонит и заявляет, так, мол, и так. И дальше те самые слова. Мужчине действительно лучше всего ответить: «Ах вот как». Потому что в подобной ситуации эти слова женщины влекут за собой определенные стилистические проблемы, тут же, можно сказать, порождают в голове и в душе мужчины полнейшую стилистическую путаницу, к которой он совершенно не готов, даже если он с юности был настроен именно на это и предусмотрел в своем доме три детских комнаты, как, например, Надан. Когда Надан задумался о том, пробуждает ли в нем нежность мысль, что в одной из детских мог бы уже тем временем появиться обитатель, и в таком случае рукодельный отец чужого семейства не смог бы ее испоганить, протянув провода поверх штукатурки, он решил: «Пожалуй, да».
Потом вспомнил турнир по плевкам в длину в своей столовой.
Потом вспомнил: тогда его все еще переполняла обида или даже ярость, он уже точно не помнил; и эти слова настигли его, когда он был настроен против Альберты, и он поздравил себя, что оказался на высоте, не дал этой Альниньо обвести себя вокруг пальца, этому нашествию саранчи, из-за которой он построил дурацкий дом. А она ничего не понимает и бродит по дому в полном ужасе – у нее тут же начинается астматический приступ просто потому, что в доме еще нет мебели или еще бог знает почему, – смотрит вокруг и не замечает, что на самом деле это ее дом, что все в нем продумано с целью, чтобы ей было хорошо. А мебель он хотел покупать вместе с ней. У нее есть там даже собственная комната с огромным встроенным шкафом для ее ужасного зимнего пальто, от которого он ее постепенно отговорит, так же как и от курения, римских сандалий на плоской подошве и широких балахонов в желто-черную полоску.
Женщины, с которыми имел дело Надан, не носили балахонов, снимавшихся одним движением через голову, они вообще почти ничего не носили, кроме узкой юбки на молнии с разрезом сбоку или сзади, светлых брюк и подходящей блузки или жакета сверху. Альниньо тоже не помешало бы одеваться немного поэлегантнее, так считал Надан, который тем временем успел поездить по свету и научился расстегивать молнии и кнопки. Он прямо-таки видел, как она в два счета снимает свой балахон, и он прямо-таки видел, вот она стоит, не женщина, а какая-то Альниньо. А потом вот эти слова по телефону. Альниньо не могла такого сказать. Эти слова совершенно не подходят Альниньо.
Иногда он ловил себя на том, что после тренировки по пути из тренажерного зала к подземной стоянке, проходя мимо витрины ювелирного магазина, разглядывает не только браслеты для часов, но и красивые сережки.
Потом он сам же мысленно удивлялся, что выбирает серьги для женщины, которую не только не выносит, но и совсем не знает. Он думал, как странно, что такое случилось именно с ним. Он бы, пожалуй, хотел жениться, и не на дурочке, на которую не мог бы ни в чем положиться, хотел бы иметь семью, нормальный уютный дом. Он мечтал когда-нибудь оставить место доцента, стать свободным и, может быть, даже построить на верхнем этаже своего дома маленькую обсерваторию, предусмотренную по плану, но не воплощенную в реальности.
Зима была холодной. У Сесили был затяжной бронхит, который в Т. никак не желал проходить, и на время зимних каникул мы с ней поехали на море. Жан-Филипп то ли не мог, то ли не хотел взять отпуск, и я его понимала. Что может быть скучнее, чем две недели на море в феврале, и я скучала. Всю первую неделю я ждала. В бесконечно долгие часы, когда я пыталась играть с Сесиль в «мяу-мяу» или запускать воздушного змея, который из-за сильного ветра не хотел подниматься в воздух, я ждала, что на выходные приедет Жан-Филипп. В конце концов он приехал, был очень мил, но рассеян, думал о своем, и было ясно, что исключительно чувство долга заставило его ехать четыре часа к морю, а сам бы он предпочел остаться дома. В воскресенье к обеду он почувствовал облегчение, ему удалось запустить в небо воздушного змея, Сесиль была очень довольна, щеки у нее разрумянились, хотя она была еще слишком мала для того, чтобы самой его держать, а попозже мы сидели в одном из немногих ресторанов, открытых зимой, в небольшом портовом городке, ели жареную рыбу и передержанных устриц, пили белое вино, и Жан-Филипп превзошел самого себя. Потом он спросил:
– Ну как там дела у твоей Альберты?
Учитывая, что следующая неделя скорее всего будет такой же скучной, как первая, а может, еще скучнее после его сегодняшнего удачного запуска воздушного змея и моих, можно не сомневаться, неудачных попыток повторить его результат в последующие дни; учитывая и отличное настроение Жана-Филиппа, вызванное, несомненно, также и тем, что после ужина он сможет наконец уехать; учитывая еще и тот очевидый факт, что я не могу работать, находясь на море с Сесиль, вопрос этот показался мне нечестным. Я сказала: «Спасибо. Уже гораздо лучше. Знаешь, в последнее время она даже считала дни, но теперь уже скоро весна, все как-нибудь образуется. Аппетит медленно возвращается».
– Вот как? – спросил Жан-Филипп и очень внимательно на меня посмотрел.
Я тоже очень внимательно на него посмотрела.
Тут принесли черничное желе для Сесиль и кофе, а Жан-Филипп вдруг заторопился со счетом и отъездом. Я смотрела, как «рено» исчезает за поворотом, и думала: «Не бывает так, чтобы в отношениях между мужчиной и женщиной все удавалось».
Потом я снова ждала, но это было уже другое ожидание, не ожидание Жана-Филиппа, а неспокойное беспредметное ожидание, исполненное недоверия. У меня было чувство, что что-то витает в воздухе, но я не знала что. Я ненавижу подобного рода предчувствия, потому что очень впечатлительна и не выношу всякой мистики, к тому же по опыту знаю, что подобные предчувствия всегда сбываются, даже когда я их не понимаю и могу истолковать только как предупреждения из будущего, адресованные настоящему. Я ненавижу эти предчувствия, они пугают меня и все время сбываются. И теперь я не знала, к кому они относятся: к Жану-Филиппу или к Альберте. А может быть, ко мне.
Морской воздух явно пошел Сесиль на пользу, день ото дня ей становилось лучше – теперь приступы кашля бывали у нее только по ночам. Нередко я брала ее к себе в постель, чтобы успокоить. Она еще немного кашляла, а потом быстро засыпала, и когда лежала рядом со мной, наконец-то расслабившись, и густые черные ресницы полукругом обрамляли ее закрытые глаза, она была очень похожа на отца. Мы были женаты уже восемь лет, и с тех пор, как родилась Сесиль, я жила в Т. Я никогда против этого не возражала, хотя мы и не планировали так долго жить у родителей Жана-Филиппа. Сначала просто так получилось, а потом нам понравилось.