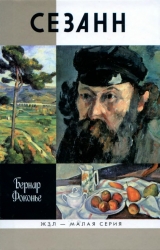
Текст книги "Сезанн"
Автор книги: Бернар Фоконье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
КУПАЛЬЩИЦЫ
Сезанн не стал задерживаться в Париже. Как только выставка закрылась, он сразу же уехал в Экс, уехал один, оставив Гортензию и Поля, которому было два с половиной года, справляться с трудностями без него. Мог ли он поступить иначе? Он уезжал, терзаемый угрызениями совести, недовольный собой. Он даже не попрощался с Писсарро, поскольку не хотел, видимо, выслушивать его советы и ласковые увещевания. Конечно, вечно это продолжаться не могло, и лучше всего было бы раз и навсегда разрубить узел, признавшись Луи Огюсту в том, что у него есть внук. Но Сезанн был не в силах решиться на этот шаг. По всей видимости, он ещё недостаточно повзрослел, чтобы перестать бояться отцовского гнева, чтобы пересилить свой стыд за то, что сам стал отцом, за то, что сделал женщине ребёнка, что вообще оказался замешанным в такие отношения с особой противоположного пола, в результате которых на свет появляются наследники. Причём внебрачные. Того и гляди пустят по ветру семейное состояние. Нет, он не мог в этом признаться. Он подозревал, что с годами Луи Огюст стал ещё более скупым. И не только более скупым, но и более нетерпимым, более злым. Поль никак не мог сладить со своим страхом перед отцом – страх был сильнее его. Итак, решено: вначале он поедет домой один, а там уж будет видно.
По приезде он понял, что не ошибся: Луи Огюст стал даже хуже, чем он себе представлял. Отойдя от дел и не имея больше возможности третировать служащих своего банка, Луи Огюст взялся за домашних. Слухи о проделках его сына на поприще живописи дошли и до Экса. Что позволяет себе Поль? Над ним же все смеются! Он стал позором семьи. Сезанн попытался сослаться на мнение доктора Гаше – этого либерала, человека, достойного всяческого уважения и приятного во всех отношениях, – он же понял и принял его живопись. Луи Огюст лишь пожал плечами: «Гаше? Так у него самого-то есть профессия, он хороший врач». Что до отцовского согласия на очередной отъезд Поля из Экса (Сезанну 35 лет!), то к этому вопросу, сказал Луи Огюст, они ещё вернутся.
Несмотря на все осложнения, Поль сразу после приезда домой берётся за кисти: свидетельство тому – его письмо Писсарро от 24 июня 1874 года, в котором он приносит извинения за свой скоропалительный отъезд. Из этого преисполненного добрых чувств письма мы узнаём, что новости о маленьком Поле Сезанн может получать только через возвратившегося из Парижа Валабрега, поскольку его драгоценный отец имеет привычку вскрывать и читать адресованную сыну корреспонденцию. В этом же письме он упоминает об огромном успехе, которого добился на последнем Салоне Гийеме, и сопровождает свои размышления на этот счёт весьма выразительной фразой, отражающей суть его собственной позиции: «Вот вам доказательство того, что человек, следующий по пути добродетели, вознаграждается людьми, но не живописью». И, наконец, он очень забавно описывает свою встречу с Оноре Жибером, сыном своего первого учителя рисования, который занял после отца место директора городского музея:
«В ответ на мои заверения, что осмотр моей продукции не даст ему полного представления о прогрессе зла, поскольку для этого нужно увидеть работы великих парижских преступников, он сказал мне: “Я прекрасно сумею оценить опасность, нависшую над живописью, взглянув на ваши посягательства на неё”. С этим он и пришёл ко мне. Когда же я сказал ему, что вы, к примеру, на первое место ставите не форму, а цвет, и попытался объяснить ему это наглядно, он закрыл глаза и отвернулся. Правда, напоследок он сказал, что ему всё ясно, так что мы расстались с ним вполне довольные друг другом» [153]153
Ibid.
[Закрыть].
Этим знойным летом в Эксе Сезанн писал пейзажи. Казалось, семейные дрязги мало трогают его. Его провансальские пейзажи стали странным образом походить на пейзажи Иль-де-Франса с тамошним пасмурным небом и вымоченным дождём солнцем… И вдруг на фоне этих неброских видов начали появляться силуэты обнажённых женщин, этакие невинные купальщицы с массивными формами, с крепкими ягодицами… Они теперь надолго станут его спутницами: появившись в его творчестве в короткий «импрессионистический» период, они и потом не оставят художника.
Странные купальщицы… Кто они, эти женщины, никогда не пересекающиеся с купальщиками-мужчинами, населяющими другую серию картин Сезанна, столь же удивительную и порождающую массу вопросов? Это какие-то ненастоящие женщины, они лишь в чём-то схожи с ними. Но в них нет ничего анекдотичного, скорее чувствуется некая первобытность и целомудренность первых дней после Сотворения мира. У них нет ни роскошных тел купальщиц Ренуара, ни изящества танцовщиц Дега. У них нет даже той чувственности, слегка грубоватой, но такой явственной, какой наделены таитянки Гогена. Эти фигуры, напоминающие пирамидальные конструкции, будто сливающиеся с природой, часто показанные со спины и практически лишённые половых признаков, так что не всегда можно понять, кто это – мужчины или женщины, кое-кого заставляли заподозрить у Сезанна «латентную гомосексуальность». В любом случае все его купальщицы, включая последних, с полотен гигантского размера, вызывают смущение. Это вам не «красотки». Они написаны не для того, чтобы возбуждать у нас любовь к жизни, страсть и преклонение перед женственностью, а для того, чтобы заполнить собой пространство. Они существуют вне времени, представляя собой некую форму. Их лица не выписаны, а намечены лишь эскизно. Их первобытные фигуры наводят на мысль о доисторических временах, скорее, даже о домифологических, поскольку мифы являются неисчерпаемым источником информации для нас, а эти женщины – нет, они нам ни о чём не рассказывают, они просто существуют. Они обнажённые, но не раздетые, ибо не знают ещё одежды. А это отнюдь не одно и то же. Эти купальщицы наряду с горой Сент-Виктуар станут основным объектом внимания художника Сезанна в последние 20 лет его жизни. 20 лет борьбы с традициями, с влиянием Пуссена и Эль Греко [154]154
Эль Греко (настоящее имя Доменико Теотокопули) (1541–1614) – великий испанский художник греческого происхождения.
[Закрыть], 20 лет поисков того единственного пути к строго выверенной архитектуре живописного полотна, величественной, почти абстрактной, о которой явно помнил Пикассо, работая над своими «Авиньонскими девушками».
НА СТЫКЕ С ИМПРЕССИОНИЗМОМ
Сезанн вернулся в Париж в сентябре 1874 года. На сей раз он сумел проигнорировать издевательские шуточки Луи Огюста, пытавшегося задержать сына в Эксе. В столицу его звало чувство долга. Там его ждали Гортензия и Поль-младший, устроивший ему радостную встречу. Художник чувствовал себя на удивление уверенно. И эта уверенность в том, что он выбрал для себя верный путь, давала ему силы бороться, не сомневаясь в победе. Он теперь твёрдо знал, что нет ничего более пошлого, чем успех любой ценой, а самый быстрый способ продать душу – пойти на поводу у посредственности. В письме Поля матери от 26 сентября мы находим подтверждение этим его воинственным умонастроениям:
«У меня появилось убеждение, что я сильнее всех тех, кто меня окружает, а ведь вы хорошо знаете, что хвалю я себя только тогда, когда у меня есть на то веские основания. Я чувствую постоянную потребность работать, но отнюдь не для того, чтобы обязательно доводить до конца всё начатое, ведь это вызывает восхищение лишь у дураков. Умение придавать завершённость любому своему произведению, которое обычно так ценится, на самом деле характеризует автора как добротного ремесленника, чьё творчество лишено художественности и самобытности. Я стремлюсь наполнить свои работы как можно большим числом деталей только ради удовольствия сделать их правдивее и совершеннее» [155]155
Ibid.
[Закрыть].
Правдивость и совершенство. Эти два слова как нельзя лучше отражают суть исканий Сезанна. Далеко не каждое художественное произведение, пусть и грамотно выполненное, отмечено этими качествами. Ведь главное заключается в том, чтобы создать новый мир, добиться правдивости изображения не путём достижения схожести с оригиналом, копирования его, а путём создания новой формы. Импрессионизм стал новым этапом в живописи, её обновлением, глотком свежего воздуха. Но этого было недостаточно. Мало просто изображать красоту природы, свет, воздух, мало просто фиксировать свои ощущения и следовать за ними. Каждый художник является носителем особого мироощущения, он по-своему видит архитектуру окружающего мира. Плюс ко всему он не должен забывать об огромном наследии старых мастеров и использовать в собственном творчестве то, что привнесли в своё время в живопись все эти Рембрандты, Тинторетто и Шардены. Теперь Сезанн почувствовал себя в силах вести диалог – с кистью в руке – со своими самыми маститыми товарищами по цеху.
Между тем все или почти все его друзья-художники бедствовали. Их надежды на успех выставки импрессионистов оправдались далеко не в полной мере. Иллюзии рассеялись как дым, а счета остались, и по ним надо было платить. В декабре 1874 года Ренуар собрал участников выставки, чтобы поделить на всех бремя расходов. Каждый должен был внести в общую кассу по 184,5 франка. Месячное пособие, которое Сезанн получал от Луи Огюста, до этой суммы недотягивало; но его положение было далеко не самым худшим, ведь у многих и этого не было. И всё равно он чувствовал себя на грани катастрофы. С женой и сыном на руках… Ему вновь придётся просить денег у старого скряги, который конечно же поднимет крик: «Мой сын не только неудачник, которого все считают недоумком, он ещё и деньги из меня тянет!» И т. д. и т. п. Опасения Поля были вполне обоснованными.
Пытаясь набрать денег, чтобы покрыть расходы на выставку, Моне, Ренуар и Сислей организуют в марте следующего года распродажу своих картин на аукционе в «Отеле Дрюо» [156]156
«Отель Дрюо» – здание, выбранное парижскими префектами для проведения государственных аукционов; получило своё название по имени жившего в нём наполеоновского генерала Антуана Дрюо. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Сезанн от участия в ней воздержался. Он правильно оценил обстановку. Аукцион вызвал новую волну возмущения. Каждую из выставленных на продажу картин публика встречала улюлюканьем. Напряжение в зале нарастало. Покупатели громко негодовали, чувствовали себя оскорблёнными: «Мораль поругана! Общество в опасности!» Для наведения порядка пришлось вызвать полицию. Картины уходили по смехотворным ценам. Окажись в тот день, 24 марта 1875 года, в зале практичный человек, наделённый интуицией, он смог бы обеспечить безбедное существование своим потомкам до двенадцатого колена. Но интуиция в нашем мире качество довольно редкое. Подтверждение тому – мнение критика из «Фигаро» Альбера Вольфа, написавшего в своей статье, что «впечатление от импрессионистов такое же, как от разгуливающей по клавишам рояля кошки или завладевшей коробкой красок обезьяны».
Среди редких доброжелателей несчастных художников, над которыми словно навис злой рок, был хрупкий, утончённый юноша по имени Гюстав Кайботт [157]157
Гюстав Кайботт (1848–1894) – французский коллекционер и живописец, работавший в реалистической манере; полученное от отца состояние использовал на поддержку друзей-художников и разнообразные хобби: коллекционирование марок, разведение редких цветов, строительство яхт, дизайн текстиля. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Наследник солидного состояния, он был избавлен от необходимости зарабатывать на жизнь и мог свободно предаваться своим увлечениям, среди которых значилась и живопись. Наличие свободных денег позволяло ему покупать картины своих друзей-художников, что на деле оказалось отличным вложением капитала. В первую очередь он обращал внимание на всё, что отвергалось официальным искусством. В прошлом году он прошёл по конкурсу в Школу изящных искусств, но надолго там не задержался. На этом аукционе будущий создатель «Строгальщиков паркета» всячески старался поднять цены на выставленные на продажу картины, однако его усилия успехом не увенчались.
Но он там был не одинок. У всеми гонимых художников появился ещё один друг и защитник. Высокий, худой, с измождённым лицом – вылитый Эль Греко. Звали его Виктор Шоке. Он служил чиновником на таможне и был большим поклонником живописи, в частности творчества Делакруа. Он не был меценатом. Его скромное жалованье позволяло ему время от времени покупать картины, но при этом ему приходилось экономить на самом необходимом. Он был искренним и страстным любителем живописи, почти нищим эстетом – правда, жена его в перспективе могла стать богатой наследницей, – готовым месяц жить впроголодь, чтобы приобрести очередную работу обожаемого им Делакруа: он собрал около двух десятков его полотен, а также покупал работы Курбе и Мане. Коллекционировал он и антикварную мебель. Его квартира была похожа на музей, этакий филиал Лувра. Открыв для себя живопись Сезанна, Шоке пришёл в полный восторг. Картины Поля он увидел благодаря Ренуару, который привёл его в лавку папаши Танги. В ту эпоху, когда искусство стало подменять собой религию, Шоке стал одним из его адептов, одним из happy few [158]158
Немногие счастливцы, избранные (англ.).
[Закрыть]. Двумя тысячелетиями ранее он пошёл бы за святым Павлом по Дамасской дороге [159]159
Павел (Савл) – римский гражданин, средиземноморский еврей, в юности участвовавший в преследовании христиан. Согласно «Деяниям святых апостолов», на пути в Дамаск он неожиданно услышал голос Христа: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» – и на три дня ослеп, был исцелен в Дамаске христианином Ананием и крестился, после чего начал проповедовать новую религию и был обезглавлен в Риме в 64 (?) году. Павла называют «апостолом язычников», поскольку он не был учеником Христа и не входит в число Двенадцати апостолов. Вместе с Петром Павел является наиболее почитаемым христианами апостолом за особо ревностное служение Господу и распространение христианской веры.
[Закрыть]. Ныне его святыми, его божествами стали Ренуар, Делакруа и, чуть позже, Сезанн. У Танги он купил сезанновских «Купальщиц». Опасаясь реакции жены на своё приобретение, Шоке сказал ей, что это собственность Ренуара; тот якобы забыл картину, когда заходил к ним по дороге из лавки Танги домой. Шоке рассчитывал, что жена постепенно привыкнет к необычной манере Сезанна и не будет возражать против присутствия в их доме этой картины. Спустя некоторое время Шоке пригласил к себе Сезанна. Художник, узнав, что у того собрана большая коллекция полотен Делакруа, немедленно отправился к нему и прямо с порога, без обиняков и дежурных любезностей, попросил у Шоке разрешения посмотреть её. Тот принялся показывать гостю свои сокровища. Их дружба зародилась на почве единодушного поклонения Делакруа. Они на пару разглядывали картины и рисунки своего кумира, восхищались ими, восторженно обменивались впечатлениями и даже пустили слезу. Они теперь будут часто видеться, спаянные общей страстью. Вскоре Сезанн начнёт писать портреты Виктора Шоке, их будет множество. Эти картины займут достойное место среди лучших творений Сезанна.
* * *
А что поделывал в это время Золя? Он по-прежнему работал на свой успех, но тот что-то задерживался. В 1874 году Эмиль выпустил в свет роман «Завоевание Плассана». В коммерческом плане это было отнюдь не завоевание, а разгром при Ватерлоо [160]160
Битва при Ватерлоо – последнее сражение императора Наполеона 118 июня 1815 года, завершившееся разгромом его армии силами антифранцузской коалиции.
[Закрыть]: разошлось лишь несколько сот экземпляров книги, да и пресса обошла её полным молчанием. Вокруг только и делали, что говорили о Дюранти да Шанфлёри [161]161
Шанфлёри (настоящее имя Жюль Франсуа Феликс Юссон) (1821–1889) – французский писатель, считал основной задачей литературы изображение низших классов общества.
[Закрыть]– этих псевдореалистах, сереньких, посредственных писателях. Золя мужественно продолжал работу над своим великим творением, писал уже пятый том «Ругон-Маккаров». Он назовёт его «Проступок аббата Муре». Этот роман, действие которого разворачивается в Провансе близ Галисского замка, в напоённой благоуханными ароматами юга усадьбе Параду, изобилует красочными описаниями природы и чувственных сцен, каждая страница его будто наэлектризована бьющим через край желанием любви. Чёрт побери, если с этим своим романом, пульсирующим как готовый прорваться нарыв, сентиментальным и дерзким одновременно, он не сумеет пробиться сквозь равнодушие и остракизм, на который его обрекают, то тогда он вообще отказывается что-либо понимать! В пылу творчества Золя вновь погружался в свой извечный романтизм, хотя и утверждал, что отныне главное для него – «объективный анализ». Его страстному желанию достучаться, наконец, до читателя и на сей раз не суждено сбыться.
То было смутное время. Буржуа не очень-то тратили свои денежки, не чувствуя уверенности в завтрашнем дне. Они ещё не избавились от того страха, который нагнала на них Парижская коммуна. Так что им было не до покупки картин художников и не до чтения всяких фантазий возомнивших о себе романистов.
Сезанна мало заботили подобные проблемы. Он продолжал писать свои картины. Он переехал на остров Сен-Луи и теперь работал в бывшей мастерской Добиньи на набережной д’Анжу. К этому периоду относятся несколько его автопортретов. Он не страдал нарциссизмом, поэтому рисовал себя вовсе не из самолюбования, да, кстати, никогда себе и не льстил. Он был для себя таким же объектом для опробования технических приёмов, как все остальные, например Гортензия, когда ему удавалось заставить её позировать для своих «этюдов», на которых она выглядит не слишком привлекательной: Сезанн никогда не будет изображать свою подругу как влюблённый мужчина, если не считать прекрасно исполненного и трогательного рисунка акварелью, сделанного им в 1881 году. Невыразительное, строгое лицо – кисть художника сообщает ему осязаемую реалистичность. Сезанн ищет способы совместить в своих полотнах игру света с незыблемостью материи. Портреты той поры свидетельствуют о том, что изыскания Сезанна идут в самых разных направлениях. По его автопортретам можно проследить динамику его поисков. На том, что висит в Музее Орсе, художник предстаёт перед нами этаким косматым дикарём, лешим из средневековых сказок: резкие черты лица, толстый слой краски, яркий контраст между тёмной одеждой и бледным лицом. Постепенно общий его облик смягчается, хотя лицо по-прежнему выписывается грубыми, толстыми мазками: в «Портрете художника на розовом фоне» всё ещё проступает это животное начало, всё ещё чувствуется сильное, тревожное напряжение.
Великолепная голова мужчины с высоким лбом и опрятной бородкой, закрывающей нижнюю часть лица, в чём-то созвучна работам великих портретистов прошлого, но при этом сохраняет характерное для Сезанна ощущение массивности и пугающей мощи.
Совсем другого плана портрет Виктора Шоке, написанный мелкими, раздельными мазками, а также серия портретов Гортензии, в которых равновесие между светом и формой достигается путём противопоставления лёгкости декора и каменной рублености лица.
Он больше почти ни с кем не встречается. Целый день сидит взаперти в своей мастерской, а когда изредка выходит оттуда, то направляется на улицу Козель в лавку папаши Танги, чтобы пополнить запас красок и холстов и оставить у торговца кое-какие из своих новых работ. Что же до встреч с друзьями в кафе, то от них он практически отказался. Пустая болтовня художников, их резкие суждения, подогретые выпивкой, потеряли для него всякий интерес. Между тем завсегдатаи кафе «Гербуа» сменили место своих встреч: следуя веяниям моды, они перебрались на площадь Пигаль в «Новые Афины». Это кафе находилось довольно далеко от набережной д’Анжу, где жил Сезанн, да и чувствовал он себя не слишком уютно среди всех этих говорунов, которым, кстати, его компания тоже не доставляла особого удовольствия. Они любили порассуждать о политике, а на него политика всегда навевала скуку. И потом, всем хорошо было известно его пренебрежение правилами приличия. Однажды, будучи приглашённым на обед к Нине де Виллар, молодой пианистке, водившей дружбу с художниками, Сезанн пришёл к ней с самого утра, ни свет ни заря, и когда на его звонок вышла полуодетая горничная, ему пришлось с позором ретироваться. Позже он всё равно вернулся в дом этой гостеприимной, весёлой, гораздой на разные выдумки хозяйки, где все ведут себя без всяких церемоний. Он встречался там с Алексисом и доктором Гаше. Там же он познакомился с весьма забавным типом, известным своими разносторонними увлечениями – он-де и философ, и музыкант, – но ни в одной из областей не проявившим великого таланта. Этот человек прославился не своими творениями, а своими меткими остротами. Звали его Кабанер. Ему была неведома зависть и желчность, и он стал одним из самых верных друзей Сезанна, на чью поддержку художник всегда мог рассчитывать.
Не созданный для светской жизни, Поль и в собственной семье, среди своих домашних не чувствовал себя комфортно. Он обожал маленького Поля, разрешал ему играть со своими картинами и умилялся, наблюдая за тем, как малыш портит их, «открывая» окна в нарисованных на холсте домах и выкалывая глаза людям на портретах. Поль-старший не слишком дорожил своими творениями, которыми по большей части не был доволен… Что до его отношений с Гортензией… Он терпел её, уважал, но должен был признать очевидное: он не любит её так, как можно было бы любить. Он не испытывал к ней – и теперь менее, чем когда-либо, – тех волшебных чувств, о которых читал в нежной юности у своих любимых поэтов. Он не был создан для такой жизни.
А для какой? Настоящая жизнь словно обходила его стороной.
В свои редкие выходы в свет он никогда не брал с собой Гортензию. Разве он мог представить её людям как госпожу Сезанн? И она оставалась дома. Мы совсем ничего не знаем о жизни Гортензии, о том, как ей удавалось вести хозяйство, сводя концы с концами, и воспитывать сына. Она долго была просто Гортензией, но в один прекрасный момент стала-таки госпожой Сезанн. Ждать ей этого ещё десять лет. Что она знала о мужчине, с которым прожила более трёх десятилетий? Правда, жизнь их перемежалась частыми периодами разлук, которые с годами становились всё длиннее. Хорошая жена не мешает мужу жить так, как ему хочется, не держит его на «коротком поводке».
В апреле 1876 года, как раз в тот момент, когда открывалась вторая выставка импрессионистов, Сезанн уехал в Экс. На Салон он отправил одну картину: она, естественно, была отвергнута, как все до неё. В Провансе он получал новости о выставке импрессионистов, от участия в которой воздержался. Пресса вновь яростно ополчилась против несчастных художников. Всё тот же Вольф неистовствовал на страницах «Фигаро»: «Бедная улица Лепелетье! После пожара в Опере этот квартал постигло новое несчастье… Пять или шесть умалишённых, среди коих оказалась одна особа женского пола, – группа бедолаг, страдающих манией величия, облюбовала это место для выставки своих картин. Кое у кого эти творения вызывают смех. У меня же сердце сжимается, когда я вижу такое. Жуткое зрелище человеческого тщеславия, граничащего с безумием». Нам хорошо известно, с каким успехом в XX веке будет использоваться обвинение в безумии в странах с тоталитарным режимом… Даже Дюранти, глашатай реализма в литературе, решил поупражняться в остроумии: «Сезанн, видимо, потому кладёт столько зелёной краски на свой холст, что думает, будто килограмм зелёного зеленее, чем грамм». На что мог бы рассчитывать Сезанн в этой гнетущей атмосфере ненависти и неприятия? Как правильно он сделал, что отказался от участия в выставке, обернувшейся лишь очередными тычками. К чему биться головой о стену? Единственный выход – продолжать работу, и пусть на это уйдёт столько времени, сколько потребуется. Что такое несколько лишних лет, когда ты ощущаешь себя самым сильным, когда у тебя нет сомнений в том, что ты своего добьёшься?..
Погода в Эксе стояла отвратительная. Всё в том же апреле Сезанн с иронией писал Писсарро: «Последние две недели здесь беспрестанно идут дожди. Боюсь, что это никогда не кончится. Из-за заморозков погиб урожай фруктов и винограда. А живопись жива – вот оно, преимущество искусства».
Июль он провёл в Эстаке. Писал морские пейзажи по заказу Виктора Шоке. И вновь, обращаясь к Писсарро: «Я начал писать два небольших морских пейзажа. […] Тут всё как на игральной карте. Красные крыши на фоне синего моря». Далее следует наблюдение, очень точно передающее суть окружающего его пейзажа: «Солнце тут такое ужасающее, что мне начинает казаться, будто от предметов остаются одни силуэты, причём не только белые или чёрные, но и синие, красные, коричневые и фиолетовые. Я могу ошибаться, но они представляются мне антиподами объёмности» [162]162
Ibid.
[Закрыть]. Прованс с его не меняющейся природой, застывшим пейзажем, на котором практически не сказывается смена времён года, с «вечнозелёными оливковыми деревьями и соснами» был тем краем, что в точности соответствовал требованиям художника, давал ему время на то, чтобы перенести на холст выбранный им вид, чего не позволял ему Иль-де-Франс со своей переменчивой погодой. Сезанну было необходимо это постоянство, позволявшее ему подолгу работать над этюдами, «на которые порой уходило по три-че-тыре месяца». Время – великий скульптор. Что до обитателей Эстака, то они Сезанна не жаловали: «Если бы взгляды местных жителей обладали убийственной силой, меня бы давно уже не было в живых. Не пришёлся я им ко двору» [163]163
Ibid.
[Закрыть].
А кому-нибудь пришёлся? Даже собственный отец его не понимал и упорно отказывался увеличить месячное содержание: «Зачем ему столько денег?» Похоже, у старика возникли какие-то подозрения на его счёт. Уезжая в августе из Экса, Сезанн получил от него обычную сумму и ни сантимом больше. Париж он нашёл в ажиотаже.
Все только и говорили, что об этой его книге: о Жервезе, Купо, Лантье, о гнетущей атмосфере питейных заведений, нищей жизни простого народа, жалкой судьбе этих несчастных жертв жестокого мира. Главным же было то, что автор без обиняков писал о грубых нравах низов общества, о его жизни в условиях ужасающей скученности, о той реальности, рассказывать о которой считалось дурным тоном, а если и рассказывалось, то со стыдливыми недоговорками. Скандал! В газету посыпались возмущённые письма, читатели стали отказываться от подписки, тираж «Лё бьен пюблик» начал так катастрофически падать, что редакция была вынуждена прекратить публикацию романа. Эстафету подхватил Катюль Мендес, который стал печатать продолжение «Западни» в своей газете «Репюблик де летр». На сей раз цензура оказалась бессильной. Но самому Золя пришлось несладко: его осыпали оскорблениями и рисовали на него карикатуры, выставляя в самом гротескном виде. И всё же это была победа.
Сезанн искренне радовался за друга. Он всегда радовался успехам тех, кого любил. К сожалению, его коллеги-художники не могли похвастаться такими же достижениями, какие были у Золя. Критика их по-прежнему не жаловала. Кайботт, не жалея ни времени, ни средств, занимался организацией их очередной выставки. Хотя ему было всего 28 лет, он даже составил завещание, в котором оговорил, что в случае его внезапной кончины часть наследства пойдёт на оплату расходов по выставке импрессионистов 1877 года. Кайботт был уверен, что уйдёт из жизни молодым. В общем, подготовка к предстоящей выставке шла полным ходом, и на сей раз Сезанн намеревался принять в ней участие. Он занял на ней чуть ли не самое почётное место, выставив аж 16 своих работ: натюрморты, пейзажи, этюд с купальщиками, а главное – портрет Виктора Шоке.
Выставка открылась 4 апреля благодаря усилиям всё того же неутомимого Кайботга. Придумывая ей название, участники вспомнили об отпущенной в своё время в их адрес шуточке журналиста Леруа, так что экспозиция, которую они устроили в просторной квартире на улице Лепелетье, стала именоваться третьей выставкой импрессионистов. На ней бок о бок висели настоящие сокровища: «Белые индюшки» и «Виды вокзала Сен-Лазар» Моне, «Качели» Ренуара, а также его знаменитый «Бал в Мулен де ла Галетт». Картины Сезанна расположились в большом зале рядом с работами Берты Моризо. Там же находились полотна Сислея, Писсарро, Кайботга… Дега занял всю галерею. В общей сложности посетители выставки, а их было немало, увидели 240 полотен. Но реакция критиков и на сей раз была беспощадной. Толпа, для которой в радость устроить какой-нибудь скандал, быстро подхватывала всю ту грязь, что лилась на художников. Некий Барбуйотт (естественно, это был псевдоним) поместил в «Ле Спортсмен» такие ставшие крылатыми строчки: «Невозможно больше десяти минут оставаться перед некоторыми, вызвавшими сенсацию полотнами этой выставки, поскольку сразу же вспоминаешь о морской болезни… Уж не это ли заставило кое-кого из любителей живописи признать: “Трудно отрицать, что здесь есть вещи, на которые организм реагирует совершенно однозначно”?»
Сезанн был расстроен и раздосадован. Представленный им на выставку портрет Виктора Шоке, получивший второе название «Мужская голова», тоже стал объектом всевозможных нападок. Между тем персонаж на портрете был преисполнен обаяния и выглядел очень реалистично: бесконечное множество мелких мазков придавало его лицу некую основательность и вместе с тем необычайную подвижность. Все прекрасно чувствовали, что в этом портрете есть какая-то «странность», которую невозможно выразить словами. В результате кто-то назвал его «Биллуаром в шоколаде», по имени известного убийцы [164]164
Биллуар, убивший на Монмартре женщину и расчленивший её труп, был гильотинирован.
[Закрыть]. Что убийца, что псих – всё едино, а тут один псих нарисован другим. Неиссякаемый Леруа вновь взялся за свои остроты. «Если вы пойдёте на выставку вместе с женой, которая на сносях, – писал он в «Шаривари», – проходите, не останавливаясь, мимо “Мужского портрета” г-на Сезанна. Эта голова цвета нечищеных сапог выглядит столь странно, что может оказать на женщину слишком сильное впечатление, а у ещё не появившегося на свет младенца вызвать жёлтую лихорадку прямо в утробе матери».
Тут было из-за чего копья ломать. Современная фотография, к примеру, вполне может принять эстафету у живописи, если нужно просто зафиксировать то или иное явление; но она не может подменить собой живопись, способную создавать подобные портреты, на которых жизнь бьёт через край во всех своих красках и формах. Живопись не просто копирует действительность – она пропускает её через себя. Художник, создавая свои полотна, выступает в роли творца мироздания. И вы хотите, чтобы тут обошлось без скандала?
У Сезанна меж тем появился новый защитник в лице Жоржа Ривьера. В газете «Импрессионист», представлявшей собой крошечный информационный листок, продававшийся на парижских бульварах во время работы выставки, Ривьер напечатал статью, из которой ясно, что он правильно понял и оценил героический путь, проделанный Сезанном:
«Все эти смешки и вопли – следствие злонамеренности, которую даже не пытаются скрывать. К полотнам г-на Сезанна подходят, чтобы просто повеселиться. Я же должен признаться, что не знаю живописи, менее располагающей к веселью, чем эта… Г-н Сезанн художник, и большой художник. Люди, никогда не державшие в руке ни кисти, ни карандаша, упрекают его в том, что он не умеет рисовать, и считают его недостатками то, что как раз и является высшим проявлением мастерства, которое приходит вместе с накопленными знаниями… Его натюрморты столь прекрасны, столь точны в сочетании тонов, что в этой своей правдивости содержат даже элемент торжественности. Глядя на картины этого художника, мы чувствуем трепет именно потому, что их автор сам испытывает искреннее волнение перед натурой, которую мастерски переносит на холст».
* * *
В мае того года в Эстак приехал Золя и пробыл там до октября. Его «Западня» выдержала уже 35 изданий и принесла ему 18 500 франков авторского гонорара – настоящее золотое дно. Эмиль уже вовсю работал над следующим томом «Ругон-Маккаров» под названием «Страница любви» и наслаждался отдыхом на берегу Средиземного моря. Он вернулся в край своей юности богатым, прославившим своё имя писателем и испытывал от этого особое удовольствие. Давно прошли те времена, когда на обед у него был лишь кусок хлеба, который он макал в оливковое масло. Теперь он ел, как сам признавался, «в своё удовольствие», объедаясь «всякой вкуснятиной», буйабесом [165]165
Буйабес – провансальское блюдо из нескольких видов морской рыбы, заправленное белым вином и пряностями.
[Закрыть]и моллюсками, под стать разбогатевшему бедняку, который может, наконец, потешить свой желудок.








