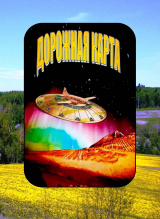
Текст книги "Дорожная карта. Том 1. От Москвы и до окраин"
Автор книги: Б. Борисов
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Глава 9
Дед Михаила Михайловича, Федор Силантьевич слыл на всю Сибирь мастером «золотые руки» и отец, Михаил Фёдорович, унаследовал талант камнереза. Михаил Михайлович с детства увлёкся изучением родного края, исходил все леса и перелески, излазил все горы, изучил пещеры близлежащих гор. Он любил собирать камни, сам делал срезы, полировал их до зеркального блеска и подолгу рассматривал их неповторимые рисунки. Но пойти по стопам своих предков он не хотел принципиально: он не хотел, чтобы его изделия стали украшать безмозглых богем с черными душами. Он тоже был художником, у него было богатое воображение, и иногда представлял, как неписанная красавица, с наколотыми губами и силиконовым бюстом, больше чем вымя у рекордсменки костромской породы, вытаскивает на Божий свет свое уродливое тело на тонких кривых ногах из белоснежного лимузина с туалетом и ванной, а на горизонтальной полке её грудей лежит кулон, над которым он потел не один месяц. Мужики, ценители отдельных частей женского тела, профессионально рассматривают её достоинства и с презрением смахивают в сторону его кулон, мешающий им произвести тщательный обзор другого произведения искусств, созданных руками космохирургов. От этих мыслей его передергивало как от удара молнии и бросало в жар. «Нет-нет, никогда. Но если предложат украсить камнями боевой кинжал, или кубок для награждения режиссера фильма о наших детях у которых украли уверенность в завтрашнем дне, отобрали под платные автостоянки спортивные площадки, разрушили под высокие кубики домов кружки «умелые руки», почти бесплатный летний отдых на черноморском побережье сделали практически недосягаемым для простых людей: «Это я сделаю с большим удовольствием», – уговаривал он сам себя.
Михаил Михайлович поступил в Ленинградский государственный университет на геологический факультет, потом, при особых обстоятельствах, на последнем курсе перешёл на вечернее отделение, заменил свой гениальный дипломный проект на какую-то фигнюшку, и на следующий день после защиты был призван, как бы, в ряды Советской Армии. Даже его близкие друзья не знали, что это спектакль. И когда они довели до военкомата, даже не догадывались, что у другого выхода из военкомата стоял уазик с его чемоданом, и что у него в кармане лежал билет на самолёт до Москвы и диплом об окончании спецшколы КГБ с направлением в академию КГБ.
«Когда меня на последнем курсе пригласили в комитет комсомола института, я думал, опять, в пятый раз, пошлют в колхоз командиром отряда. Но ведь последний год, надо как следует готовиться к защите диплома – такую тему мне предложили, больше на диссертацию тянет!» – вспоминал Михаил Михайлович.
Рядом с секретарём комсомола сидел, пожилой мужчина в черном костюме, белой рубашке и строгом галстуке: «Нет, – подумалось Михаилу Михайловичу, – на председателя колхоза не похож».
Разговор без свидетелей длился долго. Многое про Михаила мужчина в галстуке знал даже больше, чем он сам. Он даже не уговаривал – то, о чем говорил, преподносилось как догма, как уже неотъемлемая часть его жизни и уже к концу разговора Михаил чувствовал, что себе уже не принадлежит. Он уже «винтик» какой-то большой и сложной машины, очень нужной даже не только ему, а стране и этот винтик не может уже существовать вне этого механизма. Михаил перешёл на вечернее отделение днём учился в школе КГБ закончил институт защитил диплом, похожий на курсовую работу. Но даже будучи слушателем академии, ни на секунду не забывал про свою первоначальную тему дипломной работы.
Первый год отсидел в «конторе», вживался, хватался за любое задание. Но когда появлялось в работе окошко, мчался в политехническую библиотеку, которая, к счастью, находилась неподалёку от работы. Начальству это было по нраву и при очередной ротации кадров, Михаила Михайловича направили в воинскую часть начальником особого отдела, прибавив одну звёздочку на погонах.
Все изделия, выпускаемые военно-промышленным комплексом оборонного и гражданского назначения подлежали испытаниям, имитирующим воздействие ударной волны при ядерном взрыве.
Подобных полигонов в Советском Союзе было несколько, один из которых – на Новой Земле.
Само испытание длилось доли секунды: перед воздуховодом, толстостенной бетонной трубой, в которую мог въехать огромный двадцати тонный Белаз, закрепляли мощными тросами испытуемые изделия, потом пиротехники в специальной камере производили взрыв, образовалась мощная воздушная волна, давление которой была адекватна давлению атомного взрыва на определённом расстоянии.
На выходе из бетонного туннеля эта воздушная волна, сжатая до нескольких сотен атмосфер, всей своей мощью обрушивалась на закрепленные изделия. Что-то выдерживало, а что-то нет. Значит, рассчитывать на применение этого изделия после атомного взрыва нельзя, требовалось его заменять, либо эти изделия держать в соответствующих сооружениях, которые могут выдержать ударную волну ядерного взрыва. Оружие, снаряды, ракеты и другие виды вооружения рассчитывались на прочность, исходя из требований военных заказчиков. А на войне нужно всё: и танки, и самолёты, источники тепловой, и электрической энергии, и автомобили, полевые котлы для каши, и швейные машинки, чтобы шить одежду и палатки для военных и т. д. После испытаний начиналось тщательное исследование этих изделий, их узлов и деталей – автомобили должны были безотказно работать, станки крутиться, швейные машины шить.
На территории испытательного полигона, где трудился Михаил Буров, был даже и свой аэродром – правда это громко сказано – просто грунтовая полоса с перфорированными стальными полосами.
В такой части и работал начальником особого отдела друг Захарыча, майор госбезопасности Буров Михаил Михайлович. Как он говорил, работа у него была и пыльная, и громкая. Без защитных устройств можно было запросто оглохнуть. Городок, где находились казармы для солдат-срочников и дома для офицерского состава и их семей, находился за десять километров от «адской» трубы, но уханье всё равно было слышно. Со временем, ко всему привыкают. У Михаила Михайловича обязанностей, кроме как ловить шпионов, было «по горло». Некоторые офицеры, дабы не сидеть в блиндажах, брали рабочие материалы домой и лёжа на диване, гоняли цифры туда-сюда, и порой на радостях, что получили непредсказуемый результат, бежали в кафешку, отметить успех, и потом мучительно долго вспоминали, кому они еще хвастались, кроме соседа по квартире, или по застолью, и куда делась эта маленькая салфетка с неаккуратно нацарапанными цифрами.
Или грибники, пролезали под тройную колючую проволоку в надежде, что беленьки грибочки как раз тут и растут, ещё и посмотреть хотелось, а что это там ухает. Или охотнички, увидев однорогого и ошалевшего лося, имевшего неосторожность пробежать накануне недалеко от этой большой «норы», из которой «дунул» ветерок, отвалил один рог и заложил напрочь уши, будут за ним бегать, не обращая внимания ни на предупреждающие и запрещающие транспаранты и всякие ограждения.
А какая головная боль от этого взвода егерей, которые должны проверить участок леса в десятки квадратных километров и, если есть какая-то живность – выгнать её, вывести из опасной зоны. После «хлопка» – опять прочесать ту же местность и если был контужен зверь облегчит его участь либо доставить в часть к ветеринару, который определит его судьбу – в лес, в суп, или в костер. Порой в сельских магазинчиках, в придорожных деревушках, продавалось мясо кабана, лося, тетеревов, глухарей, диких уток – и это не в сезон охоты. В результате – разборка с прокуратурой. А порой, наоборот, «высокие гости», в сопровождении руководства с большими звездами на погонах – приезжали с проверками: «Ну, как вы тут, хотим посмотреть ваши огромные территории. Не жирновато ли вы здесь живете? Сопровождать нас не надо, не беспокойтесь, мы сами походим, посмотрим, прикинем…». А в машине – бельгийские двустволки.
– Но самое неприятное, когда считают тебя идиотом, – с обидой и возмущением Михаил Михайлович рассказал Захарычу о недавнем происшествии. – Приносят ко мне пропуск на вывоз, подписан всеми должностными лицами, которых хорошо знаешь, в одном доме с ними живешь, одним воздухом дышишь. В накладной написано: два туннельных диода, один триммер, два высоковольтных генератора. Вышел посмотреть, в чём же везут то, что в кармане можно уместить. Нет, не в портфеле, не в дорожной сумке не колёсиках – на двадцати тонном трёхосном «КАМАЗе» вывозят. Бывает, не успели вовремя провести испытания или закончить анализ, и чтобы избежать скандала с промышленностью, изделия возвращает воинская часть на завод-изготовитель своими силами. Ну, я ведь кончал горный, там и электроника, и станки, и инструменты изучали, транзистор отличу от «сапога валеного». Спрашиваю у сопровождающего: «Как вы только смогли разместить столько груза и в таком маленьком кузове?
– Да, трудновато было, но справились, – виновато улыбается.
– Рессоры у грузовика выдержат? – спрашиваю на полном серьёзе.
– Да выдержат, и не по стольку грузили, бывало и по десять триммеров запихивали!
Звоню караульному: – «Машину за шлагбаум не выпускать и из машины тоже никого» Звоню в особый отдел дежурному: – «На КПП задержан «КАМАЗ», машину в наш бокс, сопровождающего на гауптвахту».
Только вошел к себе в кабинет – звонок, командир части усталым голосом: «Михаил Михайлович, ну что ты такой принципиальный, к запятым придираешься?»
– Юрий Семёнович, извините, что прерываю ваши умные речи, хочу дать бесплатный совет: того, кто сейчас сидит рядом с вами, и вешает вам вонючую «лапшу» – увольте немедленно с мотивом за халатность, до появления здесь военной прокуратуры, а за хищение в особо крупных размерах, думаю, и вам срикошетит. В машине были не тиристоры и транзисторы, которые могут пойти для мигалок на новогоднюю ёлку, а металлообрабатывающие станки, сварочное и строительное оборудование, на миллионы…
Но за всей этой бесконечной бытовухой с его малочисленным особым отделом очень сложно было решать главную задачу.
По численному составу воинская часть была небольшой, со всеми службами человек двести пятьдесят: взвод охраны, взвод егерей, интендантская служба, включая «черпаков», так в армии величают поваров и персонал столовой, КЭЧ – коммунальщики и эксплуатационники, и ещё мелкие подразделения – ремонтные мастерские, гараж, склады и т. д. Все эти службы, вращаются как электроны вокруг ядра по своим орбитам, иногда забывая об этом ядре, а интендантская служба, так и вовсе считала, что если бы это ядро вычленить из части, так была бы не жизнь, а малина: «Замучили совсем – им достань то, достань это, бездельники. Сидели б в своих норках и не шуршали».
А ядрышко то было «не простое…». НИЦ, научно-исследовательский центр, со статусом управления, состояло из четырёх отделов: отдел натурных испытаний, дефектологический, аналитический, аэродинамический.
ОНИ (отдел натурных испытаний) – всего дюжина трудяг. У них самая что ни есть заметная и громкая работа: начиная с разгрузки изделий, доставляемых с предприятий транспортировка на промежуточные складах, разработка чертежей размещения и крепления изделий на стапелях, само крепление, расчет объёма зарядов, подготовка ФРА (фоторегистрирующей аппаратуры), попросту фотопулемётами, скорость съёмки у них сотни кадров в секунду, установка телеметрической аппаратуры, наконец, кульминация – сам взрыв и тишина… Начальник отдела, озабоченный подполковник, три офицера с высшим техническим образованием, пять прапорщиков.
После «хлопка», приступает другая служба – начинают работать дефектологи – осматривают, ощупывают, обстукивают и т. д. Потом изделия снимают со стапелей, в лаборатории изделия проверяют на функционирование, потом производиться разборка до «винтика» и составляются дефектные ведомости. После – сборка и возврат на предприятие-изготовитель. Но, как правило, предприятия от них отказывались, детали от них применять нельзя, тогда была ещё военная приёмка Министерства обороны с неподкупной психикой. После завершения испытаний для утилизации изделий не хватало рабочих рук, поэтому предлагалось безвозмездно передавать в народное хозяйство пригодные узлы и детали.
Но и в то время бюрократов хватало. Бумаг по передаче «на законном основании» – целая куча, поэтому склады на полигоне были забиты под крышу.
Единственно, что шло «в лёт» – так это автотехника. Самым главным здесь был старший лейтенант Александр Александрович, или как его звали коллеги – Сансаныч, а друзья звали за глаза – Эсэс.
Александр был мастером «золотые» руки, настоящий «Левша – флегматичный, спокойный русский парень, которого удивить было нечем. Он немного напоминал механика в фильме «Берегись автомобиля», которого играл Невинный: «поглядим, понюхаем, послушаем».
Жил Александр на самом краю деревни, приютившейся рядом с военным городком, стена городка была западной частью его участка. В этом доме он прожил всю свою жизнь не считая трёх лет срочной службы и трёх – сверхсрочной, которые он провёл на одном испытательном аэродроме в Подмосковье.
Он был высококлассным авиамехаником, и когда часть авиации стала коммерческим бизнесом, на этом аэродроме организовалась частная авиафирма, и к нему часто стали приходить ходоки, которые просили им продать «бэушные» топливные шланги, редуктора, даже использованные прокладки, за что умеренно платили. Он предупреждал своих сослуживцев, авиамехаников, чтобы они не зарились на дармовщинку, ведь это не автомобиль, установят старьё – выйдет из строя, не смертельно. Это авиация, здесь нельзя халтурить, здесь жизнь людей. Кто-то соглашался, а кто-то наоборот – донесли на него крутым «пацанам» этого авиапредприятия и когда он в очередной раз поехал домой на своём стареньком «запорожце», остановили на трассе и здорово избили. После этого его жена настояла уволиться из авиации и устроится в НИЦ, что за забором, – «Тебя возьмут, у тебя же золотые руки». Михаил Михайлович переговорил с ним, с местными жителями, соседями – мнение у всех совпадает – да, замкнут, да, не разговорчивый, не жмот, но с любой просьбой можно обратиться – поможет и денег не возьмёт. Узнал о Сансаныче и у лётчика, который хорошо знал своего механика: – «Сансаныч ушел, для меня теперь каждый полёт – испытательный, каждый полёт может стать последним, нет уверенности, что при ремонте не поставят контрафакт».
В «комитете», Михаил Михайлович, доложил своему куратору о новом сотруднике НИЦ.
– Сколько годиков твоему протеже? – с прищуром спросил куратор, – в каких чинах, что кончал?
– После восьмого класса – техникум, окончил с отличаем, потом армия, попал в лётно-испытательный институт, стал механиком, после срочной службы предложили остаться на сверхсрочную. Так как он уже имел средне-техническое образование – присвоили лейтенанта. Сейчас учится на заочном в политехническом университете. Рассказал и про причину увольнения Александра Александровича с последней работы.
Куратор рекомендовал присмотреться к парню повнимательней. Взять под личный контроль и работу, и поведение: «А с частной авиакомпанией на испытательном аэродроме разберёмся».
Сансанычу поручили составлять дефектные ведомости изделий, тех, «что на колёсах», после воздействия ударной волны. Вскоре он на этом участке остался один – в этой воинской части перестали нуждаться – военно-промышленный комплекс стал распадаться, новые изделия министерство обороны не заказывало, сокращалось финансирование многих институтов, разбираться в том, какие нельзя трогать, просто было некому. Куда только не обращался командир части, никто его не слышал.
Михаил Михайлович по своим каналам пытался помочь сохранить эту часть, ведь таких специалистов трудно собрать, когда-нибудь этот бардак кончиться! Ему и не отказывали, но, кроме советов, помочь ничем не могли. С командиром части Михаил Михайлович выработали план консервации части: создать совместное предприятие, передать ему на сохранность все оборудование необходимое для испытаний. Директором назначить Сансаныча.
Заключили договор по охране и поддержанию порядка на территории части и жилого городка, а в счет оплаты за эти услуги вновь созданному предприятию передали все складские помещения со списанными агрегатами. В воинской части были очень грамотные юристы и финансисты, и пока ещё оставались хорошие отношения в министерстве обороны и в областной администрации – оформили все документы честно и грамотно. В учредители вошёл от воинской части начальник финансового управления. Михаилу Михайловичу его руководство предложило уйти в отставку, и войти в учредители, чтобы держать всё под контролем, чтобы сохранить и материальную часть и не терять связи со специалистами. И когда наступит час «икс» – возобновить испытания. В часе «икс» они были уверены на сто процентов.
Поскольку на складах зависло много «невозврата», решили кое что предложить сельхозпредпринимателям в обмен на практическую помощь в создании у них сельскохозяйственных участков. Михаил Михайлович предложил своему руководству организовать филиал совместного предприятия у себя на родине и кое-что переправить туда, в основном вездеходы, тягачи, «БэТээРы», вычислительную технику – так как, очень скоро час «икс» не просматривался, а это техника устаревала не просто каждый год, а каждый день.
Первое, что предложил Сансаныч, приобрести в обмен за пару пожарных машин, оставшихся после испытаний, пару бульдозеров, с помощью которых сделать обваловку вокруг полигона, и реконструировать взлётно-посадочную полосу.
Оказалось, что у Сансаныча был хороший друг – полярный лётчик первого класса, Юрий Николаевич, по прозвищу «Пингвин». Он был в большом почёте в те времена, когда была постоянная связь с северным и южным полюсами Земного шара. Для этих перелётов лучше Ил-14 было не найти. А сейчас полярная авиация осталась не у дел, и Юрий Николаевич выкупил за небольшие деньги родной «Пингвинчик» – как он ласково называл свой самолёт. Но с Жуковского аэродрома его «попросили».
– Всё понимаю, обваловка – нужная вещь, меньше будет здесь зверья и грибничков, и тех, кто будет здесь шманать под прикрытием корзиночек. Ну а самолёт-то нам зачем? Еще тоскуешь по авиации, трасса, как раз над тобой приходит? – удивился Михаил.
– Да нет, тоскую не по шуму двигателей и запаху керосина – ностальгия по порядку, который развеялся как инверсионный след от реактивного двигателя. Жена говорит, вовремя я ушёл из авиации, а то бы давно убили. Я бы не одного самолёта не выпустил в полёт. Ни одного узла нормального нет, одна бутафория. Проклятый бизнес! А «Пингвин», думаю, нам пригодится, Юрий Николаевич очень известный в своих кругах, его знали не только у нас, но и во многих странах, на южный полюс поначалу мало кто летал, а у него, похоже, появились там интересные контакты, может и нам пригодятся. Вдобавок он – «всепогодник», разрешение на вылет по погоде ему получать ни от кого не надо, это прерогатива полярников. Диспетчерские службы его знают, уважают, проблем с посадкой на аэродромах, особенно военных, у него не будет. Заказы у него ещё будут, у нас на шее ему не сидеть. Мы с ним хотим улучшить технические характеристики «Пингвина». Мысли очень интересные. Когда сделаем и испытаем – покажем и расскажем.
– Уговорил, чем помочь.
– Ну, видимо, поставить кого следует в известность.
– Тебе ещё ведь понадобиться аэродромное оборудование, диспетчерская служба, хранилище для горючего.
– Михаил Михайлович, неужели от вашего всевидящего ока укрылись операции с топливом? Все самодвижущие агрегаты приходили на испытания с полными топливными баками – это по инструкциям, бензин или солярку сливали в соответствующие подземные хранилища, а в пустые баки машин, чтобы не рванули ненароком, заливали обычную воду с хромпиком, чтобы баки не ржавели.
– Ну что ж, самолёт, так самолёт. Держи меня в курсе, может и мы станем у «Пингвина» заказчиком.
Захарыч познакомился с Михаилом Михайловичем на совещании в КГБ, в конце восьмидесятых, и как-то сразу они прониклись уважением друг к другу, несмотря на разность в возрасте, и чинах.
Емельян Захарович пригласил Михаила Михайловича к себе на строящуюся ферму, от которой тот остался без ума. Он тоже бунтовал внутри от горбачевских перегибов, как например вырубка виноградников, как зло, и всплеск пьянства, последовавший в ответ на глупейший шаг верховного правителя, одним ухом слушающего запад.
Михаил Михайлович чувствовал, что в воздухе уже веет ветер перемен, душа потихоньку наполнялась тревожным предчувствием. В магазинах пустели полки, похоже, что стали пополнятся склады непортящимися продуктами. Об увиденном подсобном хозяйстве Михаил Михайлович рассказал командиру части, и создал подсобное хозяйство с помощью «добровольной дружины» из сотрудников и их боевых подруг, благо территории полигона позволяли. Стали выращивать овощи, кроликов и поросят, кур и гусей. Сотрудникам выдавали пайки еженедельно не по рангам, а по количеству ротиков в семье.
Михаил Михайлович вместе с командиром части иногда навещал Захарыча – в воинской части остался вертолёт для мониторинга территории. Встречи чаще были по инициативе Захарыча, предлоги были безобидные – «по грибы» или по шашлычкам, которые накануне замачивал Михаил Михайлович из свининки со своей фермы. Часто, у костра возникали разговоры о жизни, о том, куда катится государство. Страшная тяжесть ложилась на душу молодому «особисту» и становилось как-то гадко и даже страшно, когда начинался невесёлый разговор по инициативе седого командира части, полковника, доктора технических наук, лауреата всяких премий, награжденного орденами за огромный вклад в науку, поднимая в ней целину, и в которой сейчас не было нужды.
– Где же вы прокололись, ребята? Не понятно, как такая мощная система, как КГБ, у которой как на рентгеновском снимке были не только руководители всех рангов, но и все простые смертные, просмотрели раковую опухоль, метастазы, проникшие во все сферы жизни, опрокинули все понятия о чести, совести, о человеческих достоинствах?
Руководители Бурова согласились с тем, чтобы создать на родине Михаила филиал предприятия – уберечь от разных комиссий, проверяющих, материальную часть испытательного института и, кроме того, это входило в специальную программу комитета.
Немолодой, белый как лунь генерал, куратор Михаила Михайловича, в прощальной беседе в связи увольнением подполковника Бурова честно признался, что расставаться с таким работником очень грустно.
– Миша, мы с тобой прощаемся на время, ты поверь – просто так надо. Ты из тех немногих людей, которые в слова «честь имею», вкладываешь весь смысл жизни. За всё время совместной работе, я ни разу не усомнился, что ты делаешь что-то неправильно.
Напомнил и то, как за счет создании подсобного хозяйства при воинской части он с командиром части ввёл пайки для служащих части, как он отказался от персонального автомобиля, от штатной единицы водителя, секретаря и уборщицы. Но при этом убедил командира части пустить два раза в день вахтовую машину ГАЗ-66 до ближайшей железнодорожной станции – утром и вечером, для тех, кто нашёл себе работу в других местах, а проживал ещё там же, где и жили при работе в НИИ. И всё это становилось темой размышления руководства комитета: «А ведь он прав, у нас для этого чего-то не хватило: смелости, рассудительности, принципиальности…»
– Про твои истинные заслуги у нас знают только двое кроме меня, поэтому мы решили тебя наградить, повысить в звании, выдать вместе с премией положенные переселенческие на тебя и твою семью. Но помни, ты наш, по первому свистку – в строй. Ты – наше будущее. Будут трудности, обращайся без стеснения по любому вопросу, знай, мы – везде. И своих не сдаём. Ты умница, всё придумал и организовал по высшему классу. И с «Пингвином» вы здорово придумали, молодцы. Он нам скоро нужен будет и у вас, за Уралом, и в Антарктиде.
Да, ты говорил про шоры у нас на глазах – это правильно, но пока их снимать не велено. Ты успокойся, ещё не вечер, будет и на нашей улице праздник. Слушай, Миша, я помню, как настойчиво ты предлагал мне посетить твои родные места. Так в силе оно, твое предложение, или нет?
– Ну конечно в силе, только, наверное, сейчас не время.
Через десять минут куратор входил в кабинет своего шефа: «Всё складывается в лучшем виде, правда несколько неуютно себя чувствую, вводить его в тему считаю преждевременным. У Михаила получается всё, над чем работает отдел «П», само собой, тогда как наши теоретики за два года толком ничего не сделали даже по-крупному, не говоря уж о мелочах.
– Я тебя понимаю. И то, что всё сложилось у Михаила так ладно и «само собой» – это знак свыше. Давай это тему и переименуем, пусть будет «Пингвин». Кстати, наш этот лётчик-полярник, Юрий Николаевич, никому не сболтнул про Антарктиду, и про этот камешек в океане?
– Да нет, он человек чести и порядочности, и тайны держать умеет.
– И вот ещё что, с темой «Пингвина» ознакомишь Емельяна Захаровича, они, кажется, в дружеских отношениях с Буровым. И только после того как он немного там обживется, потрётся с местной мафией, укоренится, и всё это произойдёт в естественном русле, можно будет приступать к активной фазе «Пингвина». Емельяна Захаровича надо утверждать начальником Главного управления, готовь приказ. Разработайте положение об этом подразделении, но в первую очередь, не дожидаясь официального статуса, пока сверх штата набирайте экстрасенсов, к отбору подключите Прасковью Тихоновну, здесь не должно быть ошибок, утечки информации. Что известно со сроками ввода в строй нового самолёта под старым «брендом», как сейчас любят говорить «просвещённые», что с двигателем? Препарировали его с отечественными агрегатами? Кстати, Бурову надо подсказать, чтобы он организовал у себя там на хуторе строительство капонира под новый Ил-14Мд, или как он теперь будет называться. Ты, через Емельяна Захаровича попроси, чтобы он, как-нибудь ненавязчиво, предложил Бурову, в целях сохранения техники расформированного испытательного центра принял в свой хутор все установки залпового огня и все бронетранспортёры. Часть золотого камешка надо разместить в естественных пещерах Урала, и эта техника пригодиться. По новому самолёту поручи от моего имени Емельяну Захаровичу выяснить состояние дел, и передать мне новые характеристики и сроки начала испытаний. Продувка модели этой «невидимки» в ЦАГИ – обязательно! А также подготовить предложения по запуску опытной партии этих двигателей.
Ну, как говорится, с Богом.
К услугам «Пингвина» Михаилу Михайловичу пришлось обратиться в связи с переездом семейства на его родину за Урал.
Жена Михаил Михайловича была не в восторге, переезд почти из центра России в дальнюю даль, за Урал, не очень её радовала. Но – «надоть»! На сборы ушла неделя, барахла набралось много, в купе не уместиться. И Михаил Михайлович решил в первый раз использовать свое положения – переместится в дом родной на самолёте. Дядя Юра засиделся, поэтому согласился сразу: «Топливо и харч за тобой, – и добавил, – Михалыч, ничего нет дороже дружбы, а я понимаю, что мы с тобой друзья и надолго». Он попросил связать его с тем, кто будет встречать на месте и передал, как надо подготовить «взлётной-посадочную» полосу к приему самолёта.
Ил-14П стоял возле ангара, под маскировочной сеткой. Все вещи, упакованные в зелёные армейские ящики, разместили вдоль бортов и закрепили специальными растяжками.
– Ну, что, Миша в путь, – Емельян Захарович решил проводить друга до дома. Бери свою дочурку, зови Светлану – и в ангар, там и посидим по традиции перед дорожкой.
В ангаре было темно и холоднее, чем на улице. Михаил Михайлович взял на руки свою дочку, и присел на край длинного ящика, видимо в нем находилась до испытаний авиационная ракета «воздух-воздух». Рядом с мужем села Светлана, напротив, на табуретках разместились Емельян Захарович и Александр Александрович, между ними разлеглась на бетонном полу Берта. В громадном ангаре стало тихо-тихо, и в этой тишине – неожиданный щелчок выключателя заставил многих вздрогнуть. Яркий свет вырвал из темноты остов нового самолёта.
– Вы не смотрите, что он как две капли воды похож на прежнего «Пингвина», кроме геометрии и позывного – от старого ничего нет, – с улыбкой и гордостью погладил углепластиковый фюзеляж Александр Александрович, – новый «Пингвин» – невидимка, прилетит к вам в Сибирь уже не за десять часов и уши ватой затыкать не придётся! Самолёт испытали по высшему разряду, я надеюсь, что наш новый самолёт будет понадёжнее любого пассажирского лайнера. Обживётесь – к вам буду летать на охоту. Ну всё, вам пора, мягкой посадки…








