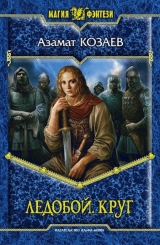
Текст книги "Ледобой"
Автор книги: Азамат Козаев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Иногда давал себе отдых, садился и вспоминал. Чем же пахло тогда в избе Волоконя, когда на мужскую половину вынесли новорожденного мальчишку? Молоком, хлебом, прелыми пеленками. Наверное, так и должен пахнуть дом. А еще дом должен пахнуть женщиной. И железом. Огнем, деревом и кашей. И в какой-то момент становилось не по себе. Страшно. Когда так собою бросаешься, что стоит однажды разбросаться близкими? Если на себя плевать, не станет ли однажды плевать на счастье, пахнущее молоком?
На ночь клал под бок деревянный лик. И в свете лучей солнца, когда приносили поесть, всякий раз находил его в свежей крови. Пусть пьет. Пусть кровь дурную тянет.
На третий день вышел из клети. Дружинных стало еще меньше, двор – еще захламленнее, живые – помятее, чернее, измученнее. Запертый в своей клети Безрод не видел ни одной схватки. Жизнь проходила мимо, да с собой не звала. Сивый не знал, кто из оттниров порубил воеводу Долгача, что сидит на бочонке и морщится под руками ворожца. Какой полуночный ухарь посек Трескоташу так, что пол-лица пришлось замотать льняной тряпкой, отчего шатается Перегуж? Нынешняя война – будто клетка для боевого пса. Выпустят подраться, да обратно водворяют. И не оборвать эту цепь. Есть пока приносят. Значит, голода еще нет.
Отвада стоял на стене и мрачно глядел вниз, на полуночников. Пришли с полуночи, вот и помереть бы им на полудне. Безрод шел к плесу и спиной чувствовал взгляды всего города, и среди всех один, достающий ножом до сердца. Княжий.
– Его душа! Его меч! Быть бою!
Даже полуночный ворожец смотрит с каким-то странным выражением в линялых глазах. С каким – поди загляни в его темную душу! Но насмешки во взгляде больше нет.
Старый Урач крикнул свое:
– Его душа! Его меч! Быть бою!
Безрод вытянул меч острием вверх. Пусть Ратник молнией войдет в клинок и поразит нечестивца, если он нарушит данное слово.
– Глядите с небес за поединком, могучий Тнир и храбрый Ульстунн! Да не увидят ваши глаза ничего, кроме удовольствия от битвы! Никто не попеняет тебе, громовержец Ратник, и тебе, Отец-солнце, за то, что ваш потомок нарушил клятву! Я все сказал!
Сивый, не снимая рубахи, положил новый порез рядом со старым. Новой крови – новую дорогу. Когда выбросил пригоршню крови в небо, город взорвался криком радости, а с дуба снялся черный ворон.
Теперешний противник Безрода, неулыбчивый крепыш с грустными, холодными глазами, из гойгов, отдал богам такие слова:
– Метатель молний Воитель, и ты, светлый Отец-солнце, я честно одолею вашего сына в поединке, и пусть не будет в этом обиды! Могучий Тнир и ты, храбрый Ульстунн, вам я посвящу честно пролитую кровь!
– Боян, ты не подаришь своим врагам песню? – Из стана полуночников прилетел могучий голос. Вблизи еще более сильный. Слушая такой голос каждое утро, вои должны исполняться тонкости души и крепости духа.
– Меня не нужно упрашивать, Брюнсдюр-ангенн! Я и так сделаю это! Жди мою песню и в следующий раз! – Дерзость, и еще раз дерзость.
Безрод ухмыльнулся. Тяжко в жизни дерзким и дурным.
Брюнсдюр густо расхохотался со своего берега. Ушли ворожцы, ушли провожатые, Безрод и гойг остались на плесе одни. Сивый скинул рубаху, и гойг в изумлении попятился, будто увидел змею. А Безрод поднял руки с мечом в небо и запел:
– Одно лишь помню – меч поймал,
врагов рядами окружен,
и без души на землю пал,
изрядно сталью посечен.
Сколь долго духом был забыт —
мне память ведать не велит,
а как вернулся дух гульной
и просветлел я головой —
со страху обмер, сам не свой!
Водитель воев, где же я?
Чье неживое волшебство
сюда забросило меня?
Где сонм поверженных врагов,
что не сжалел моих боков
в никчемной схватке роковой?
Ведь если я, как таковой,
в суме изметной седловой
везу лишь постных пирогов
для пары крепких едоков,
да турий рог для пития,
одно выходит – баловство
был весь тот праздник бития,
где тьма сошлась на одного…
Гойг начал стремительно. Меч взмывал и сверкающей молнией падал. Через раз оттнир менял направление удара, отворачивал клинок и бил по глазам. Та самая полуночная уловка, о которой предупреждал Отвада. Впрочем, Сивый и без того прекрасно знал коварный прием оттниров. Полуночник вел схватку весьма осмотрительно – вперед не лез, равновесие держал прочно, безрассудно за мечом не тянулся. Зато Безрода мотало под ударами крепко. Но он лишь улыбался. Гойг стал запаздывать. Ход его меча удлинился, между тем как меч Безрода ходил короче и быстрее. Сивый так раскачал крепыша-полуночника, что тот на три четверти опоздал с защитой. Безрод уже сек, а полуночник только опускал клинок. Врубился мечом в шею, и наземь чуть не упали двое – гойг и его голова.
Не криком – ревом изошло Сторожище. И Безрод ревел от того, что стонали потревоженные ребра. Боль навалилось только после боя. Сивый нахлобучил на голову рубаху, пролез в рукава, вошел в реку. Вышел на берег, в кулаке отжал подол.
Растопил удачливый поединщик толстый лед. В стенах города, сами не свои от радости и гордости, дружинные протягивали Безроду руки, пытались похлопать по плечам, бойцы постарше скупо кивали. Хмель победы унес неприязнь. Безрод рук не жал, похлопываний избежал, ни в чьи глаза не глядел. Молча прошел к своей клети, а подойдя, недоуменно остановился. У дверей стоял Стюжень и уходить не собирался. Стоял мертво, загородив собою вход и скрестив руки на груди.
– Уйди.
– Ты не вернешься в клеть.
– Вернусь.
– Твое место в дружинной избе.
– Нет.
– Ты встал на полуночника ради Тычка.
Безрод нахмурился. Хотел что-то сказать, но промолчал.
– Ты встал на полуночника ради Перегужа.
Безрод сцепил зубы.
– Сынок, не прошу встать на оттниров ради меня. Я только прошу уйти из темной.
Вои подобрались ближе. Потрепанные, порубленные, но счастливые. Однако с лиц понемногу уходила радостная улыбка.
– Я не дружинный князя. Не пойду в дружинную избу. И я по-прежнему приговорен.
Безроду показалось, что ворожец под бородой и усами едва не смеялся. Губ не видать, глаза под брови спрятал, но хоть ты тресни – как будто смеется! А еще Сивый давно хотел спросить: «А ешь-то ты как? Моржачьи усы не мешают?» Стюжень только буркнул:
– Оговорен ты, а не приговорен! – и ушел с дороги, прямой, будто ладейная сосна.
Парни потоптались, почесали затылки да и разошлись кто куда. Отсыпаться и раны зализывать, пока время есть. Даром ли Сивый на плесе подставлялся?
Безрод вошел в дубовую клеть и рухнул на ложе.
Глава 5
Брюнсдюр
Три дня Безрод провел словно в тумане. С некоторых памятных пор дверь перестали запирать, и стражей возле нее больше не было. Нужда отпала. Сивый знай себе резал мечом воздух и отдыхал, резал – и отдыхал. Прижмет князя – опять на плес выгонит. А прижмет, как пить дать. Сторожищу никуда не деться, и помощи ждать неоткуда. Раньше надо было думать, когда полуночники прибрежных князей по одному щелкали, как орехи. Все оказалось проще пареной репы – ума не хватило млечам и соловеям объединиться, гордыня поперек головы полезла. И где теперь млечи и соловеи? Под князем боянов. Те, что остались. От судьбы не уйдешь, она тебя перехитрит, а ты ее – нет. Брюнсдюру эти поединки забава. Хорошую песню послушать – и то ладно. А что лучших воев теряют – злее будут. На этой войне новые заматереют. Брюнсдюр свой умишко не на печи высидел. Уж всяко не глупее Отвады. Никак не следует врага делать глупее, чем он есть на самом деле. Как только посчитаешь себя умнее врага, собирайся на тот свет.
А когда Отвада прислал за Безродом в третий раз, Сивый у самых ворот впал в озноб. Что-то не так станется этим утром. Безрод чувствовал себя так, словно зима вползла в нутро самыми лютыми холодами. Всего растрясло, будто в проруби искупался. Что-то случится. Безрод мельком взглянул на дружинных, измученных злыми набегами, посмотрел на верховного ворожца и усмехнулся. Так и есть. Стюжень отбросил ворожачий посох и ухватился за меч. Клинок у ворожца старый, очень старый. Истончился под правильным камнем, пообтесался, но даже теперь в палец шириной. Старику досталось – голова замотана, рукав порван и весь в крови. Глядит мрачно, но без исхода. Тяжело дается каждый день. А кому легко в эту мрачную пору? Безрод шел к реке и хребтом чуял – в третий раз не все пройдет гладко. Будет ли четвертый? Поглядывал на Урача, на воев – и знай себе мурлыкал под нос. В одном был уверен: песня получится такой, что оттниры рты разинут и закрыть забудут. И добро бы душа через рот к звездам вылетела, да назад не вернулась.
Невиданное дело! Неслыханное! Уходя с плеса, парни вполголоса пожелали удачи. Старый Урач просто схватил за волосы, притянул к себе и отечески поцеловал в лоб.
Безрод поднял голову и оглядел вражий берег. Дожили, свой берег вражьим обозвали! Дадут боги, ненадолго. Среди прочих оттниров стоял воитель в обычной поддоспешной рубахе из кожи и, скрестив руки на груди, глядел на плес. Сивый нутряным чутьем угадал в нем ангенна полуночников. Одно жаль – далековато стоит, лица не разглядеть.
– Я помню, Брюнсдюр-ангенн, свое обещание. По нраву ли мои песни?
– По нраву.
– А ведь бью вас, оттниров и так, и эдак.
– Эдак – это как?
– И мечом, и голосом. Понимаешь, к чему клоню?
Оттнир молчал. Только дурак не поймет, а князь полуночников далеко не дурак.
– Да, боян, понимаю. Ты храбрец и песни играешь знатно.
– Наверное, во всем твоем воинстве некому перепеть меня и перебить. Или обеднела полуночная сторона голосами? Осипла, шастая по морям? Или руки под веслами ослабели?
Оттнир помедлил, улыбнулся и покачал головой. Не обеднела, не осипла, и руки под веслами не ослабели. Все случается на белом свете, может быть, и найдется достойный поединщик сивому бояну, но вот перепеть его точно некому. Во всем войске не найти такого голоса… Молодые хорохорятся, кровь играет, им кажется, что хорошо спеть – проще простого. Открой рот, да набери побольше воздуху. Но крик и песня не одно и то же. Молодость на то и молодость, чтобы играючи браться за любое дело, но старые мореходы угрюмо отворачиваются. Сами были молоды, повидали, послушали. Ни гойгам, ни урсбюннам, ни рюгам не перепеть бояна. В кои-то веки встретил равного себе. Стало быть, нужно готовиться к худшему – в следующий раз выходить на плес придется самому. Слишком далеко все зашло. Еще не известно, какие песни сложат об этих поединках у реки. Неровен час, получится так, что одного бояна всем войском воевали! Тяжела честь! И не просто одолей бояна на мечах, а перепой!
– Как ты узнал, что я пою?
– Мне раз человека услышать.
– Быть посему.
– До встречи!
Брюнсдюр только кивнул.
Сивый оглядел поединщика… вернее, поединщиков, и поежился. Одно лицо, два человека. На плес вышли братья, которых, наверное, родная мать путала. Пошутили боги над доброй женой, в небесном зеркале отразили мальчишку, и стало их двое. Сивый знавал таких. Близнецы друг без друга никуда, оба по девкам, оба в драку, а в битве таким равных не бывает. Один другого понимают с полуслова и бьются так, что у противника в глазах двоится. Вот, значит, отчего нутро вымерзло, вот почему хмурился Стюжень и улыбался князь!
Безрод, усмехнулся, без лишних слов кивнул и воздел руки к небу, замкнув над головой полный круг. Засыпает Отец-солнце, спрятался в тучи, ровно в пуховые перины. Спит-спит, а проснется. От того, что услышит, как не проснуться?
– Черный ворон, воронок, граешь надо мной,
Юность буйная прошла дальней стороной,
Бросив отчий уголок, пыли наглотался,
В чужедальней стороне весь поиздержался,
Полных сорок сороков истоптал сапог,
Исходил дружинным тысячи дорог,
Вражьей крови наземь слил – море-окиян,
По живому злым мечом трижды по три рван,
Затянулось, зажило, стану дальше жить,
Чтобы в битве страшной голову сложить,
Во широком поле прямо у реки
Грудью в грудь ударили ратные полки,
Бились, не щадились, мечный звон стоял,
И последним из дружины я на землю пал…
Песня еще разлеталась по обеим сторонам, когда с дуба поднялся черный ворон и улетел в сторону оттниров. Брюнсдюр слушал стоя, широко расставив ноги и по обыкновению скрестив руки на груди. Безрод чувствовал тяжелый взгляд полуночного вождя, полный немого сдержанного восхищения. И даже солнце ласково проглянуло сквозь пелену мрачных, совсем уже зимних, облаков, и будто теплой рукой кто-то прошелся по голым плечам Безрода. Благодарило солнце, понравилось.
И они пошли. Зашли с разных сторон, зато ударят наверняка одновременно. Дело только на замах шло, а Сивый уже знал, как поступить. Стало вдруг яснее ясного, что удумали близнецы. Безрод скорее молнии взвился в воздух и нырнул вперед. Двух ударов сразу не отразить, и насколько будешь быстр, настолько и жив. Ударили разом, один в грудь, другой в ноги. И не подпрыгнешь, и не присядешь, и всей-то жизни осталось – меж небом и землей, меж двумя мечами. Безрод распластался в воздухе, вытянулся в струну, и клинки близнецов просвистели сверху и снизу. Сняли клок волос. И ладно, что только волосы. Зато меч Безрода напился полуночной крови по самый дол. Оттнир дернулся, обмяк, и меч увлек хозяина за собой. На ногах раненый не удержался, упал на колени, а из распоротого бока захлестало, ровно из бочки с брагой, когда корчмарь выбивает пробку. Пробовал зажать – без толку. Моря не вычерпать решетом. Второй озверел, как медведь, зажаленный пчелами. Перед Безродом заблистало стальное кружево, только воздух засвистел. Но один на один – всяко полегче.
Вдруг Сивый разорвал мечную вязь, отскочил на несколько шагов и замер. Вытянул руку с клинком, нацелил острие в лицо полуночнику и усмехнулся. Оттнир замер, тяжело дыша. Теперь будет один замах, один удар и одна смерть. Осиротевший близнец слышал про такое, где бойцы пытали друг друга терпением и неподвижностью. Иногда подолгу стояли.
Полуночник не стал ждать долго. Знал, что хорош в плетении стальных кружев, надеялся на силу и быстроту. Безрод позволил оттниру сделать резких замах, а сам лишь подшагнул вперед. Непостижимо просто и оттого невероятно скоро, обошелся вообще без замаха. Косая глубокая рана располосовала шею полуночника. Сивый отряхнул клинок, подобрал рубаху, трижды рассеченную в священной клятве, надел и побрел в город. У самого берега повернулся и долго глядел в глаза Брюнсдюру. Ангенн полуночников коротко кивнул. Быть сече. Быть поединку мечей и голосов.
Сивый не слышал криков горожан, если и были. В ушах стояли звон мечей и рев полуночников. На княжий двор Безрод ступил по-прежнему бирюк бирюком, ни на кого не глядел, ни с кем не говорил. Как и в прошлый раз, на приветствия не ответил, руки никому не подал, но Стюжень… Старик выступил вперед, его широченный меч покоился на вытянутых руках, а на лезвии стояла чаша, полная меду. Почетная чаша. Безрод оторопел. Впрочем, даже тут Сивый остался верен себе – усмехнулся и отпрянул, будто увидел змею. Замотал головой и сделал назад еще один шаг. Почетную чашу принимает лучший дружинный, а тут не лучший, и не дружинный.
Рядом с верховным встал Перегуж. Воевода и Стюжень загадочно переглянулись. Безрод не знал, что делать. И принять нельзя, и отказать верховному тяжело. Старик совсем по-дедовски принял все близко к сердцу, а Перегуж и вовсе по-отцовски! Глядит так, будто снимет пояс да и оходит по заду, как несмышленыша беспортошного.
– А вот попей, сынок. Устал, поди. – Стюжень говорит, а сам смеется, даром что ранен, и лихо кругом. – Медок сам настоял, словом заговорил. Не князь – город просит.
– Чужак я, – буркнул Безрод и, положив меч у ног, снял чашу.
– Каков певец, такова и честь! Ты вокруг оглянись, посмотри на людей! Глаза сияют, ровно звезды в небе! Послушай, что босота малолетняя на улицах поет!
Безрод прислушался. И ничего не услышал. Но город велик, не враз и обойдешь. Может быть, и поют. Наверное, не врет Перегуж.
Сивый припал к чаше. Вкусило горькой полынью, терпкой рябиной, клюквой и чем-то еще. Отменное питье! Последние капли Сивый метнул в воздух, и налетевший ветер унес их с собой, не дав упасть наземь. А Безрод зашатался, перед глазами все поплыло, завертелось. К нему кинулись Перегуж, Стюжень, но Сивый опередил всех. Будто скошенный сноп, рухнул в растоптанную грязь, в лужу воды и крови. Достал-таки второй близнец. Чаша крепкого меда Безрода и свалила.
– В избу. Живо, – рявкнул Стюжень.
Перегуж и кто-то из парней, подхватив беспамятное тело, мигом унесли. Вроде бы плакать надо. А ворожец улыбался.
Рана оказалась не опасной. Меч ровно и аккуратно рассек бок над печенью. Стюжень костяной иглой, волчьим сухожилием деловито сшил разрез. Известно, от волчьего живучей становишься. Во время штопки к Безроду вернулось сознание, и от нечего делать Сивый считал бревна в стене. Одно неудобство – в голове хмель буянил, с глазами играл.
Через день Сивый встал. Только погляди! Перенес-таки старый хрыч в дружинную избу! Что хотел, то исполнил. Безрод потянул бок. Болит, но жить можно. Ишь ты, даже ложе застелили, чтобы мягче почивалось! Вышел на крыльцо. Только что кончился приступ. Вои суетились, носили раненых. На пороге избы двое озирались: куда класть? Сивый кивнул за спину, дескать, клади на мое место. Как раз нагрел для такого случая. Вышел во двор. Там за амбаром, на пустыре стоит одинокая темная, в которой коротал время между поединками. Там и доживать свое. В тишине да темноте спокойнее песни складываются. Жаль только, звезд не видать, не треплет ветер неровно стриженую седину.
Но, повернув за амбар, Безрод остолбенел. Не стало больше темной. Сгорела. Дотла. Сивый сдал назад, в растерянности оглянулся по сторонам. Будто дом родной потерял. Как же так?! Видать, шальная огненная стрела попала в кровлю, в пылу схватки и не заметили. А как отбились, уже догорала. Безрод присел рядом с обугленными головешками и опустил голову. Усмехнулся. Куда теперь идти? Было единственное место, где мог укрыться от «гостеприимства» князя. В дубовых стенах клети все менялось, и съеденный хлеб ни к чему не обязывал. Куда теперь? Осталась только одна крыша – бескрайнее небо над головой. В закатной заре Сивый ступил на пепелище, разгреб сапогом золу, и вдруг из-под ноги, в облачке пыли выкатился березовый чурбак с ликом Ратника. Ты гляди, не сгорел. И даже кровь с лика не сошла.
– Дурак я. Мало таких на свете. – Безрод присел, взял в руки лик, усмехнулся. – Зато видать издалека.
Прижал к груди, бросил плащ на землю и, свернувшись калачиком, встретил осеннюю ночь.
Хоть и студеной выдалась ночь, Сивый будто на печи пролежал. Спекся весь, ровно глина в огне. Сам заполыхал, едва не сгорел. Таким и нашли поутру, в пылу да в жару. На нем даже иней стаял. Дружинные кругами ходили, а на руки взять не решились. Безрод волком глядел и ничего не говорил. Встать не мог, говорить не мог, трясся, будто пес после воды. Свернулся клубком, подтянул колени к груди, молча скалился, да зубы показывал. И лишь когда подошел Стюжень, успокоился. Но даже в горячке усмехался. Дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если понят – то не так. Последнее дело уходить на тот свет, оставляя после себя долги. Лучше задолжать другу, но не обмануть честного врага. Чуть не задолжал поединок Брюнсдюру. Что сказал бы ангенн полуночников, узнай о смерти противника? Наверное, удивился бы и спросил: «А где мой поединщик? С последней схватки ушел на своих ногах!» Ответили бы со стены: «Спекся, дурень, лежит в золе!» Усмехнулся бы оттнир и был прав. Сто раз прав.
Безрод открыл глаза. Крыша над головой. В середине и по бокам огромные рогатые столбы. Наверное, амбар. Весь ложами заставлен. Бойцы мрачны, угрюмы, точат оружие, перевязываются, кто-то спит. Горят лучины. Маслянки уже не зажигают. Нечего добро переводить, как бы голодать не пришлось. Многие ложа свободны, чисто застелены полотном, в изголовьях шлемы лежат. Эти, стало быть, отвоевались. Ничего, нанесут еще раненых, сразу после приступа нанесут. Сивый усмехнулся. Жизнь стала похожа на перегонки с ранами: одна затягивается, другая на подходе, третья порожек обивает. Из огня – да в полымя, ни дня без заботы. Уже и забыл – каково это, когда нигде не болит.
Безрод зашевелился, заерзал. Вои подняли головы. Хотел было съязвить, но промолчал. Смотрят настороженно, ровно не поймут, что за зверь такой? Было чудище, знали его страшным, зубастым, клыкастым, а вот сбросило шкуру, и как это называть? Глядят недоверчиво, не знают, каким глазом щуриться. Сапогом, как раньше, запустить неловко, но и княжий приговор по-прежнему в силе.
Сивый приподнялся на локте, поморщился – не с того бока вставать начал – и сбросил ноги вниз. Дружинные как-то странно косились. Многих Безрод уже знал. Моряй, Трескоташа, Щелк, Остряжь, Рядяша… Пока искал сапоги, чувствовал на себе взгляды. Поднял голову, непонимающими глазами оглядел каждого и похолодел.
– Сколько без памяти был?
Прошептал еле слышно, однако, Моряй, лежавший ближе всех, услышал.
– Два.
– Болтал?
– И болтал, – Моряй улыбнулся, – и пел.
– Пел? – Безрод нахмурился. Неужели про счастье, пахнущее молоком? – Что пел?
– Да разное. – Моряй, как ни был измучен, едва не смеялся. – Мало в краску не вогнал, а уж мы всякое слышали!
И весь амбар грянул таким гоготом, что спящие подскочили, а со столбов снялись перепуганные голуби.
Два дня Безрод провалялся в горячке, все это время пел, и закрыть ему рот не было никакой возможности. Почитай, два дня вои не спали, слушали, разинув рты. Иногда боялись, что Сивому не хватит дыхания, так долго держал он голос. Два дня Безрод мотал парней по морям неизбывной тоски и молодецкой удали. Два дня Сивый вспоминал речной плес, поединок за поединком, и теперь вся дружина знала до слова разговор Безрода с вождем полуночников. Два дня без устали твердил, что нужно во что бы то ни стало выйти на плес, просто выйти, а там будь, что будет. Что еще наговорил?
Сивый нащупал сапоги и слабыми руками натянул. Хорошо, что у столба положили, можно встать. Постоял у столба, прогоняя головокружение, сделал шаг. Вои что-то говорили, предлагали плечо для поддержки, но Безрод и глазом не повел. Отмолчался. Ни к чему. До задка сходить помощь не нужна. Да и потом обойдется. У самых дверей Сивый покачнулся и едва не упал. Ухватился за створ, прижался к двери и выстоял свою слабость. А когда Безрод вышел, Моряй буркнул в пол:
– Нет на нем вины. Не он разбой учинил. Те четверо.
– Да что ты говоришь? – с издевкой протянул Взмет, один из восьми битейщиков, которым Безрод рассадил кулаки собственными боками. – Тут прямо и кинусь в ноги прощение отмаливать!
– Ему, дурень, твое прощение вовсе не нужно! – вмешался Прям. – А даже попросишь – все равно не простит.
– Да разбойник он! Справедливым судом, небесным промыслом приговорен к смерти!
– Дурак ты, Взмет, дурак и слепец! Возжелай боги его смерти, лег бы под первый же меч там, на плесе! Трижды ушел на своих ногах.
– Все равно приговорен! – из своего угла встрял Шкура. Он тоже бил.
Прям с сомнением покачал головой.
– Я пожил и людей вижу до дна. Этот не возьмет и пылинки чужой. Помирать будет, а чашу воды у тебя не примет. А ты говоришь, разбойник! Уж на что тяжко было, а не принял от вас, дураков, ни милости, ни прощения. И не примет. В старину говорили, с такой гордыней рождались только Ратниковичи. Самого Ратника сыновья. Так-то!
– Он разбойник! – чуть не в один голос крикнули Шкура и Взмет.
– Тяжко нынче князю. У кого сын на руках не умирал – тому не понять. Я Расшибца учил на лошади ходить, а под лошадью сам выучился. Здоров был! На плечи взметал своего гнедого. А Сивый с княжичем одно лицо. Вот и рвет сердце Отвада. Лютует. Безрод жив, а сын помер. Тяжко князюшке. – Прям говорил, будто сказку сказывал, тихо, напевно. Взмет и Шкура насупились и все равно остались при своем.
– Вот придет – и запусти сапогом в лицо. Думаешь, испугается? – жестко отчеканил Моряй.
Запустить в человека сапогом, зная, что не будет ответа, не это ли последняя гадость? И не потому промолчит, что испугается, а потому, что каждая пара рук теперь на вес золота. Затевать глупые ссоры – делать за оттниров черное дело. А еще в скором времени предстоит выйти на плес к Брюнсдюру, и об этом тоже нельзя забывать. Шкура и Взмет отвернулись, а весь амбар напрягся: что же будет?
По возвращении Сивый замер в дверях и со слабой улыбкой ждал. Сапога. Который почему-то не летел. Безрод оглядел воев одного за другим, и каждый спрятал глаза. Ухмыльнулся, пошел к себе и, как мог, держал спину прямо.
– Больно ты горд, Волочкович. – Голос низкий, густой, хриплый.
Сивый обернулся.
– Сапога ждал? А напрасно. – Рядяша встал у серединного столба, скрестил руки на груди. – Не будет больше сапог. Поиграли, хватит. За один город кровь льем.
Поиграли? Безрод мрачно ухмыльнулся. Как все просто! За один город кровь льем! Сивый доковылял до серединного столба и встал напротив бугая Рядяши. Молча нашел глаза молодца, и взгляд Сивого получился красноречивее слов.
Рядяша конфузливо потупился.
– Вылежал бы себя. – Прям подошел ближе. – Ведь не подарок Брюнсдюр. Сам знаю.
– Тебе-то что за печаль? – усмехнулся Безрод.
– А есть мне печаль, когда хороший человек сам себя губит! – Прям покачал головой. – Не ершись. Дураков на свете больше, чем кажется. На всех зла не удержишь. Вот тебе моя рука. Хочешь – пожми, хочешь – нет.
Сивый долго смотрел на протянутую руку, наконец отвернулся и пошел к себе. Дружинный так и остался с протянутой рукой.
– Думаешь, не знаем, отчего на пепелище ночевал? Под княжью крышу не захотел идти? – Прям говорил в спину без злобы, просто с горечью. – Зло таишь, от людей хоронишься. Как бы один не остался.
И без того один остался. Хуже не станет. А ты, Прям, не марайся, руку тебе не пожму. Не иди против князя, не наживай из-за меня злосчастья. Пожмешь мне руку, а в один прекрасный день все же решит Отвада жизни лишить, да на тебя укажет. Что делать будешь? Станешь веревку на моей шее затягивать и душу пополам рвать.
Ночью Безрод опять стал плох. Метался в бреду, пел, всех переполошил. Бессильные что-либо сделать, раненые ворочались и слушали. Хорошо, что пел Сивый негромко, что-то спокойное вроде колыбельной. И лишь Коряга, измученный бессонницей, с горящими от бешенства глазами подскочил с ложа, схватил нож и ринулся к Безроду. Но путь млечу преградили Щелк и Сдюж. Коряга опомнился, сдул щеки, вернулся на место. А когда Безрод запел про тихую ночку, про теплый ветерок, уснули все, даже Коряга. Глубоко в ночи пришел старый Урач, напоил Безрода горячим отваром и укрыл потеплее.
Утром полуночники двинулись на приступ. Сивый пришел в себя, лишь когда в амбар, грохоча, ввалились вои и, сняв шлемы с пустующих мест, положили раненых. Мрачные, нелюдимые, они тащили друг из друга стрелы и помогали перевязываться. Безрод молча ждал, пока из Моряя вынут стрелу – вошла в шею, но неопасно, – перемотают полотном, и лишь тогда подошел.
– Князь где?
– Слег. Порублен. – Говорил Моряй тяжело, еле слышно. – Но даже порубленный улыбается.
– Их все так же много?
– Уже поменьше. Один-втрое, а то и вдвое. Тоже не зря хлеб едим.
– Денька три еще простоите?
Моряй закрыл глаза. Может, да, а может, нет. Сивый огляделся. Кто еще вчера на ногах стоял, теперь лежмя лежит. Каждый день в городе зажигают погребальные костры. Порубленных находников кладут в ноги павшим защитникам. Сегодня ты зажигаешь костер под соратником, завтра под тобой зажгут. Безрод вышел во двор. Как там нынче Тычок? Должно быть, обезумел старик от запаха боли. Вот уж чего в избытке! Закачало. Сивый прислонился к столбу и ждал, пока не прояснится перед глазами. Выходит, в самом удачном раскладе один-вдвое. Помощи ждать неоткуда. Так или иначе погибать, но уж лучше отпустить дух в бою, чем от голода.
– Чего задумался? Того и гляди, от умных мыслей лоб треснет. – Стюжень вразвалку подошел ближе и без сил рухнул на бревно у столба. Держался за бок, но никаких рук не хватит зажать такую рану. – Вот передохну малость – и к раненым подамся. Вот только передохну…
Безрод покосился на старика. Самого штопать и штопать, а все туда же!
– Руки дрожат?
Сивый взглянул на огромные руки верховного. Вроде не дрожат, а то сам не видит!
– Да не мои, дурень! Твои! Штопать меня станешь.
Безрод поднял с земли жердь, вытянул руки, замер. Перед глазами поплыли звезды, но руки остались тверды. Сивый помог ворожцу встать, и оба неторопливо пошли, один качался, второй шатался. В избе новоявленный ворожец запалил все лучины, все маслянки, из амбара принес лик Ратника, поставил в углу. Заговорил иглы и сухожилия. Старик тяжело дышал, а по широкой скамье уже растеклось озерцо крови.
– Слово скажу. По шее потом дашь, когда встанешь. И не перечь, нынче ты не указ.
Стюжень пил крепкий мед, молчал и только косил налитым кровью глазом. Мол, потом поговорим, ворожец, так твою…
…Безрод обрезал сухожилия, накрыл старика волчьей шубой, сел на лавку у стены, и самого будто выкрали. Даже маслянки не задул. Так и замерли один подле другого – заштопанный старик и ворожец-самоучка. Один на скамье, другой – на лавке у стены, откуда скатился потом на пол. И все равно не проснулся, лишь глухо застонал. Догорели маслянки, изба погрузилась в темень. Заглядывали другие ворожцы, заглядывали воеводы, князь присылал справиться, как там Стюжень.
Сивый очнулся от собственного стона. Послушал дыхание старика, усмехнулся, тихо вышел наружу и, обласканный полной луной, поколченожил к амбару. А когда проходил мимо городской стены, замер. Который день на исходе? Третий? На стенах всегда кипела жизнь, кто-то нес дозор, кто-то точил оружие. Безрода узнали, поздоровались, как с равным. Сивый тяжело поднялся на стену, приложил руки к губам и крикнул, что было мочи:
– Э-э-э-й! Брюнсдюр-ангенн, никак спишь?
Стан полуночников недолго молчал. Из темноты прилетел низкий, могучий голос:
– О да, седой боян, я узнал тебя.
– Я уж думал, спишь. Не ранен ли, Брюнсдюр-ангенн? Хорошо ли почивалось?
– Нет, боян, я не ранен.
– Жду тебя на плесе через день. Застоялся что-то. Скучно.
Брюнсдюр помолчал.
– Хорошо. Я ждал. Не пей, боян, холодного молока. Береги горло. Прошу.
– И ты, Брюнсдюр-ангенн, зазря не подставляйся! И не подходи близко к реке. Сыро, как бы голос не сел.
С того берега реки по морю лунного света приплыл зловещий, раскатистый хохот. Безроду смеяться не хотелось, от боли в боку едва не плакал, но парни, окружившие со всех сторон, смотрели с тайной надеждой. Сивый натужно, деланно расхохотался. Вои, стоявшие ближе всех, отпрянули. Так и слуха лишиться можно. Безрод смеялся с грустным лицом, и силу для смеха черпал не в веселье, а в боли. Отсмеявшись, едва не падая, сполз по бревнам на тесаный настил. От натуги перед глазами зацвело, чисто летом на заливном лугу.







