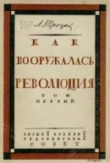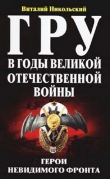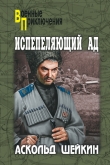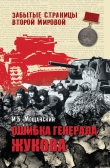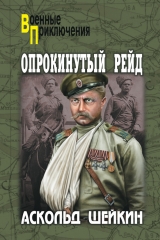
Текст книги "Опрокинутый рейд"
Автор книги: Аскольд Шейкин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Иди. Ничего мне не нужно.
Еще раз оценивающим взглядом окинув его, парень запрыгал по тротуару.
– Любезный друг, – услышал Шорохов.
Он обернулся: Чиликин и Митрофан Степанович. Стоят в трех шагах. И эти тут же!
– Могу поделиться приятной новостью, – редактор-издатель «Черноземной мысли» счастливо улыбался. – Моя газета завтра выходит. Пока напечатанная на ремингтонах, но через два дня появится номер типографский, со всеми, как говорится, онёрами… Кто были господа, с которыми вы только что беседовали? – спросил он. – Я имею в виду тех, с кем вы общались еще до того голодранца, от которого так шарахнулись… Боже! Я только теперь разглядел. Кто вас? Где? Понимаю – сейчас вы готовы бежать от любого.
Шорохов нашел в себе силы отозваться в том же тоне:
– Полагаете, мне все тут знакомы?
Чиликин иронически поклонился:
– Зачем же все? Я – газета! Господин во френче со стеком – сэр Бойль; господин во френче без стека – сэр Декстр. И тот и другой – англичане, артиллерийские офицеры, прикомандированные к корпусу Мамонтова британской миссией в Новочеркасске. Мой вопрос о них – для проверки. Пристрелка, как говорят в таких случаях. Третий – вот кто предмет моего внимания.
«Англичане. Прикомандированы к корпусу. Все точно», – отметил про себя Шорохов.
– Так кто же он, третий? – повторил Чиликин.
– Как это кто? – Шорохов обратился к Митрофану Степановичу. – Ваш Николенька. Николай Николаевич Мануков.
– Какой же Николенька, – возмущенно сказал Митрофан Степанович. – Ошибаетесь. Или шутите над стариком. Конечно, годы прошли, но…
– Ах вот как! – почти одновременно с ним воскликнул Чиликин. – А прибыл-то он в вашей компании?
Что все это могло означать? Мануков не тот, за кого себя выдает? Шорохову ничего не хотелось ни спрашивать, ни отвечать. Скорее бы вернуться в дом, лечь.
Его собеседники тоже молчали.
– А потом генералы отбудут, отбудут, – мрачно произнес Чиликин. – Блеск потускнеет… Знаете, что всего удивительней? Штаб корпуса в Козлов так и не входил. Почему? Хотелось бы задать этот вопрос господину, о котором мы сейчас говорили. И учтите: ему-то известно все.
Он торопливо простился и пошел вниз по улице. Провожая его глазами, Шорохов думал: «Итак, Мануков – самозванец. То, как он познакомился с варенцовской дочкой, ложится тут кстати. Но ведь мало того! Для истинного купца вся его гордость: “Мой товар… Моя лавка… Моя, еще от дедов, фамилия…” А тут?.. К тому же знакомство с британскими офицерами, беседа в усадьбе с полковником, допрос, который он мне там устроил… Какой там купец! Он, как и я, секретный агент. Только из белых. В этом и дело».
– Пошли-ка, сударь, домой, – оборвал его думы Митрофан Степанович. – А то маешься-маешься…
Перед ужином через посредство Митрофана Степановича Шорохов купил у некоего Павла Ивановича Шилова пачку акций. По номиналу это было на девяносто тысяч рублей – довольно толстая кипа, в том числе и два десятка тульских. Отдал он за все это шесть тысяч, правда, николаевскими, то есть самыми дорогими из русских денег, ходивших в белом тылу. Зато на именных акциях Шипов сделал передаточные надписи, акции на предъявителя сопроводил распиской, хотя этого и не требовали обычные правила.
– Вам исключительно повезло, – уверял Митрофан Степанович, в домашнем кабинете которого все это происходило. – Золотое дно! Со временем богатейшим человеком станете. Сегодняшний день, прямо скажу, навсегда вас счастливым сделал.
– Обстоятельства. Разве б я стал? – вторил ему Шипов. – Даром отдаю. Любой подтвердит.
Но по виду его было ясно, что он нисколько не огорчен. Шорохов же, рассовав по карманам пиджака пачки разноцветных листов, и действительно почувствовал себя гораздо уверенней.
Ввалились Варенцов и Нечипоренко. По-хозяйски шумно прохаживались по комнатам, повторяли:
– Оч-чень, очень благополучно… Оч-чень…
– На денек бы пораньше…
– Но и так уже оч-чень, оч-чень…
Подали ужин. И только стали есть – заламывая руки, в гостиную вбежала Варвара Петровна.
– Господи правый! – кричала она. – Казаки! Нехристи!
Митрофан Степанович поднялся из-за стола:
– Что городишь? Казаки – да нехристи?
Но в гостиную уже ворвалось с десяток калмыков в высоких меховых шапках, с кривыми шашками. Митрофан Степанович натужно закричал:
– Я член городской управы! Если немедленно не покинете моего дома, завтра же принесу жалобу главному коменданту города есаулу Кутырину!
– Эй! – взмахнул нагайкой один из ворвавшихся. – Давай комиссара, бачка! Комиссара где прячешь?
– Какого комиссара? – еще громче закричал Митрофан Степанович. – О чем говоришь, халда!
Шорохов продолжал сидеть за столом. Если пришли за ним, то момент выбран самый неподходящий. Он и без нагана-то руку может поднять лишь с трудом.
– Деньги давай! – заорали налетчики сразу в несколько голосов. Требование выдать комиссара уже было забыто. Рылись в шкафах, буфетах, срывали занавеси с окон, валили на них все, что подворачивалось под руку, стягивали в узлы. Варвара Петровна жутко вопила где-то в глубине дома.
В дверях вырос Мануков. Позади него стояли два офицера. Налетчики, ни слова не говоря, побросали на пол узлы, вышли из комнаты. Офицеры последовали за ними. Мануков же, ни на кого не обращая внимания, сел к столу, закрыл глаза. Шорохову было непонятно, почему он ведет себя так. От усталости? От необходимости срочно принять какое-то нелегкое для него решение? От нежелания видеть весь этот разгром в доме, наконец?
Мануков встал.
– Простите, господа, – сказал он. – Должен огорчить. Завтра утром нам предстоит ехать дальше.
– Завтра? – визгливо переспросил Нечипоренко, тоже сидевший у стола. – Хоть уж с обеда. Еще и половины дела не сделано.
– Не просто утром. Едва рассветет.
В этот момент Митрофан Степанович, багровый, с всклокоченной бородой, натыкаясь на стулья, покинул комнату. Варенцов ушел вслед за ним.
– В вашем, Христофор Андреевич, распоряжении еще вечер и ночь. Да и день, надеюсь, не был потерян, – Мануков говорил, глядя на дверь, за которой Варенцов и Митрофан Степанович скрылись, затем обернулся к Шорохову: – Как себя чувствуете?
– Уже ничего. Но если ехать весь день… У меня, по-моему, перелом ребра.
– Сочувствую. От вас, впрочем, потребуется только сидеть в экипаже. Это лучшее, что я могу вам пока предложить. Не так ли?..
Когда они остались вдвоем в отведенной им комнате, Мануков продолжил разговор.
– Ну а ваши успехи? – он требовательно смотрел на Шорохова. – Разумеется, кроме тех, что отпечатались у вас на физиономии. Тоже с головы до ног засыпались сахаром? Тайные склады, шифры… Или по-прежнему лишь ходите, смотрите? Поучать я никого не собираюсь, но все же?
Шорохов не отозвался. Слова Манукова подтверждали, что он и в самом деле никакой не купец. Возмущаться чужой пассивностью? Да это же благо! Меньше еще одним конкурентом… Купец ни думать, ни говорить так не будет. Как, впрочем, и не станет оправдываться, почему какой-либо товар не купил и вообще почему, хотя другие уже вовсю разворачиваются с торговлей, он «лишь ходит, смотрит». И стоит ли поэтому сейчас ему отвечать?
Но главной причиной, почему Шорохов промолчал – слова в конце концов нашлись бы, – было другое. Как раз в эту минуту он начал снимать пиджак и тут обнаружил, что у него на шее нет галстука! Он сразу вспомнил: перед тем как перебинтовывать ему грудь, парикмахер снял его и положил на столик. И Шорохов был тогда в таком состоянии, что потом про это забыл. Что же делать теперь? Вернуться, поднять старика с постели? Пугать? Давать деньги? А если он ночует где-нибудь в другом месте? Перебудоражить весь город? И, конечно, привлечь к такой подробности в своей одежде внимание Манукова? Тот сразу поймет, в чем дело. Он ведь тоже агент.
«Другой галстук у меня есть, – попытался успокоить себя Шорохов. – Есть и заколка. Латунная. Но издали кто отличит? Однако сколько я был без знака? Часа три. Повезло».
– Да что с вами, друг мой, – ворвался в его сознание все так же требовательный голос Манукова. – Вы меня вовсе не слушаете. Зря. Хотите новость? Хотите! Хотите! Я вижу!.. Завтра состоится военный совет корпуса. И знаете где? В Кочетовке. А это где? Отсюда в двенадцати верстах. Опять же – в каком направлении? Ах, тоже не знаете? На Рязань. Рязань! В сторону Москвы. Вас это устраивает?
– Меня больше бы устроила Тула, – ответил Шорохов, распрямляя повешенный на спинку стула пиджак, а на самом деле едва заметно заминая его лацканы. – И притом еще, чтобы этот город заняли в большем порядке, чем Козлов. Его все-таки потрепали.
– Вот тебе раз! Но какая сила туда вас влечет? Может, у вас там душа-девица?.. Я жду! Что там у вас в самом деле?
Как и тогда на рассвете, в усадьбе, он вновь заговорил тоном допроса. Секунду Шорохов колебался. Отвечать? Сказать, что в кармане пиджака у него тульские акции? Какой смысл!
Просительно улыбнувшись, он прилег на отведенный ему диван.
– Спать, – произнес Мануков и погасил керосиновую лампу. – Собачья жизнь. Настоящая постель впервые за трое суток. Недолго и заболеть.
Шорохов проснулся, едва начало светать. Кровать Манукова уже пустовала. По тому, как висел пиджак, сомнений не оставалось: его обыскивали. Складки на нем были и теперь, но не те, которые Шорохов оставил вчера. Это значило: все тогда делал он правильно.
В шесть часов выехали.
Дорога пылила. Ветра не чувствовалось, экипаж поэтому окутывал запах конского пота. От тряски и усталости тоска по глубокому вдоху опять начала томить Шорохова. Болело сердце, ничто не казалось милым, и в то же время следовало внимательно вслушиваться в то, о чем говорил Мануков. А он в это утро был не только подчеркнуто внимателен к Шорохову – и за завтраком, и здесь, в экипаже, – но и необыкновенно многоречив. Словно бы истосковался по возможности хоть кому-то излить душу.
– …Козлов, надо признаться, в чем-то надежд Мамонтова не оправдал. Да-да, это так! Во-первых, бой за него очень уж затянулся, и, пока город не обошли с севера, ничего не удавалось сделать. Во-вторых, штаб Южного фронта красных, уезжая, взял с собой даже цветы в горшках. Значит, не бежали из-за угрозы захвата, а нормально передислоцировались, причем последние вагоны ушли всего за трое суток до прихода корпуса. Отдав Мамонтову приказ ударить сперва по Тамбову, генералы Деникин и Сидорин элементарно прошляпили. Понять их можно: ворваться в губернский город! Как это было заманчиво! А жаль. Мамонтов, теперь очевидно, способен на большее… Центральный узел связи, правда, накрыли, но, по сравнению с возможностью захватить штаб всего фронта, мелочь. И еще одна странность: на железнодорожной станции взрывали вагоны с патронами и снарядами, сталкивали друг с другом паровозы, рушили мосты. Пусть бы в пылу боя, так нет же! После того как город был полностью занят. Курочить собственную территорию?.. Что-то очень уж чисто казацкое. Но есть и удача. Громадная. Вы не забыли встречу с полковником в усадьбе возле Тамбова?
– Конечно.
– Знаете, кто это был?
– Помилуйте! Откуда?
– Я вам скажу. Начальник штаба корпуса Калиновский. Помните, что он говорил о новой власти, сразу же возникающей в освобождаемых корпусом местностях? И вот пожалуйста: в этом городе уже сами собой восстановились земская и городская управы, сформировались добровольческие части Армии русской дружины, образовалась полиция. Мало того! Издается газета. Я вчера видел материалы для первого номера. В них искреннейшая готовность всех слоев населения этой власти служить. Или, вернее, старой – той, какая была здесь до большевиков, что как раз и является самым отрадным.
«Значит, Чиликин до тебя все же добрался, – подумал Шорохов. – Очки тебе втер».
Мануков продолжал с прежним подъемом:
– И вот теперь мы спешим. Куда? Зачем? Отвечу: присутствовать при историческом событии. Тамбов, Козлов были города с местными гарнизонами. Слабо вооруженными, низкой боеспособности. Теперь, впервые за все дни рейда, на пути корпуса окажутся регулярные части армии красных – московские, испытанные в сражениях, и произойдет это возле маленького безвестного городка с романтическим названием Раненбург… О Красной армии много сейчас говорят. И в России, и на Западе. И какие слова! «Фанатичная, самоотверженная»… Но она еще и голодная, разутая, тифозная, с неграмотным командным составом. Вчера в штабе корпуса мне показали захваченные у противника документы: оперативные приказы, написанные каракулями, сводки о материальном состоянии красных полков – да такие, что при чтении их у всякого нормального человека волосы поднимаются дыбом. Если бы это мне предъявили не здесь, прямо на месте, я бы сказал: «Фальсификация». Ради одного этого открытия уже стоило ехать хоть на край света… И думаете, оно было единственным? Вы знаете, что такое английский тяжелый танк? Это линкор, плывущий по суше. Проволочные заграждения, окопы, ружейно-пулеметный огонь ему нипочем. Есть у большевиков танки? Отдельные экземпляры, захваченные в боях, и, уж конечно, нет экипажей, запасных частей. А если взять авиацию? Самолет – идеальный разведчик, молниеносное средство связи. И опять – много ли их у большевиков? Единицы. И разве не то же самое можно сказать о пулеметах, орудиях, бронепоездах? Но другое гораздо важнее. Все, что у красных есть, они сейчас тонкой ниточкой вытянули вдоль линии фронта, и это исчерпывающе доказал своим прорывом Мамонтов. Его рейд – безошибочный пробный камень. Он наглядно свидетельствует цивилизованному миру, насколько непрочна Совдепия. Что, смело перешагнув линию фронта, можно идти без задержки. Что вся ее территория созрела, чтобы принять белую власть. Не будем перечеркивать усилий Добровольческой армии! Она – тоже герой. Но она действует традиционно. Всего лишь теснит фронтовую ниточку красных войск. А здесь, у Мамонтова, рывок, здесь полет. Прямая дорога к сердцу каждого русского. Я счастлив, что вчера смог собственными глазами это увидеть. Как мне сказали, в Козлове осуществился классический вариант установления белой власти. Он и воистину классика. Уверенно, быстро, с точным знанием цели и средств. С полным пониманием ожиданий народа. Всего через несколько дней то же свершится в Рязани. За нею – Москва. Но начало-то этому триумфу будет положено под Раненбургом, куда мы с вами сейчас спешим и где мамонтовский корпус пронижет лучшие части Красной армии с той же легкостью, с какой раскаленный нож пронзает ком сливочного масла, ком снега, если хотите… Раненбург! Счастливейшая судьба! Что об этом крошечном городишке было прежде известно? То лишь, что некогда царь Петр Первый подарил его Александру Меншикову. Но и только. Теперь Раненбург входит в историю. О нем заговорят в Лондоне, Вашингтоне, Париже. Полагаете, в других странах уже сейчас не следят за победами Мамонтова? Вы плохо думаете о западном мире. Сражение под Раненбургом окажется вехой – и, поверьте, одной из важнейших за многие годы. Суд истории неподкупен. Это истина. Его не обжалуешь. Как раз сегодня военный совет в Кочетовке выносит свой гибельный для всего большевизма окончательный приговор…
Глава пятая
Раненбург!
Двадцать пятого августа в Кочетовке и в самом деле состоялся военный совет мамонтовского корпуса. В своих заметках, опубликованных в «Донских областных ведомостях», генерал-майор Попов так повествует об этом: «…Открывая заседание, генерал Мамонтов познакомил присутствующих с общим стратегическим положением фронта и задал вопрос: продолжать ли поход на Москву или идти на соединение с Донской армией?»
Насколько можно судить, речь идет о фронте тех частей Донской и Кавказской белых армий, которые в это время уже отходили под натиском войск группы Шорина, 14 августа начавших наступать в общем направлении на станицу Усть-Хоперскую и Царицын.
Но продолжим свидетельство Попова: «Из обмена мнениями решили оказать непосредственную помощь Донской армии. К этому присоединился и начальник штаба корпуса полковник Калиновский. Генерал Мамонтов, закончив дебаты, объявил, что он вполне согласен со всеми выступлениями…»
Эти утверждения Попова – неправда. Решение, о котором он говорит, было принято вовсе не в Кочетовке, а гораздо позже, уже в последние дни рейда.
Можно также подумать, что на военном совете все было чинно и гладко. На самом деле, за те пять часов, которые он продолжался, стены старого школьного здания в Кочетовке не раз сотрясались от весьма бурных речей.
Да, говорили в этот день много и горячо.
Мамонтов:
– …И сколько же раз я слышал то ненавистное слово! Не было хлеба, плохой ночлег, противник оказал сопротивление – во всем виновата «авантюра». Но скоро обстоятельства изменились. Казаки подбодрились. Среди нихпослышались песни. Вместо слова «авантюра» появилось слово «Москва». Особенно после Тамбова окреп дух казаков. Не зная усталости, стремятся они вперед, верят в победу, и сегодня первый долг полководца – слишком уж осторожным решением не отобрать у них эту победу. Начальник штаба доложит основную идею, которую следует обсудить на совете.
Калиновский:
– …Из картины, которая мной обрисована, проистекает, что до настоящего момента все операции, проводившиеся частями корпуса, представляли собой движение крупной массы войск с незащищенным тылом. В такой обстановке быстрая перемена театра военных действий является решающим обстоятельством для успеха. Этим объясняются наши победы, но также и столь скорое оставление нами Тамбова… Один занятый город, даже достаточно крупный, еще не есть территория для позиционной войны, и потому-то если прежде части корпуса шли в одном, общем для всех направлении, то теперь предусматривается разделение их на две колонны: правую и левую. Выйдя из района Козлова, эти колонны начнут веерообразно расходиться в стороны, с каждым днем охватывая все большую территорию.
Попов:
– …И тогда ближайшая цель правой колонны – Раненбург. Отсюда это всего в семидесяти верстах, но конные разведки, проделав путь втрое больший, уже доходили до Рязани и Тулы. Сомнений нет: нас и там встретят освободителями, как было в Тамбове, Козлове. Однако те же разведки докладывают: местность там бедная. В магазинах, на складах почти нечего брать, коней в деревнях мало. Те, что есть, плохи. Москва, бог даст, за все вознаградит, но до нее триста шестьдесят верст, и версты эти, как видно, будут не только нелегкими по длительности переходов, но и весьма, весьма скудными.
Родионов:
– …Тревожное обстоятельство. Как вам известно, перед своим уходом красные разбрасывают прокламации под названием «Обращение кавалеристов-казаков, обманутых Мамонтовым». И вот именно в пехотных частях отмечено наибольшее число случаев, когда казаки прокламации подбирают, читают, прячут по карманам. В конных частях такое явление наблюдается гораздо реже…
Кучеров, генерал-майор, командир Сводной донской конной дивизии:
– …Тульщина да Рязанщина – край мастеровых, отходников, испокон веков недородный. Да и от Дона это все дальше и дальше. Другое дело Воронежская губерния. По моему суждению, ее-то и следует освобождать в первую очередь.
Постовский, генерал-майор, командир 12-й Донской конной дивизии:
– …Но очевидно – тут я не делаю никакого открытия, – если в полковом обозе у казака есть и собственное добро, то чего ради будет он в красные призывы заглядывать? Забота о сохранности обоза, о его приумножении, о его благополучном прибытии на Дон – это еще и забота о сохранности духа каждого казака.
Толкушкин, генерал-майор, командир 13-й Донской конной дивизии:
– …Такое решение правильно в первую очередь потому, что вся местность, охваченная колоннами, сразу задышит по-казацки. Давно пора. И давно пора признать: обозы уже начинают обременять полки. Снижаются быстрота перемещения и маневренность. Кроме того, хочешь или не хочешь, а десяток казаков от каждой сотни все время крутится возле возов. Я созывал командиров полков: «Что такое?» Отвечают: «Возчики – народ ненадежный. Намобилизованы с бору по сосенке». Верно! Но потому и осмелюсь поставить вопрос: не следует ли безотлагательно отправить обозы на Дон?
Сизов:
– …И таков же строгий приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России: вся территория большевиков – военная добыча. Но это не значит, что в захваченных местностях допустим произвол. Напротив. Наши полки приносят туда истинную законность. А коли так, тогда бесспорно и то, что интендантский отдел штаба корпуса и интенданты дивизий и полков под его руководством представляют собой единственный аппарат, который имеет право учитывать и сберегать реквизированное имущество. Но что же мы видим? В Козлове интендантский отдел был полностью от такой деятельности отстранен. Его обязанности возложили на себя порученцы обоза, состоящего лично при командире корпуса. А результат? Бессмысленно уничтожены огромные материальные ценности, в различных учреждениях бесконтрольно, неизвестно в чью пользу, изымалось содержимое сейфов, в том числе секвестрированные большевиками личные достояния.
Мамонтов:
– Вы забываетесь! Этот обоз – корпусная трофейная казна. Я лишаю вас возможности продолжать. Прошу подчиниться.
Мельников, генерал-майор, командир пешего отряда:
– …Ведь именно пехотинец выносит на своих плечах наибольшие тяготы. На пути к полю боя, на самом этом поле, от огня противника, из-за капризов погоды. В довершение всего в села и города пехотинец неизменно приходит позже, когда там уже побывали кавалеристы. Но даже если пехотинец и подберет какую-либо брошенную вещицу, он сам на себе, изнемогая от собственной своей амуниции, должен ее нести, а не может, как любой конный казак, швырнуть перед седлом. Условия же, в которые по части снабжения корпус поставлен с самого первого часа прорыва, таковы, что приучают казака к мысли: о себе ты только сам позаботишься. Всем остальным…
Мамонтов:
– Благодарю вас. Будьте любезны дальше не продолжать.
Островоздвиженский:
– …И это издревле в традициях казачьего воинства: возвратясь из похода, одаривать православную Христову церковь. Истинно! И пора уже. Пора спросить себя каждому, от рядового казака до прославленного генерала, командира корпуса нашего: «А что возложу я к алтарю храма во славной казачьей столице? Иконы какие? Какие дары на оклады к ликам святых христианских? Чем отблагодарю православную церковь нашу за ее молитвы о здравии и победах наших, о вечном блаженстве воинов во Царствии Божием?» Однако не клевещу ли я по убогому своему неведению? Не есть ли уже и сейчас многое из того, что хранится, сберегается в казачьем обозе, дар Господу нашему? И не воистину ли свято тогда это добро?..
Мамонтов:
– Искренне рад, что присутствующие правильно оценили задачу, которая стоит перед корпусом. Она действительно в том, чтобы всемерно расширять освобождаемую от большевиков территорию. Становиться государством! Я даже так позволю себе выразиться. И значит, далее частям корпуса следует идти как на север, то есть туда, куда это необходимо во имя скорейшего решения главной военной задачи – освобождения Москвы, но и на запад – к городам Ливны, Елец, ради означенного смелого расширения территории. И дело тут не только в том, что у нас достаточно сил для одновременного решения обеих этих задач, но и в том, что лишь тогда нами будет достигаться необходимое сочетание позиционных боев и маневрирования… Прозвучало также: хорошо бы сейчас отправить обозы на Дон, как это было сделано в начале рейда. Моя точка зрения прежняя: чтобы выполнить свою историческую задачу освобождения России от большевизма, корпус должен снабжаться, ничего не реквизируя у обывателя. Иное дело – государственные запасы. И то, что какая-то часть их перешла в личную собственность воинов, объективное обстоятельство. Не считаться с ним невозможно. Минусы: меньшая маневренность полков, снижение скорости передвижения, – однако, как справедливо было замечено, это и дополнительно цементирует корпус. Но коли так, то необходимо, чтобы обоз до последней минуты рейда следовал вместе с войском… И в заключение. Во-первых. Интендантская служба обижена, что не была допущена в Козлов. Это исправлено. Моим приказанием канцелярия подполковника Сизова в качестве главной комендатуры остается в Козлове для наведения там должного порядка. Того самого, о котором подполковник столь сожалел… Во-вторых. В связи с особой важностью наступления на Раненбург командиром сводной колонны, которая двинется в том направлении, назначается генерал Попов с оставлением за ним обязанностей начальника оперативного отдела штаба корпуса. Военный совет закрывается. Всех благодарю.
Каждое из этих высказываний не было искренним.
После Тамбова и Козлова личные обозы Кучерова, Постовского и Толкушкина состояли уже из сотен повозок. И переть со всем своим добром на Москву? Так им рисковать? Да пропади пропадом любые дальнейшие военные планы! К Дону! Домой!.. Ничего больше. И конечно, сейчас уже от обозов своих – ни на шаг.
Попов – тот просто обманывал сам себя. В районах северней Раненбурга склады и магазины были пусты теперь потому, что еще 23 августа тамошние ревкомы получили телеграфное обращение Центрального Комитета Российской Коммунистической партии с призывом не только всемерно усилить вооруженное сопротивление мамонтовцам, но и «угонять с пути следования неприятеля кавалерийских лошадей, скотобазы, увозить хлеб, всякую вообще ношу». Попов знал об этом, но всячески стремился не допустить в свое сознание мысль, что отныне для корпуса начнутся совсем другие времена. Тамбовский успех кружил ему голову.
Сизов сводил личные счеты с Мамонтовым.
Островоздвиженский объявлял награбленное святым, если только хоть какая-то часть его предназначалась в дар церкви.
Верхом лживости были, конечно, выступления Калиновского и Мамонтова. Их рассуждения о выгодах сочетания позиционной и маневренной войны служили всего лишь оправданием для невыполнения ими приказа: прорвав фронт, нанести удар по тылам Лискинской группы красных, а вовсе не увеличивать занятую корпусом территорию за счет любой местности, которую окажется удобно захватить.
После совета Мамонтов пожелал прежде всего приватно поговорить с Поповым. Однако сказал он ему только две фразы:
– Вы – надежда России. Запомните это.
Зато его беседа с Родионовым была значительно более долгой. Тоже наедине. Началась она так:
– Я очень вам верю, Игнатий Михайлович. В том, что вы говорили сегодня на совете, – не только глубокое понимание основных трудностей, с которыми сталкивается корпус, но и, что гораздо важнее, понимание путей их преодоления.
– Однако и вы, Константин Константинович, блистательно провели анализ выступлений. И правильно осекли нашего интендантского сребролюбца. Этакий голубь! А у самого личный обоз больше, чем у всех остальных офицеров штаба, вместе взятых. И еще посмел вмешивать сюда обоз, который при вас состоит! И ведь сам все прекрасно знает!
– Вы правы. Тот обоз – наш общий приз. Собственность всего донского казачества. Убежден: после завершения рейда там найдется моя доля, да и ваша, Игнатий Михайлович. И ваша доля может быть очень значительной. Это справедливо еще потому, что дельному офицеру некогда предаваться собственным материальным заботам.
– Совершенная истина, Константин Константинович.
Наступила долгая пауза. Смотрели друг другу в глаза, молчали. Потом Мамонтов продолжил:
– Прежде я недооценивал вас, Игнатий Михайлович. Вы мне казались, ну, как бы выразить…
– Не слишком гибким, да?
– Пожалуй. Но и еще человеком, с которым невозможен контакт… э-э… за пределами службы. Вот что я хотел сказать.
– Прежде, признаться, и я так думал о вас, – через силу рассмеялся Родионов.
Снова последовала пауза. Наконец Мамонтов кивнул в сторону окна:
– Где сейчас тот господин?
Он не назвал фамилии, но Родионов понял, что речь идет о Манукове. Ответил, взглянув на часы:
– Уже в одной из деревень. Отсюда верст двадцать.
– В каком он настрое?
– В самом восторженном. «Козлов – это блестящее решение проблемы будущего России», – его слова. И лично о вас высокого мнения.
Мамонтов расправил усы.
– Но не передал ли он из Козлова каких-либо донесений?
– Вполне вероятно. Сегодня в Новочеркасск выезжает курьерская группа. С нею проследует один из британских офицеров.
– А-а… Он представлялся мне в связи с отъездом. Его отзывает миссия.
– Совершенно точно. Капитан Бойль. Интересующий вас господин вчера встречался с ним дважды. И уж, во всяком случае, свое суждение ему высказал. То самое, которое я приводил.
– Понимаю, – сказал Мамонтов.
– Чтобы он почему-либо не дополнил его негативностью, поскольку из города наши части уходят, а при этом всегда возможны известные резкости по отношению к местному населению…
– Понимаю… Да-да, понимаю.
– Я посчитал удобным уже на рассвете сегодня устроить отъезд всей их компании из Козлова.
– Разумно.
– Отдохнут пару дней в тихой лесной деревушке. А затем – Раненбург. Лично участвовать в наступлении на него господин этот полагает для себя необходимостью. Развитие событий там предрешено, я посчитал целесообразным дать ему такую возможность. Собственно, потому он и согласился на столь скорый отъезд из Козлова.
– Но – контроль, – выдохнул Мамонтов. – Каждого шага. Лучше – даже каждого движения мысли. Ни на минуту не выпускать из поля зрения.
– Будет сделано.
– Особенно попытки связаться с кем-либо в Екатеринодаре.
– Таганроге, ваше превосходительство. Иностранные миссии уже квартируют там. Пришло известие: ставка тоже туда переходит.
– Пусть в Таганроге. Важно не упустить: у него могут быть собственные каналы сношения.
– Вполне, Константин Константинович.
– Держать под колпаком. Так, кажется, называют это в охранке.
– Что вы, какая же мы охранка?
– Я пошутил… Контроль. И все мне тотчас докладывать.
– Будет сделано. Можете не сомневаться…
В лесной деревушке, куда в этот день привезли компаньонов, местных жителей не было. То ли их выселили, то ли они заранее сами ушли и угнали скотину. Размещалась здесь 2-я сотня 63-го полка Сводной донской дивизии. Теснились в избах невероятно. Тем не менее их четверке отвели отдельный дом. В одной его половине поселились они, в другой – десяток прикомандированных к ним казаков во главе с Павлом Ивановичем Дежкиным, юношей лет девятнадцати, сероглазым, с тонкой талией, перехваченной широким ремнем. Держался юноша этот застенчиво, в разговоре нередко краснел. Компаньоны сразу начали величать его просто Павлушей. По званию был он всего лишь хорунжий; погоны, ремни с кобурой, сапоги, гимнастерка, брюки – все это на нем было с иголочки.
– Наш генерал – орел! – говорил он о Мамонтове. – И казаки – орлы. Правда?