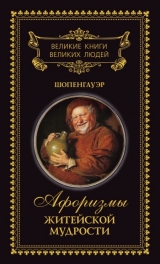
Текст книги "Афоризмы житейской мудрости"
Автор книги: Артур Шопенгауэр
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Глава третья. О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ
Великий учитель счастья, Эпикур, вполне правильно разделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые, это те, которые причиняют страдания, если их не удовлетворить. Сюда относятся лишь одежда и пища. Удовлетворить их – не трудно. Во-вторых, потребности естественные, но не необходимые, такова потребность в половом общении (правда, Эпикур об этом не говорит, но вообще я передаю здесь его учение в несколько исправленном, подчищенном виде). Удовлетворить ее уже труднее. В-третьих, потребности не естественные и не необходимые, таковы роскошь, богатство, блеск, число их бесконечно и удовлетворить их крайне трудно (См. Diog. Laert. X, с. 28, §§ 149 и 127).
Определить границу разумности наших желаний в отношении к собственности – трудно, если не невозможно. Удовлетворенность человека в этом направлении обусловливается не абсолютной, а относительной величиной, а именно отношением между его запросами и его состоянием. Поэтому, это последнее, рассматриваемое отдельно, говорит так же мало, как числитель дроби без знаменателя. Отсутствие благ, о которых человек и не помышлял – не составит для него лишения: он и без них может быть вполне довольным, тогда как другой, имеющий в сто раз больше, чувствует себя несчастным из-за того, что у него нет чего-либо, в чем он имеет потребность. У каждого в этом отношении есть свой особый горизонт благ, которых он мог бы достичь, и потребности его не выходят за пределы этого круга. Если какой-либо из находящихся в нем объектов примет положение, вызывающее уверенность в его достижении – человек счастлив, он несчастлив, если какие-либо препятствия лишат его этой уверенности. Все, расположенное вне этого горизонта – для человека безразлично. Поэтому бедняка не смущают огромные состояния богачей, а с другой стороны, богачу не доставит утешения, при какой-либо неудаче, даже то многое, что у него есть. Богатство подобно соленой воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. Это относится и к славе.
Если, лишь только минует первая боль после потери богатства и вообще состояния, наше настроение делается приблизительно таким же, каким было раньше, то это оттого, что как только судьба уменьшила один фактор – состояние, мы сами тотчас же сокращаем другой – наши потребности. При постигшем несчастии эта операция чрезвычайно болезненна, зато, как только она совершена, боль начинает стихать и в конце концов пропадает – рана зарубцовывается. Наоборот, при счастливом событии, пресс, сокращающий наши потребности, приподнимается и они начинают расти, в этом заключается радость. Но длится она лишь до тех пор, пока не закончится этот процесс, мы привыкаем к увеличенному масштабу наших потребностей и становимся равнодушными к соответствующему ему состоянию. Мысль эту можно найти и в Одиссее Гомера (XVIII, 130 1377).
Источник нашей неудовлетворенности заключается в наших постоянных попытках увеличить один фактор – потребности оставляя другой фактор без изменений.
Неудивительно, что в таком нуждающемся, как бы сотканном из потребностей роде, каков род человеческий, богатство ценится, даже уважается больше и откровеннее, чем все другое, даже власть служит лишь средством к этой цели, неудивительно, далее, что имея в виду обогащение, люди все остальное презирают и отбрасывают в сторону, такова, в частности, участь философии в руках ее профессоров.
Часто упрекают людей за то, что их желания направлены главным образом на деньги, которые им милее всего. Но ведь вполне естественно, даже неизбежно любить то, что, подобно неутомимому Протею, способно в каждый момент превратиться в любой объект наших столь капризных желаний и разных потребностей. Всякое другое благо может удовлетворить лишь одну потребность, одно желание: еда важна лишь для голодного, лекарства – для больного, вино – для здорового, шуба – для зимы, женщины – для молодежи и т. д. Все эти блага относительны, лишь деньги – абсолютное благо, так как они удовлетворяют не одну какую-либо потребность in concreto, а всякую потребность – in abstracto.
На имеющееся у нас состояние следует смотреть, как на ограду от всевозможных бед и напастей, а не как на разрешение или даже обязательство купаться в удовольствиях. Люди, не получившие наследства, и достигшие благодаря тем или иным талантам, возможности много зарабатывать, почти всегда начиняют ошибочно считать свой талант – основным капиталом, а приобретаемые через его посредство деньги – прибылью. Поэтому они из заработка не откладывают ничего с целью составить неприкосновенный фонд, а тратят все, что удается добыть. Обычный результат этого – нищета, их заработок прекращается или после того, как исчерпан их талант, если это талант временный (как, напр., в искусствах), или же потому, что исчезли особые условия, делавшие данный талант прибыльным. В весьма благоприятных условиях находятся ремесленники: способность к ремеслу теряется не легко, или же может быть заменена работою помощников, а к тому же их изделия суть предметы необходимости, и следовательно, всегда найдут сбыт, вполне справедлива поговорка – «ремесло – это мешок с золотом». Не так обстоит дело с художниками и разными артистами, именно поэтому им и платят так дорого. Но поэтому же зарабатываемые ими средства должны считаться капиталом, они же, к сожалению, видят в них прибыль и таким образом сами идут к нищете.
Напротив, люди, получившие наследство, отлично знают, по крайней мере в начале, что составляет капитал, и что – прибыль. Большинство постарается надежно поместить капитал, не будет его трогать, а даже, при возможности, станет откладывать хотя 1/8 дохода, чтобы обеспечить себя на черный день. Поэтому обычно такие люди остаются состоятельными.
Сказанного нельзя применять к купцам: для них сами деньги служат, подобно рабочим инструментам, средством дальнейшего обогащения, поэтому они, даже если деньги добыты ими самими, желая сохранить и приумножить их, будут пускать их в оборот. Ни в какой среде богатство не встречается столь часто, как в этой.
Можно сказать, что по общему правилу люди, испытавшие истинную нужду, боятся ее несравненно меньше и поэтому более склонны к расточительности, чем те, кто знаком с нуждой лишь понаслышке. К первой категории принадлежат люди, благодаря какой-либо удаче или особым талантам быстро перешедшие из бедности к богатству, ко второй – те, кто родился состоятельным и остался таким. Обычно эти последние больше заботятся о своем будущем и потому экономнее первых. Это наводит на мысль, что нужда не так уж тяжела, как она издали кажется. Однако, вероятнее, что истинная причина здесь другая: тому, кто вырос в богатстве, оно представляется чем-то необходимым, предпосылкой единственно возможной жизни – так же, как воздух, поэтому он заботится о богатстве не меньше, чем о своей жизни, а следовательно, окажется, вероятно, аккуратным, осторожным и бережливым.
Напротив, для человека, выросшего в бедности, она кажется естественным состоянием, а свалившееся ему каким-либо путем богатство – излишком, годным лишь для наслаждений и мотовства, исчезло оно – человек обойдется и без него, как обходился раньше, да к тому же спадет с плеч лишняя забота. Здесь уместно вспомнить слова Шекспира: «Должна оправдываться поговорка, что сев верхом, коня загонит нищий» (Henry VI, Р. 3. A.I).
К этому надо прибавить, что долго жившие в нужде люди питают чрезмерное доверие отчасти к судьбе, отчасти к собственным силам, помогшим им уже раз выбраться из бедности, они верят в это не столько разумом, сколько душою, и поэтому не считают, подобно родившимся в богатстве, нужду какою-то бездонною пропастью, а полагают, что стоит лишь толкнуться о дно, чтобы снова выбраться наверх. Этой оригинальной чертой объясняется, почему женщины, выросшие в бедности, становятся, после замужества, часто расточительнее, чем те, которые принесли богатое приданое: обычно богатые девушки бывают снабжены не только деньгами, но и унаследованною склонностью к сохранению богатства. Кто полагает противное, найдет себе поддержку у Ариосто, в 1-й сатире, д-р Джонсон склоняется к моему мнению: «Богатая женщина, привыкшая распоряжаться деньгами, тратит их разумно, той же, которая впервые получает в руки деньги лишь после замужества, так нравится тратить их, что она способна промотать все» (S. Boswell, Life of Johnson). Во всяком случае я советую тому, кто женится на бесприданнице, завещать в ее распоряжение не капитал, а лишь доходы с него, а в особенности следить, чтобы состояние детей не попало в ее руки.
Не думаю, что опозорю мое перо, если посоветую заботиться о сохранении заработанного и унаследованного состояния… Обладать со дня рождения состоянием, дающим возможность жить, хотя бы без семьи, только для самого себя, в полной независимости, т. е. без обязательного труда – это неоценимое преимущество. Состояние – это иммунитет, гарантия против присущих человеческой жизни нужды и горестей, избавление от кабалы, составляющей удел всех сынов земли. Лишь с этим даром судьбы можно родиться действительно свободным, лишь в этом случае человек полноправен, хозяин своего времени и вправе каждое утро говорить: «этот день – мой». Вот почему разница между получающим тысячу и сто тысяч рублей дохода несравненно меньше, чем между первым и тем, кто не имеет ничего. Высшую ценность наследственное состояние приобретает тогда, если оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка и преследующему цели, не имеющие ничего общего с обогащением. Свой долг людям один отплатит сторицею, создавая то, на что никто кроме него не способен, и что послужит к благу и чести всего человечества. Другой, при этих благоприятных условиях, окажет людям услуги на почве филантропической деятельности. Тот же, кто при унаследованном богатстве не окажет, не попытается оказать ни одной из этих услуг, и даже не постарается серьезным изучением какой-либо науки найти способ подвинуть ее вперед, тот ничто иное, как достойный презрения тунеядец. Счастлив он не будет: избавившись от нужды, он попадает на другой полюс человеческого горя – во власть скуки, настолько тяжелой, что он был бы рад, если бы нужда вынудила его заняться чем-либо. Скука эта легко может склонить его к излишествам, которые уничтожат в конце концов то преимущество, коего он оказался недостойным – богатство. Множество людей бедны лишь потому, что, имея деньги, они тратили их без остатка, чтобы хоть на миг заглушить давящую их скуку.
Иначе обстоит дело, если целью становится преуспевание в государственной службе, для чего надо иметь доброе имя, друзей и связи, через посредство коих можно постепенно добиться повышения вплоть до высших должностей, для этого, пожалуй, в сущности выгоднее начать жизнь без всякого состояния. Бедность послужит особенным преимуществом, как бы рекомендацией для того, кто, не будучи дворянином, наделен порядочными способностями. Ибо то, что любит, к чему стремится каждый, даже в беседе, а тем паче на службе, это свое превосходство над другими. Бедняк же убежден, проникнут сознанием своего полного, глубокого, всестороннего ничтожества, своей совершенной незначительности и малоценности в той именно мере, в какой это требуется для службы. Лишь он будет достаточно часто и низко кланяться, и сгибать свою спину до полных 90 градусов, только он позволит делать с собою что угодно, и улыбаться при этом, он один будет открыто и громко, хотя бы печатно возводить в шедевры литераторские мысли, выписываемые его начальниками и вообще влиятельными людьми, он один умеет выпрашивать, следовательно, только он усвоит вовремя, т. е. в юности, ту сокровенную истину, которую Гете выразил в стихах:
Übers Niederträchtige Niemand sich beklage Denn es ist das Mächtige Was man dir auch sage.[7]7
Не стоит досадовать на людскую низость: что бы о ней ни говорили, она – сила.
[Закрыть]
Наоборот, человек, имеющий достаток из дому, будет вести себя крайне упрямо: он привык ходить tête Levée, не умеет низкопоклонничать, и к тому, быть может, притязает на талант, не понимая, как он ничтожен в глазах царящей посредственности и приниженности, он способен, пожалуй, возмыслить, что поставленные над ним власти в сущности ниже его, когда же дело касается какой-либо низости – он становится мнительным и строптивым. На этом в жизни далеко не уедешь, и надо думать, что он придет в конце концов к выводу дерзкого Вольтера: «мы живем всего несколько дней, и не стоит проводить их пресмыкаясь пред „coquins méprisables“, к сожалению, к сказуемому „coquins méprisables“ на свете имеется дьявольски много подлежащих. Поэтому слова Ювенала: „Трудно выказать свои добродетели для тех, кто стеснен домашними обстоятельствами“ – применимы более к судьбе выдающихся людей, чем к уделу заурядных смертных.
Говоря о том, что имеет человек, я не считал его жены и детей, так как скорее он сам находится в их руках. С большим основанием можно упомянуть о друзьях, однако и здесь субъект является в равной мере и объектом обладания.
Глава четвертая. О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ЧЕЛОВЕК
То, что мы собой представляем, т. е. мнение других о нашей жизни, ценится обычно, по слабости человеческой натуры, непомерно высоко, хотя малейшее размышление показывает, что это мнение само по себе несущественно для нашего счастья. Мудрено постичь, почему человек испытывает такую сильную радость, когда он замечает благосклонность других или когда как-нибудь польстят его тщеславию. Как кошка мурлычет, когда ее гладят, так же стоит похвалить человека, чтобы его лицо непременно засияло истинным блаженством, похвала может быть заведомо ложной, надо лишь, чтобы она отвечала его претензиям. Знаки чужого одобрения нередко утешают его в реальной беде и в той скупости, какую проявляют для него два рассмотренных выше источника счастья. С другой стороны, достойно изумления, какую обиду, какую серьезную боль причиняет ему всякое оскорбление его честолюбия, в каком угодно смысле, степени, направлении, всякое неуважение, «осаживание» или высокомерное обращение.
Поскольку на этих свойствах основано чувство чести, они оказывают, в качестве суррогата нравственности, благотворное влияние на порядок человеческого общения, но свойства эти неблагоприятны, служат препятствием собственно для счастья людей, и прежде всего для столь существенных для него спокойствия духа и независимости. Поэтому с нашей точки зрения представляется необходимым поставить этим свойствам известные границы и, путем размышления и правильной оценки различных благ, по возможности умерить чрезмерную чувствительность к чужому мнению, как в том случае, если нам льстят, так и тогда, когда нас порицают, ведь и то и другое имеет один и тот же источник. Иначе мы станем рабами чужих мнений и настроений: «так пусто и мелко то, что угнетает или радует душу, жаждущую похвал».
Верная сравнительная оценка того, что такое человек сам по себе и того, чем он является в глазах других – будет много способствовать нашему счастью. К первому относится все, что заполняет нашу личную жизнь, ее внутреннее содержание, а следовательно, все блага, рассмотренные нами под рубриками: «что такое человек» и «что человек имеет». Местом, служащим сферой действия этих моментов, является собственное сознание. Напротив, то, чем мы являемся для других – проявляется в чужом сознании, это наш образ, создавшийся в нем, наряду с представлениями, к нему применяемыми.[8]8
Высшие классы с их блеском, роскошью, великолепием и разного рода тщеславием могут сказать: наше счастье всецело вне нас, его центр – головы других людей».
[Закрыть] Чужое же сознание существует для нас не непосредственно, а лишь косвенно, поскольку им определяется поведение других по отношению к нам. Но даже и это последнее важно, в сущности, лишь в той мере, в какой оно способно влиять на изменение того, чем мы является сами по себе и для себя. К тому же все происходящее в чужом сознании само по себе для нас безразлично, мы сами к этому равнодушны, лишь только ознакомимся с поверхностью и пустотой мыслей, с ограниченностью понятий, с мелочностью помыслов, с извращенностью взглядов и с заблуждениями, присущими большинству людей, и познаем, вдобавок, на личном опыте, каким презрением люди готовы обливать каждого, раз его нечего бояться или если можно надеяться, что это до него не дойдет, в особенности, если нам доведется услыхать, как полдюжины баранов пренебрежительно поругивают выдающегося человека. Вот когда мы поймем, что ценить высоко мнение людей – будет для них слишком много чести!
Кто не может найти счастья в двух рассмотренных разрядах благ, т. е. в том, что он такое в действительности, а принужден обратиться к третьему, к тому, чем он является в чужом представлении, для того остался крайне скудный источник счастья. Базисом нашего существа, а следовательно и нашего счастья служит животная сторона нашей природы. Поэтому для благоденствия существеннее всего здоровье, а после него средства к жизни, т. е. доход, могущий избавить нас от забот. Честь, блеск, чин, слава, какую бы ценность мы им ни приписывали, не могут ни соперничать с этими подлинными благами, ни заменять их, в случае надобности мы не задумываясь пожертвовали бы ими ради подлинных благ.
Много даст для нашего счастья, если мы вовремя усвоим ту нехитрую истину, что каждый, прежде всего и в действительности, живет в собственной шкуре, а не во мнении других, и что поэтому наше личное реальное самочувствие, обусловленное здоровьем, способностями, доходом, женой, детьми, друзьями, местом пребывания – в сто раз важнее для счастья, чем то, что другим угодно сделать из нас. Думать иначе – безумие, ведущее к несчастью. Восклицать с энтузиазмом: «честь выше жизни», значит в сущности утверждать: «наша жизнь и довольство – ничто, суть в том, что думают о нас другие». Такое утверждение может рассматриваться разве как гипербола, построенная на той прозаической истине, что честь, т. е. мнение людей о нас, часто весьма необходима для жизни среди людей, к этому, однако, я вернусь позже. Когда же мы видим, что почти все, к чему люди стремятся всю свою жизнь, с крайними напряжениями, ценою тысячи опасностей и огорчений, имеет конечною целью возвысить их во мнении других, ибо ведь не только к чину, титулу, к орденам, но и к богатству, даже к науке и искусству люди тяготеют главным образом ради этой цели, когда мы видим, что уважение других возводится на степень высшей цели, к какой стоит стремиться – нам становится ясной неизмеримость человеческой глупости.
Придавать чрезмерную ценность мнению других – это всеобщий предрассудок, коренится ли он в нашей природе или возник как следствие общественной жизни и цивилизации, во всяком случае, он оказывает на всю нашу деятельность чрезмерное и гибельное для нашего счастья влияние, влияние это сказывается во всем, начиная с боязливого рабского трепета пред тем, «что скажут» и кончая Вергилием, вонзающим кинжал в сердце дочери, эта же сила заставляет ради посмертной славы жертвовать спокойствием, богатством, здоровьем, даже жизнью. Предрассудок – это чрезвычайно удобное орудие для того, кто призван повелевать или управлять людьми, поэтому во всех отраслях искусства дрессировки людей первое место отведено наставлению о необходимости поддерживать и развивать в себе чувство чести. Но с точки зрения интересующего нас личного счастья дело обстоит иначе: следует, наоборот, отговаривать людей от чрезмерного уважения к мнению других. Если все же, как то наблюдается повседневно, большинство людей придает высшую ценность именно чужому мнению и поэтому заботятся о нем больше, чем о том, что, происходя в их собственном сознании, существует непосредственно для них, если, вопреки естественному порядку, чужое мнение кажется им реальной, а настоящая их жизнь – идеальной стороною их бытия, если они возводят в самоцель нечто второстепенное и производное, и их образ в чужом представлении ближе для них, чем само их существо – то столь высокая оценка того, что непосредственно для них не существует, составляет глупость, называемую тщеславием, vanitas – термин, указывающий на пустоту и бессодержательность подобных стремлений. Отсюда понятно, почему заблуждение это, так же, как и скупость, ведет к тому, что цель забывается и ее место занимают средства: «за средствами забывается цель».
Высокая ценность, приписываемая чужому мнению, и постоянные наши заботы о нем настолько преступают, по общему правилу, границы целесообразности, что принимают характер мании, мании всеобщей и, пожалуй, врожденной. Во всей нашей деятельности мы справляемся прежде всего с чужим мнением, при точном исследовании мы убедимся, что почти 1/2 всех когда-либо испытанных огорчений и тревог вытекает из заботы о его удовлетворении. Забота эта составляет подоплеку так легко оскорбляющегося – ввиду болезненной чувствительности – самолюбия, всех наших претензий, всякого тщеславия, суетности и роскоши. Без этой заботы, без этого безумия не было бы и 1/10 той роскоши, какая есть сейчас. На этой заботе покоятся всякая гордость, щепетильность, любой point d'honneur, в самых различных видах и сферах, и сколько жертв приносится ей в угоду! Она проявляется еще в ребенке, растет с годами, и сильнее всего становится в старости, когда, по исчезновении способности к чувственным наслаждениям, тщеславию и высокомерию предстоит делиться властью лишь со скупостью. Черта эта резче всего обозначается у французов, у коих она принимает характер эпидемии и выливается в пошлейшее честолюбие, в смешную, карикатурную национальную гордость и в бесстыднейшее хвастовство, но в этом случае тщеславие подкопало само себя, превратив себя в посмешище других наций, а громкое имя «la grande nation» – в насмешливую кличку.
Чтобы яснее изобразить ненормальность чрезмерного уважения к чужому мнению, приведу чрезвычайно наглядный, вырисовывающийся крайне рельефно благодаря сочетанию эффектных обстоятельств с характерными штрихами, пример свойственной человеческой природе глупости, на этом примере можно будет определить силу интересующего нас мотива. Привожу отрывок из напечатанного в «Times» 31-го марта 1846 г. подробного отчета о только что совершенной казни Томаса Уикса, подмастерья, из мести убившего своего хозяина: «В назначенное для казни утро преступника посетил достопочтенный духовник тюрьмы. Однако Уикс, держась, впрочем, весьма спокойно, не слушал его увещаний. Его занимал один только вопрос: удастся ли ему выказать достаточно мужества пред толпой, собравшейся смотреть на его казнь. И это ему удалось. Проходя по двору, отделявшему тюрьму от выстроенной близ нее виселицы, он сказал: „Теперь я скоро постигну великую тайну, как говорил д-р Додд“. С завязанными руками он без всякой помощи поднялся по лестнице на эшафот, добравшись доверху, он поклонился направо и налево, за что был вознагражден громкими одобрительными возгласами собравшейся тысячной толпы».
Не правда ли, великолепный образчик тщеславия: имея пред собою самую ужасную смерть, а там, дальше – вечность, заботиться лишь о том, какое впечатление удастся произвести на толпу сбежавшихся зевак, и о мнении, какое создается в их умах!
Точно так же Леконт, казненный в том же году во Франции за покушение на жизнь короля, досадовал, во время процесса, главным образом на то, что ему не удалось предстать пред судом пэров в приличном костюме, даже в минуту казни главной неприятностью было для него то, что ему не позволили побриться перед этим. Что и раньше случалось то же – это мы видим из предисловия к знаменитому роману Матео Алемана «Гуц-ман де-Альфарак», где он говорит, что иные «глуповатые» преступники, вместо того, чтобы посвятить последние часы исключительно спасению души, пренебрегают этим и тратят их на то, чтобы сочинить и запомнить краткую речь, которую они произнесут с высоты виселицы.
Впрочем, в этих штрихах отражаемся мы сами: ведь редкие, крупные явления дают лучший ключ к разгадке обыденных явлений. Все наши заботы, огорчения, мучения, досада, боязливость и усилия обусловливаются в сущности, в большинстве случаев вниманием к чужому мнению, а потому так же абсурдны, как забота только что упомянутых преступников. Из того же источника берут обычно начало также зависть и ненависть.
Очевидно, ничто не способствует нашему счастью, строящемуся в большей части на спокойствии и удовлетворенности духа, более, чем ограничение, сокращение этого движущего элемента – внимания к чужим мнениям – до предписываемого благоразумием предела, составляющего, быть может, 1/50 настоящей его силы, надо вырвать из тела терзающий нас шип. Это, однако, очень трудно: ведь дело касается естественной, врожденной испорченности. «Жажда славы – последняя, от которой отрешаются мудрецы», сказал Тацит (Hist. IV, 6). Единственным средством избавиться от этого всеобщего безумия было бы явно признать его таковым и с этой целью выяснить себе, насколько неправильны, извращенны, ошибочны и абсурдны людские мнения, которые поэтому сами по себе не достойны внимания, далее – как мало реального влияния оказывает на нас в большинстве случаев и дел чужое мнение, обычно к тому же неблагоприятное: – почти каждый обиделся бы до слез, если бы узнал все, что о нем говорят и каким тоном это произносится, наконец – что даже честь имеет лишь косвенную, а не непосредственную ценность и т. п. Если бы удалось исцелить людей от их общего безумия, то в результате они бы невероятно выиграли в смысле спокойствия и веселости духа, приобрели бы более твердую, самоуверенную tenue и свободу, естественность в своих поступках. Чрезвычайно благоприятное влияние, оказываемое замкнутым образом жизни на наше спокойствие, основано преимущественно на том, что уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями, и этим возвращает нас самим себе. Но кроме этого мы избегли бы многих реальных несчастий, к которым приводит жажда славы – это якобы идеальное стремление, вернее пагубное безумие, и получили бы возможность гораздо больше заботиться о реальных благах и беспрепятственно наслаждаться ими. Но, «все разумное трудно…» Этот недочет нашей культуры разветвляется на три главных побега: на честолюбие, тщеславие и гордость. Различие между двумя последними состоит в том, что гордость есть уже готовое убеждение самого субъекта в высокой своей ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других, с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. Другими словами, гордость есть исходящее изнутри, а следовательно непосредственное уважение самого себя, тщеславие же есть стремление приобрести таковое извне, т. е. косвенным путем. Поэтому тщеславие делает человека болтливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный человек должен бы знать, что доброе мнение других, которого он так добивается, гораздо легче и вернее создается молчанием, чем говорливостью, даже при умении красно говорить.
Не всякий, кто хочет быть гордым, горд на самом деле, самое большее, что он может – это аффектировать гордость, но и этой, как и всякой другой роли, он скоро изменит. Истинно горд лишь тот, кто имеет непоколебимое внутреннее убеждение в своих непреложных достоинствах и особенной ценности. Ошибочно ли это убеждение, основано ли оно лишь на внешних, условных достоинствах – это не играет роли, раз только гордость подлинна и серьезна. Но если гордость коренится в убеждении, она, как и всякое убеждение, не зависит от нашего произвола. Злейшим ее врагом, величайшей ее помехой является тщеславие, добивающееся чужого одобрения для того, чтобы на нем построить собственное убеждение в своих преимуществах, гордость же предполагает наличность такого, притом твердого установившегося убеждения.
Часто порицают, бранят гордость, но я думаю, что нападают на нее главным образом те, кто не имеет ничего, чем мог бы гордиться. При бесстыдстве и глупой наглости большинства, всякому, обладающему какими-либо внутренними достоинствами, следует открыто выказывать их, чтобы не дать о них забыть, кто в простоте душевной не сознает их и обращается с людьми, как с равными себе, того люди искренно сочтут за ровню. Особенно я посоветовал бы этот образ действий тем, кто обладает высшими – реальными, чисто личными достоинствами, о которых нельзя постоянно напоминать путем воздействия на внешние чувства, путем, напр., орденов и титула, в противном случае может осуществиться латинская поговорка о свинье, поучающей Миневру. «Не шути с рабом, не то он покажет тебе зад», гласит прекрасная арабская пословица, не следует забывать и слов Горация: «выказывай благородство, соответствующее заслугам». Скромность – это прекрасное подспорье для болванов, она заставляет человека говорить про себя, что и он такой же болван, как и другие, в результате выходит, что на свете существуют одни лишь болваны.
Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватает за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит, он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости. Так, напр., из 50 англичан едва ли найдется один, который согласится с вами, если вы с должным презрением отзоветесь о глупом и унизительном ханжестве его нации, если такой найдется, то он окажется, наверное, умным человеком.
У немцев нет национальной гордости, что лишний раз доказывает их честность, но нет этой честности в тех, кто комично аффектирует национальную гордость, как, напр., «Deutsche Brüder» и демократы, лестью совращающие народ. Говорится, правда, что немцы изобрели порох, но я не согласен с этим. Лихтенбер спрашивает: «почему, если человек хочет скрыть свою национальность, он не станет выдавать себя за немца, а большей частью за француза или англичанина?» Впрочем, индивидуальность значительно перевешивает национальное начало, и в каждом данном человеке она заслуживает в тысячу раз больше внимания, чем это последнее. Нельзя не признать, что в национальном характере мало хороших черт: ведь субъектом его является толпа. Попросту говоря, человеческая ограниченность, извращенность и испорченность принимают в разных странах разные формы, которые и именуются национальным характером. Когда опротивеет один, мы пускаемся расхваливать другой, пока с тем не случится того же. Каждая нация насмехается над другими, и все они в одинаковой мере правы.







