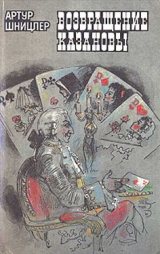
Текст книги "Возвращение Казановы"
Автор книги: Артур Шницлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Артур Шницлер.
Возвращение Казановы [1]1
Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) – итальянский авантюрист, родом из Венеции, прославившийся своими "Мемуарами" (в 12-ти томах, 1791—1798), которые содержат много ценных культурных и исторических сведений и раскрывают закулисную жизнь аристократического и придворного общества многих государств Западной Европы накануне Французской буржуазной революции XVIII в.
[Закрыть]
На пятьдесят третьем году жизни Казанова, давно уже гонимый по свету не юношеской жаждой приключений, а тревогой, снедающей человека на пороге старости, почувствовал в душе такую острую тоску по родной Венеции, что стал колесить вокруг нее, все более и более суживая круги – подобно тому как птица постепенно опускается перед смертью на землю с небесных высот. В последние годы своего изгнания он уже не раз обращался к Высшему Совету с просьбой разрешить ему возвратиться на родину; раньше при составлении подобных прошений, которые он писал мастерски, его пером водили упрямство и своеволие, а порой и мрачное удовлетворение самим занятием; но с некоторых пор в его почти униженных мольбах все более явно сквозили жгучая тоска и подлинное раскаяние. Он считал, что тем вернее может надеяться на милость, что постепенно стали забываться его былые прегрешения, из коих самыми непростительными членам Совета казались отнюдь не распущенность, задирчивость и плутни, чаще всего веселого свойства, а вольнодумство. К тому же удивительная история его побега из венецианских свинцовых камер, которой он несчетное число раз, не жалея красок, угощал слушателей при дворах государей, в замках вельмож, за столом у горожан и в домах, пользовавшихся дурной славой, начала заглушать всевозможные худые толки, связанные с его именем; и действительно, влиятельные господа в своих письмах в Мантую, где Казанова находился уже два месяца, продолжали подавать этому искателю приключений, чей внутренний и внешний блеск понемногу тускнел, надежду, что судьба его вскоре будет решена благоприятно.
Располагая теперь весьма скудными средствами, Казанова решил дожидаться помилования в скромной, но приличной гостинице, где он когда-то останавливался, в более счастливую пору своей жизни, и пока проводил время, не говоря о недуховных развлечениях, от которых он не в силах был окончательно отказаться, главным образом за сочинением памфлета против нечестивца Вольтера, опубликованием которого рассчитывал сразу по возвращении в Венецию прочно укрепить свое положение и приобрести вес в глазах всех благомыслящих людей.
Однажды утром, когда он гулял за городом, поглощенный поисками наиболее законченной формы для уничтожающего довода в споре с безбожником-французом, его вдруг охватила какая-то необычайная, почти физически мучительная тревога. Жизнь, которую он вот уже три месяца влачил изо дня в день – утренние прогулки за городскими ворогами, по вечерам небольшие партии в карты у мнимого барона Перотти и его рябой возлюбленной, ласки его уже не молодой, но пылкой хозяйки, даже изучение произведений Вольтера и работа над его собственными смелыми и, как ему казалось, довольно удачными возражениями Вольтеру, – все это сейчас, в мягком, приторном воздухе летнего утра, представилось ему одинаково бессмысленным и гадким; он пробормотал проклятие, сам толком не зная, кого или что он проклинает; и, сжимая рукоять шпаги и бросая во все стороны злобные взгляды, словно из окружающего его безлюдья на него отовсюду с насмешкой смотрели незримые глаза, вдруг повернул обратно к городу, решив тотчас же начать приготовления к отъезду. Ибо он не сомневался, что сразу почувствует облегчение, если приблизится к вожделенной родине еще на несколько миль. Казанова ускорил шаг, чтобы успеть вовремя получить место в почтовой карете, которая перед заходом солнца выезжала в восточном направлении; больше здесь ему делать было нечего; прощальным визитом к барону Перотти можно было пренебречь, а чтобы уложить для путешествия все пожитки, ему довольно было и получаса. Он подумал о своих двух изрядно поношенных камзолах – худший из них был на нем, о не раз чиненном, некогда дорогом белье; это вместе с двумя-тремя табакерками, золотыми часами на цепочке и десятком книг составляло все его имущество; ему вспомнились минувшие дни, когда он разъезжал повсюду в роскошной дорожной карете, как вельможа, снабженный в изобилии всем нужным и ненужным, конечно, со слугой – разумеется, по большей части мошенником, – и от бессильной злобы на глаза его навернулись слезы. Навстречу ему ехала повозка; ею правила молодая женщина с кнутом в руке, а среди мешков и всякого домашнего скарба храпел ее пьяный муж. Сперва она с насмешливым любопытством посмотрела на Казанову, который с искаженным лицом, бормоча сквозь зубы что-то невнятное, широко шагал по дороге под отцветшими каштанами; но, встретив его сверкнувший гневом ответный взгляд, глаза ее отразили испуг, а когда она проехала мимо и обернулась – выражали похотливую готовность. Казанова, которому было хорошо известно, что гнев и ненависть действуют на молодость сильнее, чем мягкость и нежность, сразу понял, что с его стороны достаточно было бы дерзкого окрика, чтобы остановить повозку, и тогда он мог бы делать с молодой женщиной все, что захочет; но хотя сознание этого и улучшило на минуту его настроение, он все же решил, что ради такого ничтожного приключения не стоит терять даже нескольких минут; поэтому он дал проехать крестьянской повозке, и она со скрипом продолжала свой путь в пыльном мареве большой дороги.
Тень деревьев слабо защищала от палящих лучей высоко поднявшегося солнца, и Казанова был вынужден постепенно замедлить шаг. Дорожная пыль таким толстым слоем осела на его платье и обуви, что трудно было заметить, как они поношены, а по одежде и осанке Казанова мог вполне сойти за знатного господина, которому вздумалось оставить свой экипаж дома. Перед ним уже вырисовывалась арка городских ворот, вблизи которых находилась гостиница, как вдруг он увидел ехавшую ему навстречу и подпрыгивавшую на ухабах неуклюжую деревенскую колымагу, в которой сидел дородный, хорошо одетый и еще не старый мужчина. Его одолевала дремота, и он сидел, сложив руки на животе, глаза его слипались, но вдруг взгляд его, случайно скользнув по Казанове, оживился, и весь он казался охваченным радостным возбуждением. Он поспешно вскочил на ноги, шлепнулся обратно на сиденье, снова вскочил, толкнул кучера в спину, чтобы тот остановил лошадей, оглянулся назад в продолжавшем катиться экипаже и принялся махать Казанове обеими руками; наконец, он трижды выкрикнул его имя высоким резким голосом. Казанова узнал этого человека только по голосу; он подошел к остановившемуся экипажу, с улыбкой взял обе протянутые ему руки и сказал:
– Неужели это вы, Оливо? Возможно ли?
– Да, это я, синьор Казанова! Вы все же узнали меня?
– Почему бы мне не узнать вас? Правда, со дня вашей свадьбы, когда я видел вас в последний раз, вы несколько пополнели, но, должно быть, и я не мало изменился за эти пятнадцать лет, хотя и не пополнел.
– Нисколько, – возразил Оливо, – можно сказать, ни капельки, синьор Казанова. А ведь прошло целых шестнадцать лет, несколько дней назад исполнилось шестнадцать! И, как вы легко можете себе представить, по этому случаю мы с Амалией о вас на досуге говорили...
– В самом деле? Вы оба еще иногда вспоминаете меня? – сердечно проговорил Казанова.
Глаза Оливо увлажнились. Он все еще не выпускал рук Казановы из своих и опять растроганно их пожал.
– Мы вам стольким обязаны, синьор Казанова! Как нам забыть своего благодетеля? И если мы когда-нибудь...
– Не будем об этом говорить, – перебил его Казанова. – Как поживает синьора Амалия? Чем вообще можно объяснить, что за два месяца, что я в Мантуе, – правда, я веду уединенную жизнь, но, по старой привычке, много гуляю, – как могло случиться, что я ни разу не встретился с вами, Оливо, с вами обоими?
– Очень просто, синьор Казанова! Мы давно уже переселились из города, которого, впрочем, ни я, ни Амалия никогда не любили. Окажите мне честь, синьор Казанова, сядьте ко мне в карету, и через час мы будем у нас дома. – Заметив легкий отрицательный жест Казановы, Оливо продолжал: – Не говорите «нет»! Как будет счастлива Амалия, увидев вас снова, с какой гордостью покажет она вам наших троих детей. Да, троих, синьор Казанова. Все девочки – тринадцати, десяти и восьми лет... Так что ни одна из них еще не достигла того возраста, когда, с вашего позволения, Казанова мог бы вскружить ей головку.
Он добродушно засмеялся и сделал такое движение, словно собирался попросту втащить Казанову в свой экипаж. Но Казанова отрицательно покачал головой. Ибо, почти уже поддавшись соблазну удовлетворить естественное любопытство и принять приглашение Оливо, опять почувствовал нетерпение, овладевшее им с новой силой, и стал уверять Оливо, что, к сожалению, должен еще до вечера выехать по важным делам из Мантуи. В самом деле, что ему было делать в доме Оливо? Шестнадцать лет – долгий срок! Амалия за это время, разумеется, не стала моложе и красивее, а ее тринадцатилетней дочке он, в его годы, вряд ли покажется особенно привлекательным; любоваться же в деревенской обстановке самим синьором Оливо, превратившимся из тощего, поглощенного занятиями юноши, каким он был прежде, в мужиковатого и толстого отца семейства, казалось ему не таким уж заманчивым, чтобы ради этого откладывать поездку, которая могла приблизить его к Венеции еще на десять или двадцать миль. Однако Оливо, по-видимому, не собиравшийся принять без возражений отказ Казановы, настоял на том, что он прежде всего доставит его в своем экипаже в гостиницу, в чем Казанова не смог ему воспрепятствовать. Через несколько минут они были у цели. Хозяйка, статная женщина лет тридцати пяти, встретила Казанову у ворот взглядом, не оставившим у Оливо никаких сомнений в существовавшей между ними нежной связи. Она протянула Оливо руку, как доброму знакомому, и тут же пояснила Казанове, что Оливо всегда поставляет ей из своего имения особый, очень хороший сорт сладковато-терпкого вина. Оливо не преминул пожаловаться ей на то, что шевалье де Сенгаль (ибо именно так хозяйка назвала Казанову, и Оливо не замедлил воспользоваться тем же обращением) чересчур жесток, отвергая приглашение вновь обретенного старого друга по той смехотворной причине, что он должен сегодня непременно сегодня же, покинуть Мантую. При виде изумленного лица хозяйки Оливо сразу понял, что ей еще не известно намерение гостя, и потому Казанова счел за благо объяснить, что его отъезд был на самом деле отговоркой, ибо он не хотел обременять семейство своего друга столь неожиданным посещением. В действительности же он намерен, даже обязан, завершить в течение ближайших дней серьезный литературный труд, для чего нет более подходящего места, чем эта превосходная гостиница, где в его распоряжении – прохладная и покойная комната. На это Оливо ответил торжественными уверениями, что для его скромного дома будет величайшей честью, если шевалье де Сенгаль доведет там до конца этот труд. Сельское уединение может лишь благоприятствовать такой задаче; ученые трактаты и книги, ежели они понадобятся, тоже окажутся под рукой, ибо его, Оливо, племянница, дочь его покойного сводного брата, юная, но, несмотря на свою юность, весьма ученая девушка, несколько недель тому назад приехала к ним с целым сундуком книг; а если случайно вечерком соберутся гости, то к шевалье это не будет иметь никакого касательства; разве что после целого дня напряженного труда веселая беседа и небольшая партия в карты покажутся ему желанным развлечением. Едва Казанова услышал о юной племяннице, как он тотчас решил поглядеть на это создание вблизи. Делая вид, будто все еще колеблется, он в конце концов уступил настояниям Оливо, хотя и объявил, что ни в коем случае не может покинуть Мантую более чем на день-два, а также попросил свою любезную хозяйку незамедлительно пересылать ему с нарочным все письма, которые придут сюда и, возможно, окажутся чрезвычайно важными. Когда все было решено, к великому удовольствию Оливо, Казанова отправился в свою комнату, чтобы приготовиться в путь и уже через четверть часа вернуться в общую залу, где тем временем Оливо вступил с хозяйкой в оживленный деловой разговор. Оливо поднялся, допил стоя свое вино и, понимающе подмигнув, обещал хозяйке доставить ей шевалье, хотя и не завтра и не послезавтра, но, во всяком случае, целым и невредимым. Однако Казанова, внезапно ставший рассеянным, простился со своей гостеприимной хозяйкой так холодно и торопливо, что только у дверцы экипажа она успела шепнуть ему на ухо отнюдь не ласковое напутственное словечко.
Пока они ехали по раскаленной полуденным зноем пыльной дороге, Оливо пространно и довольно беспорядочно рассказывал о своей минувшей жизни: вскоре после женитьбы он купил близ города крохотный участок земли и открыл небольшую торговлю овощами; потом, понемногу расширяя свои владения, занялся сельским хозяйством и, наконец, благодаря усердию своему и своей супруги, ему, с божьего благословения, три года назад удалось купить у обремененного долгами графа Мараццани старый, немного обветшалый замок с виноградниками. Там, в дворянском поместье, они с женой и детьми зажили на славу, хотя и отнюдь не по-графски. И всем этим он обязан ста пятидесяти золотым, которые Казанова подарил его невесте или, вернее, ее матери; если бы не эта, точно по волшебству, явившаяся помощь, то его доля и поныне была бы все та же – обучать грамоте распущенных сорванцов, и он, по всей вероятности, остался бы старым холостяком, а Амалия – старой девой... Казанова не прерывал его рассказа, но почти его не слушал. В его памяти всплыло приключение, которое он затеял тогда, одновременно с другими, более значительными; самое мелкое из всех, оно совсем не занимало места ни в его душе, ни, впоследствии, в его воспоминаниях. По пути из Рима в Турин или в Париж – он уже хорошо не помнил, – ненадолго остановившись в Мантуе, он однажды утром увидел в церкви Амалию; ему понравилось ее красивое бледное, чуть заплаканное лицо, и он обратился к ней с каким-то приветливым и любезным вопросом. В те времена к нему были ласковы все женщины, и Амалия тоже охотно открыла ему свое сердце; он узнал, что она, живя в нужде, полюбила бедного школьного учителя, отец которого наотрез отказывает, как и ее мать, в своем согласии на их брак, не сулящий ничего доброго. Казанова тотчас же вызвался помочь ее беде. Прежде всего он попросил Амалию познакомить его с матерью, и так как тридцатишестилетняя вдова была еще достаточно привлекательна, чтобы притязать на поклонение, то Казанова вскоре свел с ней столь тесную дружбу, что мог от нее всего добиться. Лишь только она перестала противиться этому браку, дал свое согласие и отец Оливо, разорившийся купец, особенно после того, как Казанова, представленный ему как дальний родственник матери невесты, великодушно обещал устроить на свои средства свадьбу и дать деньги на приданое. Сама же Амалия сумела отблагодарить великодушного покровителя, который показался ей посланцем из иного, недоступного для нее мира, только так, как ей повелевало сердце, и когда в канун свадьбы она с пылающими щеками вырвалась из последних объятий Казановы, то была весьма далека от мысли, что провинилась перед своим женихом; ведь он был обязан всем своим счастьем лишь любезности и великодушию этого удивительного чужестранца. Узнал ли Оливо о безмерной признательности Амалии к своему благодетелю от нее самой и принял ее жертву, как необходимое условие, а потому впоследствии не испытывал ревности, или же все случившееся и поныне оставалось для него тайной, – все это ни тогда, ни теперь нисколько не занимало Казанову.
Зной все усиливался. Громыхающий экипаж с плохими рессорами и твердыми подушками безжалостно трясло, пискливая благодушная болтовня Оливо, без устали рассказывавшего спутнику о плодородии своих земель, о достоинствах жены, о благовоспитанности детей, о добрососедских отношениях с окрестными крестьянами и дворянами, начала докучать Казанове, и он с раздражением подумал, чего ради он, в сущности, принял приглашение, которое может принести ему одни неудобства и даже разочарование. Ему захотелось очутиться в Мантуе, в прохладной комнате, где он в этот час мог бы спокойно продолжать работу над памфлетом против Вольтера, и он решил выйти из кареты у ближайшего постоялого двора, уже показавшегося вдали, и, наняв первый попавшийся экипаж, вернуться обратно, как вдруг Оливо громко закричал: «Эй! Эй!» – замахал по своей привычке обеими руками и, ухватив Казанову за рукав, показал ему на повозку, точно по уговору, остановившуюся рядом с их экипажем. Из нее одна за другой выскочили три девочки, а узкая доска, обжившая им сиденьем, взлетела на воздух и опрокинулась.
– Мои дочери, – не без гордости представил их Оливо Казанове и, когда тот незамедлительно сделал вид, будто собирается уступить им свое место, сказал: – Сидите, сидите, дорогой шевалье, через четверть часа мы будем у цели, а на это время мы уж как-нибудь все поместимся в экипаже. Мария, Нанетта, Терезина, смотрите, это шевалье де Сенгаль, старый друг вашего отца, подойдите и поцелуйте ему руку, ведь, не будь его, вас бы... – Он запнулся и шепнул Казанове: – Я чуть не ляпнул глупость. – Потом громко поправился: – Не будь его, многое было бы иначе!
Все девочки, такие же черноволосые и темноглазые, как Оливо, в том числе и старшая, Терезина, казались еще совсем детьми и разглядывали незнакомца с непринужденным грубоватым любопытством; младшая, Мария, послушная приказанию отца, и в самом деле собиралась поцеловать ему руку; но Казанова не допустил этого: взяв каждую из девочек за голову, он по очереди всех их поцеловал в обе щеки. Тем временем Оливо обменялся несколькими словами с парнем, который привез в повозке детей, после чего тот хлестнул лошадь и покатил дальше по дороге в Мантую.
Девочки, смеясь и весело препираясь, уселись на скамеечке против Оливо и Казановы. Тесно прижавшись друг к другу, они тараторили все разом, а поскольку отец их тоже не умолкал, то вначале Казанове было нелегко понять, о чем они, собственно, болтают. Было названо имя какого-то лейтенанта Лоренци; как сообщила Терезина, он несколько минут назад проскакал мимо них верхом, обещал приехать вечером в гости и велел передать почтительнейший привет отцу. Потом дети сказали, что мать тоже сначала собиралась поехать с ними навстречу отцу, но, побоявшись жары, предпочла остаться дома вместе с Марколиной. А когда они выезжали из дому, Марколина еще нежилась в постели, и они через открытое окно закидали ее из сада ягодами и орехами, не то она спала бы еще и теперь.
– Это не в обычае у Марколины, – заметил Оливо своему гостю, – большей частью она уже с шести часов утра, а то и раньше, сидит в саду со своими книжками и занимается до полудня. Правда, у нас вчера были гости, и мы засиделись позже обыкновенного; даже играли по маленькой в карты, – не так, как, вероятно, привык играть шевалье, но мы люди безобидные и у нас не принято оставлять друг друга без гроша. А поскольку в игре обычно участвует и наш достойный аббат, то можете себе представить, шевалье, что мы не слишком грешим.
Когда речь зашла об аббате, девочки рассмеялись и стали рассказывать друг другу бог весть что, смеясь еще пуще. Но Казанова только рассеянно кивал головой. В его воображении предстала эта еще незнакомая ему Марколина, лежащая против окна в своей белой постели: с ее полуобнаженного тела соскользнуло на пол одеяло, и отяжелевшими от сна руками она защищается от летящих в нее ягод и орехов, – и он загорелся безрассудным желанием. Что Марколина была возлюбленной лейтенанта Лоренци, он ничуть не сомневался, словно своими глазами видел их в самых нежных объятиях, и он готов был возненавидеть незнакомого ему Лоренци так же сильно, как его потянуло к никогда не виденной им Марколине.
В дрожащем мареве полудня, возвышаясь над серо-зеленой листвой, появилась четырехугольная башенка. Карета вскоре свернула с большой дороги на проселочную; слева полого поднимались раскинувшиеся на холме виноградники, справа над садовой оградой наклонялись вершины старых деревьев. Карета остановилась у широко распахнутых ветхих ворот. Седоки вышли, и кучер по знаку Оливо поехал дальше, к конюшне. Широкая каштановая аллея вела к дому, который казался на первый взгляд довольно жалким, даже запущенным. Казанове сразу бросилось в глаза разбитое окно в первом этаже; не укрылось от него и то, что кое-где обвалилась балюстрада, окружавшая площадку широкой и низкой башни, несколько неуклюже венчавшей здание. Но входные двери были украшены искусной резьбой, а войдя в переднюю, Казанова увидел, что внутри дом хорошо сохранился, – во всяком случае, гораздо лучше, чем можно было предположить по его внешнему виду.
– Амалия, – позвал Оливо так громко, что среди сводчатых стен прозвучало эхо, – спускайся скорее! Амалия, я привез тебе гостя, да еще какого!
Но Амалия еще раньше появилась на верхних ступенях лестницы, невидимая для вошедших с яркого солнца в полумрак. Казанова, чьи острые глаза сохранили способность пронзать даже ночную тьму, заметил ее раньше, чем супруг. Он улыбнулся и сразу почувствовал, что улыбка эта его молодит. Вопреки его опасениям, Амалия нисколько не расплылась, она казалась стройной и моложавой. Она узнала его сразу.
– Какой сюрприз, какое счастье! – воскликнула она без всякого смущения, быстро сбежала по ступенькам и, здороваясь, подставила Казанове щеку, а он без церемоний дружески ее обнял.
– И я должен верить, – сказал он, – что Мария, Нанетта и Терезина – родные ваши дочери, Амалия? Судя по времени, это возможно...
– Судя по всему прочему, тоже, – подхватил Оливо, – не сомневайтесь в этом, шевалье!
– Ты, должно быть, опоздал из-за встречи с шевалье, Оливо? – сказала Амалия, устремив на гостя затуманенный воспоминаниями взгляд.
– Да, но надеюсь, несмотря на опоздание, у тебя найдется что-нибудь поесть, Амалия?
– Мы с Марколиной, хотя и проголодались, конечно, не садились без вас за стол.
– Не потерпите ли вы еще немного, пока я стряхну дорожную пыль со своего платья и приведу себя в порядок? – спросил Казанова.
– Сейчас я вам покажу вашу комнату, шевалье, – сказал Оливо, – надеюсь, вы будете довольны, почти так же довольны... – Он подмигнул и, понизив голос, добавил: – Как гостиницей в Мантуе, хотя кое-чего здесь вам и будет недоставать.
Он пошел вперед по лестнице на галерею, которая тянулась четырехугольником вдоль стен прихожей; из дальнего угла ее шла наверх узкая деревянная винтовая лестница. Поднявшись по ней, Оливо открыл дверь в башню, остановился на пороге и, пересыпая свою речь извинениями, предложил Казанове расположиться в этой скромной комнате для гостей. Служанка внесла чемодан и удалилась вместе с Оливо, и Казанова остался один в небольшой комнате, снабженной всем необходимым, но довольно голой, с четырьмя узкими и высокими стрельчатыми окнами; из них во все стороны далеко открывался вид на залитую солнцем равнину с зелеными виноградниками, пестрыми лугами, золотыми нивами, белыми дорогами, светлыми домами и темными пятнами садов. Казанова не стал долго любоваться видом и быстро привел себя в порядок, не столько потому, что был голоден, сколько потому, что его мучило любопытство: ему хотелось как можно скорее встретиться лицом к лицу с Марколиной; он даже не переоделся, так как хотел предстать в полном параде вечером.
Войдя в расположенную в нижнем этаже столовую, обшитую деревянными панелями, Казанова увидел за уставленным кушаньями столом, кроме супругов и их трех дочерей, грациозную девушку в простом сером, мягко ниспадающем платье, посмотревшую на него безо всякого стеснения, как будто он был одним из домочадцев или, по крайней мере, сто раз бывал здесь в гостях. Что взгляд ее не зажегся тем огнем, которым его так часто встречали прежде женщины, когда он впервые являлся им в пленительном блеске юности или в опасной красоте зрелых лет, конечно, давно уже было не ново для Казановы. Но и в последнее время достаточно было упомянуть его имя, чтобы вызвать на устах у женщин слова запоздалого восхищения или хотя бы безмолвный трепет сожаления, как признание того, сколь приятна была бы встреча с ним несколькими годами раньше. А теперь, когда Оливо представил своей племяннице господина Казанову, шевалье де Сенгаль, она улыбнулась совершенно так же, как улыбнулась бы, если бы ей назвали любое, ничем не примечательное имя, не прославленное приключениями и не овеянное тайнами. И даже тогда, когда он сел рядом с ней, поцеловал ей руку и глаза его метнули на нее целый сноп искр восхищения и желания, на лице ее не отразилось и легкого удовлетворения, которого все же можно было бы ожидать, как скромного ответа на выражение столь пылкого восторга.
После первых слов Казанова дал понять своей соседке, что осведомлен об ее учености, и спросил ее, какой науке она отдает предпочтение. Она ответила, что изучает главным образом высшую математику, в которую посвятил ее известный преподаватель Болонского университета, профессор Морганьи. Казанова выразил удивление такому и впрямь необычному интересу к столь трудному прозаическому предмету со стороны привлекательной молодой девушки, но Марколина ответила, что, по ее мнению, из всех наук высшая математика – самая фантастическая, можно сказать, поистине божественная по своей природе. Когда же Казанова попросил подробнее разъяснить ему этот совершенно новый для него взгляд, то Марколина скромно отклонила его просьбу и заявила, что всем присутствующим – и прежде всего ее дорогому дяде – будет, наверное, гораздо приятнее узнать о приключениях объездившего весь свет друга, которого он так давно не видел, чем слушать философский разговор. Амалия горячо поддержала просьбу Марколины, и Казанова, всегда готовый уступить желаниям подобного рода, заметил мимоходом, что в последние годы он преимущественно выполнял секретные дипломатические поручения, заставлявшие его скитаться – если назвать лишь большие города – между Мадридом, Парижем, Лондоном, Амстердамом и Санкт-Петербургом. Он описывал встречи и беседы серьезного и веселого характера с мужчинами и женщинами самых различных сословий, не забыл также упомянуть о любезном приеме, оказанном ему при дворе российской императрицы Екатерины Второй, и очень забавно рассказал, как Фридрих Великий чуть было не назначил его воспитателем [2]2
... Фридрих Великий чуть было не назначил его воспитателем... – Свою встречу с Фридрихом Великим в Берлине Казанова очень подробно описал в своих "Мемуарах".
[Закрыть]в кадетском корпусе для померанских дворян; от этой опасности он, впрочем, спасся поспешным бегством. Об этом и о многом другом он говорил как о событиях совсем недавних, а не отошедших в прошлое на многие годы, даже на десятки лет, как это было в действительности; кое-что он присочинял, сам не отдавая себе отчета, где правда и где вымысел, и радовался своему настроению, а также интересу, с коим его слушали. Пока он рассказывал и фантазировал, ему казалось, что он и теперь – все тот же избалованный счастьем, дерзкий и блестящий Казанова, который разъезжал по всему свету с красавицами, которого дарили своей благосклонностью светские и духовные князья, который промотал, проиграл и раздарил тысячи, а не опустившийся прихлебатель, получающий от старых друзей из Англии и Испании смехотворно малые подачки, а порой и вовсе ничего не получающий и вынужденный тогда довольствоваться несколькими жалкими золотыми, выигранными у барона Перотти и у его гостей; да, он даже забыл о том, что представлялось ему теперь заветной целью, – о стремлении закончить свою жизнь, некогда столь блистательную, самым ничтожным гражданином, писцом, нищим в своем родном городе, где его сперва заточили в тюрьму, а после побега предали анафеме и объявили изгнанником.
Марколина тоже слушала его внимательно, но с таким выражением, словно ей читают вслух занимательную книгу. Она знала, кто сидит перед ней, – человек, мужчина, сам Казанова, переживший все эти приключения и еще многие другие, о которых он не рассказывал, возлюбленный тысячи женщин, но по лицу ее нельзя было это прочесть. Совсем иное выражение светилось в глазах Амалии. Для нее Казанова остался тем же, что и прежде; для нее голос его звучал так же чарующе, как шестнадцать лет назад, и Казанова чувствовал, что стоит ему только сказать слово, а может быть, и того меньше, чтобы по первому его желанию возобновилась прежняя интрига. Но что значила для него сейчас Амалия, если его влекло к Марколине, как никогда ни к одной женщине до нее? Ему казалось, что сквозь облекающее ее матовым блеском платье он видит ее обнаженное тело; ее юная грудь, как расцветающие бутоны, стремилась ему навстречу, а когда она наклонилась, чтобы поднять упавший на пол платочек, воспламенившееся воображение Казановы придало ее движению такой сладострастный смысл, что он чуть не упал в обморок. От Марколины не укрылось ни то, что он, рассказывая, невольно запнулся, ни то, что его взгляд зажегся странным огнем, но в ее глазах он прочел внезапное удивление, настороженность и даже промелькнувшее отвращение. Казанова быстро овладел собой и уже был готов с новым воодушевлением продолжать свой рассказ, как в комнату вошел тучный священник. Хозяин дома, здороваясь с ним, назвал его аббатом Росси, а Казанова сразу узнал в нем того человека, с которым он встретился двадцать семь лет назад на купеческом судне, направлявшемся из Венеции в Кьоджу.
– У вас была тогда повязка на глазу, – заметил Казанова, редко упускавший случай блеснуть своей превосходной памятью, – и какая-то крестьянка в желтом платке посоветовала вам воспользоваться целебной мазью, случайно оказавшейся у молодого аптекаря с очень хриплым голосом.
Аббат кивнул головой и, польщенный, улыбнулся. Но затем с лукавым видом подошел вплотную к Казанове, точно хотел сообщить ему какую-то тайну, однако сказал громко:
– А вы, господин Казанова, находились в числе участников свадебного торжества... не знаю, были ли вы случайным гостем или шафером невесты; во всяком случае, невеста бросала на вас гораздо более нежные взоры, чем на жениха... Поднялся ветер, чуть ли не буря, а вы стали читать какое-то весьма смелое стихотворение.
– Шевалье сделал это, разумеется, только для того, чтобы укротить бурю, – сказала Марколина.
– Такой волшебной силы, – возразил Казанова, – я себе никогда не приписывал, но не стану отрицать, что когда я начал читать, никого уже больше не тревожила буря.
Девочки окружили аббата, заранее зная, что будет, а он пригоршнями вытаскивал из своих бездонных карманов всякие лакомства и толстыми пальцами клал их детям в рот. Тем временем Оливо со всеми подробностями рассказывал аббату о своей неожиданной встрече с Казановой. Амалия как завороженная не сводила сияющих глаз с властного смуглого лица дорогого гостя. Дети убежали в сад; Марколина поднялась с места и смотрела на них в открытое окно. Аббат передал поклон от маркиза Чельси: если здоровье ему позволит, он приедет вечером вместе с супругой к своему дорогому другу Оливо.








