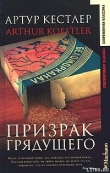Текст книги "Слепящая тьма "
Автор книги: Артур Кестлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
14
В одиннадцать утра дверь распахнулась. По торжественно-серьезному лицу надзирателя Рубашов понял, куда его поведут. Как и обычно в минуты опасности, он ощутил ясное спокойствие – ничем не заслуженный дар судьбы.
Они вышли из Одиночного блока, и бетонная дверь тяжело захлопнулась. «До чего же быстро человек привыкает к любой обстановке», – подумал Рубашов; ему казалось, что он дышал спертым воздухом этих коридоров по крайней мере уже несколько лет, словно здесь сгустилась атмосфера всех тюрем, где он побывал.
Они миновали комнату парикмахерской, показалась закрытая дверь санчасти, перед ней под охраной сонного надзирателя стояли в очереди трое заключенных.
Дальше Рубашова еще не водили. Они подошли к спиральной лестнице. Куда она вела – в кабинеты следователей или в подвал с камерами пыток? Рубашов призвал на помощь свой опыт. Эта узкая железная лестница внушала ему скверные предчувствия.
Они спустились во внутренний двор, зажатый высокими, без окон, стенами, пересекли его и вошли в следующий корпус; лампы здесь были прикрыты плафонами, на деревянных – а не железных – дверях по обеим сторонам широкого коридора мягко поблескивали медные ручки; из комнаты в комнату сновали следователи; за одной из дверей слышалось радио, за другой стрекотала пишущая машинка. Словом, это был Следственный корпус.
Они остановились у последней двери; надзиратель, сопровождающий Рубашова, постучал. В кабинете кто-то говорил по телефону; он сказал немного погромче: «Минуту», – и, видимо, продолжил разговор; из-за двери слышались приглушенные реплики: «Да… Конечно… Совершенно верно…». Голос показался Рубашову знакомым, но ему не удавалось вспомнить, чей он. Приятный, чуть хриплый мужской голос; да, Рубашов его явно слышал. «Войдите», – сказал хозяин кабинета; надзиратель открыл деревянную Дверь, Рубашов вошел, и дверь захлопнулась. Он увидел большой письменный стол; за столом сидел его старый товарищ, бывший командир полка Иванов; опуская на рычаг телефонную трубку, он с улыбкой рассматривал Рубашова.
– Вот мы и встретились, – сказал Иванов.
Рубашов все еще стоял у двери.
– Приятная встреча, – ответил он сухо.
Иванов медленно поднялся с кресла – он был гораздо выше Рубашова.
– Присаживайся, – радушно предложил он, с улыбкой глядя на бывшего командира. Они сели; их разделял стол; они в упор рассматривали друг друга: Иванов, по-прежнему дружески улыбаясь, Рубашов – выжидающе, сосредоточенно, сдержанно. Потом его взгляд скользнул под стол.
Иванов притопнул правой ногой.
– С этим порядок, – сказал он. – Автоматический протез на хромированном каркасе. Могу плавать, ездить верхом, водить машину и плясать… Закурим?
Иванов через стол протянул Рубашову деревянный, наполненный папиросами портсигар.
Рубашов мельком глянул на папиросы и вспомнил, как он приехал в госпиталь, когда Иванову ампутировали ногу. Иванов умолял принести ему веронала и в споре, который длился до вечера, пытался доказать, что каждый человек имеет право на самоубийство. Наконец Рубашов согласился обдумать просьбу своего командира полка, но тою же ночью был переброшен на какой-то другой участок фронта.
Они встретились через много лет.
Рубашов внимательно заглянул в портсигар. Иванов сам набивал гильзы – светлым, видимо, американским табаком.
– Если у нас неофициальный разговор, то я не возражаю, – ответил Рубашов, – а если ты в начале допроса всем подследственным предлагаешь закурить, то убери портсигар. Давай уж по старинке – мы у тюремщиков никогда не одалживались.
– Брось дурить, – сказал Иванов.
– Ладно, – сказал Рубашов и закурил. – Ну, а как твой ревматизм – прошел?
– Вроде прошел, – ответил Иванов. – А как твой ожог – не очень болит? – Он улыбнулся и с простодушным видом показал на левую рубашовскую кисть. Там, между двумя голубеющими жилками, виднелся довольно большой волдырь. С минуту оба смотрели на ожог. «Откуда он знает? – подумал Рубашов. – Значит, за мной все время следили?» Но он ощутил не гнев, а стыд; последний раз глубоко затянувшись, он бросил окурок папиросы в пепельницу.
– Давай-ка считать, – проговорил он, – неофициальную часть нашей встречи законченной.
Иванов выдувал колечки дыма и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой.
– А ты не торопись, – посоветовал он.
– А я, между прочим, к тебе и не торопился. – Рубашов твердо глянул на Иванова. – Я и вообще-то сюда не приехал бы, если б вы не привезли меня силой.
– Верно, тебя немного поторопили. Зато теперь тебе спешить некуда. – Иванов ткнул свой окурок в пепельницу и, сразу же закурив новую папиросу, опять протянул портсигар Рубашову; однако тот остался неподвижным. – Да е…лочки зеленые, – сказал Иванов, – помнишь, как я у тебя клянчил веронал? – Он пригнулся поближе к Рубашову и дунул дымом ему в лицо. – Я не хочу, чтобы ты спешил… под расстрел, – с расстановкой произнес он и снова откинулся на спинку кресла.
– Спасибо за заботу, – сказал Рубашов. – А почему вы решили меня расстрелять?
Несколько секунд Иванов молчал. Он неторопливо попыхивал папиросой и что-то рисовал на листке бумаги. Видимо, ему хотелось найти как можно более точные слова.
– Слушай, Рубашов, – сказал он раздумчиво, – я вот заметил характерную подробность. Ты уже дважды сказал вы, имея в виду Партию и Правительство – ты, Николай Залманович Рубашов, противопоставил им свое я. Теоретически, чтобы кого-нибудь обвинить, нужен, конечно, судебный процесс. Но для нас того, что я сейчас сказал, совершенно достаточно. Тебе понятно?
Разумеется, Рубашову было понятно, и однако он был застигнут врасплох. Ему показалось, что зазвучал камертон, по которому настраивали его сознание. Все, чему он учил других, во что верил и за что боролся в течение последних тридцати лет, откликнулось камертону волной памяти… Партия – это всеобъемлющий абсолют, отдельно взятая личность – ничто; лист, оторвавшийся от ветки, гибнет… Рубашов потер пенсне о рукав. Иванов сидел совершенно прямо, попыхивал папиросой и больше не улыбался. Рубашов обвел взглядом кабинет – и вдруг увидел светлый прямоугольник, резко выделявшийся на серых обоях. Ну, конечно же, здесь ее тоже сняли – групповую фотографию бородатых философов. Иванов проследил за взглядом Рубашова, но его лицо осталось бесстрастным.
– Устаревшие доводы, – сказал Рубашов. – Когда-то и мне коллективное мы казалось привычней личного я. Ты не изменил своих старых привычек; у меня, как видишь, появились новые. Ты и сегодня говоришь мы… но давай уточним – от чьего лица?
– Совершенно правильно, – подхватил Иванов, – в этом и заключается сущность дела; я рад, что ты меня наконец понял. Значит, ты утверждаешь, что мы – то есть народ, Партия и Правительство – больше не служим интересам Революции?
– Давай-ка не будем говорить о народе.
– С каких это пор, – спросил Иванов, – ты проникся презрением к народу? Не с тех ли пор, как коллективное мы ты заменил своим личным я?
Иванов опять пригнулся к столу и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой. Его голова закрыла прямоугольник, оставшийся от снятой групповой фотографии, и Рубашову внезапно вспомнился Рихард, заслонивший протянутые руки Мадонны. Неожиданно толчок нестерпимой боли – от верхней челюсти, сквозь глаз и в затылок – заставил его крепко зажмуриться. «Вот она, расплата», – подумал он… или ему показалось, что подумал.
– Ты это о чем? – спросил Иванов насмешливым и немного удивленным голосом.
Боль утихла, сознание прояснилось.
– Давай не будем говорить о народе, – спокойно и мирно повторил Рубашов. – Ты ведь ничего о народе не знаешь. Возможно, теперь уже не знаю и я. Когда у нас было великое право говорить мы, – мы его знали, знали, как никто другой на земле. Мы сами были сердцевиной народа и поэтому могли вершить Историю.
Машинально он взял из портсигара папиросу; Иванов, наклонившись, дал ему прикурить.
– В те времена, – продолжал Рубашов, – мы назывались Партией Масс. Мы познали сущность Истории. Ее смерчи, водовороты и бури неизменно ставили ученых в тупик – потому что их взгляд скользил по поверхности. Мы проникли в глубины Истории, стали сердцем и разумом масс, а ведь именно массы творят Историю; мы – первые на планете – поняли законы исторического развития, вскрыли процессы накопления энергии и причины ее взрывного высвобождения. В этом – наша великая сила.
Якобинцы руководствовались абстрактной моралью, мы – научно-историческим опытом. В глубинных пластах человеческой Истории нам открывались ее закономерности. Мы в совершенстве изучили человечество – и наша Революция увенчалась успехом. А вы выступаете как ее могильщики.
Иванов, откинувшись на спинку кресла, молча разрисовывал лист бумаги.
– Продолжай, я слушаю, – проговорил он. – И пока не понимаю, куда ты клонишь.
– Как видишь, я уже наговорил на расстрел. – Он молча скользнул взглядом по стене, где раньше висела групповая фотография, однако Иванов не повернул головы. – А впрочем, семь бед – один ответ. Так вот, вы похоронили Революцию, когда истребили старую гвардию – с ее мудростью, планами и надеждами. Вы уничтожили коллективное мы. Неужели вам и сейчас еще кажется, что народ действительно идет за вами? Между прочим, все европейские диктаторы властвуют от имени своих народов – и примерно с таким же правом, как вы.
Рубашов взял еще одну папиросу и на этот раз прикурил сам, потому что Иванов сидел неподвижно.
– Прости уж меня за высокий стиль, – продолжал он, – но ваше диктаторство, творимое именем народа, кощунственно. Массы подчиняются вашей власти покорно и немо, но она чужда им – так же, как в любом буржуазном государстве. Народ опять погрузился в спячку: этот великий Икс истории сейчас подобен сонному океану, равнодушно несущему ваш корабль. Прожекторы освещают его поверхность, но глубины остаются немыми и темными. Когда-то мы их осветили и оживили, но то время кануло в прошлое. Короче говоря, – Рубашов помолчал, потер пенсне о рукав и надел его, – когда-то мы творили Историю, а вы сейчас просто делаете политику. Вот основная разница между нами.
Иванов откинулся на спинку кресла и выпустил несколько дымных колец.
– Что-то я не совсем понимаю, – сказал он. – Постарайся попроще.
– Поясню на примере, – ответил Рубашов. – Какой-то математик однажды сказал, что алгебра – это наука для лентяев: она оперирует неизвестной величиной – Иксом, – словно обычным числом. В нашем случае неизвестное – Икс – представляет собой народные массы. Политик постоянно пользуется Иксом – не расшифровывая его природы, – чтобы решать частные задачи. Творец Истории определяет Неизвестное и составляет принципиально новые уравнения.
– Что ж, изящно, – сказал Иванов, – но для наших целей слишком отвлеченно. Давай-ка попробуем спуститься на землю: значит, ты утверждаешь, что мы – иными словами, Партия и Правительство – переродились и предали Революцию?
– Именно, – подтвердил Рубашов с улыбкой.
Иванов не улыбнулся ему в ответ.
– И когда ты пришел к этому заключению?
– В течение нескольких последних лет – очень постепенно.
– А если точнее? Год назад? Два? Три? Четыре?
– Наивный вопрос, – ответил Рубашов. – Когда ты стал взрослым? В семнадцать лет? В восемнадцать? В девятнадцать? В девятнадцать с половиной?
– Это ты пытаешься прикинуться наивным. Каждый этап в духовном развитии есть результат определенных обстоятельств. Могу сказать совершенно точно: я стал взрослым в семнадцать лет, когда меня первый раз сослали.
– В те времена, – заметил Рубашов, – ты был вполне приличным человеком. Сейчас тебе лучше об этом забыть. – Он посмотрел на светлый прямоугольник и положил окурок папиросы в пепельницу.
– Повторяю вопрос, – проговорил Иванов, слегка принагнувшись над столом к Рубашову. – Сколько лет ты принадлежишь к антипартийной группировке?
Зазвонил телефон. Подняв трубку, Иванов сказал:
«Я занят», – и снова положил ее на рычаг. Потом выпрямился, вытянул ноги и выжидающе глянул на Рубашова.
– Ты прекрасно знаешь, – ответил тот, – что я никогда не поддерживал оппозицию.
– Видимо, придется мне стать бюрократом, – сказал Иванов. – Он выдвинул ящик и вынул из него пачку бумаг. – Давай начнем с тридцать третьего года. – Он разложил перед собой бумаги. – Установление Диктатуры и разгром Движения в стране, где победа казалась очевидной. Тебя посылают в эту страну с заданием провести чистку Партии и затем реорганизовать ее ряды…
Рубашов, откинувшись на спинку стула, внимательно слушал свою биографию. Он вспомнил Пиету, ссутулившегося Рихарда, площадь перед зданием музея, таксиста.
– Через три месяца – провал и арест. Потом – два года тюрьмы, следствие. Никаких доказательств – ты держишься образцово. Тебя выпускают за недостатком улик, и ты с триумфом возвращаешься домой…
Иванов замолчал, поднял голову, мимолетно глянул на Рубашова и продолжал: – Тебя чествуют как народного героя. В те времена мы с тобой не встречались – наверно, ты был чересчур занят. Меня это, кстати, нисколько не оскорбило. Чтобы повидаться со всеми друзьями, никакого, пожалуй, и времени не хватит. Но я-то тебя раза два видел – в почетных президиумах торжественных митингов. Ты тогда все еще ходил на костылях, и вид у тебя был предельно измученный. Казалось бы – прямой тебе путь в санаторий, а потом на ответственный государственный пост: ведь ты выполнил важнейшее поручение и четыре года рисковал жизнью. Так нет же – ты обращаешься к Правительству с просьбой отправить тебя за границу…
Иванов резко подался вперед и твердо посмотрел в глаза Рубашову.
– Почему? – Впервые с начала разговора голос Иванова прозвучал жестко.
– Может, тебе что-нибудь не понравилось? За время твоего четырехлетнего отсутствия у нас произошли определенные перемены – может, они-то тебе и не понравились?..
Он замолчал в ожидании ответа, однако Рубашов тоже молчал и спокойно потирал пенсне о рукав.
– Как раз незадолго до твоего приезда закончился Первый процесс над оппозицией, среди осужденных и ликвидированных уклонистов были твои ближайшие друзья. Когда в газетах появились отчеты обо всех совершенных ими злодеяниях, по стране прокатилась волна возмущения. Ты промолчал и уехал за рубеж – хотя не мог обходиться без костылей.
Рубашову вспомнился маленький порт, запах бензина и гниющих водорослей, оттопыренные уши борца Поля, матросская трубочка Малютки Леви… Он повесился в своей мансарде, привязав веревку к потолочной балке… Когда по улице проезжал грузовик, немного подгнившая балка дрожала, и тело Леви медленно вращалось; товарищи, пришедшие утром к Леви, подумали, что он еще не задохнулся, – так потом передавали Рубашову…
– Задание Партии ты успешно выполнил, и через некоторое время тебя назначили Руководителем Торговой Миссии в Б. Ты безукоризненно справился с поручением. Новый торговый договор с Б. – это, безусловно, блестящий успех… Если говорить о внешних проявлениях, то твоя биография ничем не запятнана. Но вот после полугода работы двух ответственных сотрудников Миссии – один из них Арлова, твой секретарь – Партия вынуждена отозвать из Б. по подозрению в принадлежности к оппозиции. На следствии их виновность подтверждается. От тебя ждут публичного осуждения предателей Партии. Но ты молчишь… Через шесть месяцев отзывают и тебя. В стране полным ходом идет подготовка ко Второму процессу над уклонистами. На следствии фигурирует твое имя; Арлова надеется – и не скрывает этого, – что ты выступишь в ее защиту. При таких обстоятельствах «нейтральное» молчание просто подтвердило бы твою виновность. И все же ты продолжаешь молчать; Партия посылает тебе ультиматум. Только под угрозой неминуемой гибели ты снисходишь до публичного выступления и осуждаешь антипартийную группу, что автоматически топит Арлову. Ее участь тебе известна…
Рубашов молча слушал Иванова; зуб опять начинало дергать. Да, ему была известна их участь. Участь Арловой. Участь Рихарда. Участь Леви… И собственная участь… Он посмотрел на светлый прямоугольник – больше от них ничего не осталось, от бородатых философов с групповой фотографии. Их участь тоже была ему известна. Однажды, на крутом перевале Истории, им открылась великая картина: будущее счастье всего человечества, перевал остался далеко позади. Так к чему все эти разговоры и формальности? Если что-нибудь в человеческом существе может пережить физическую смерть, значит, Арлова и сейчас еще смотрит – откуда-то из глубин мирового пространства – прекрасными и покорными коровьими глазами на Товарища Рубашова, своего идола, который обрек ее на расстрел… Челюсть ломило все сильней и сильней.
– Прочитать твое публичное заявление? – спросил Иванов, роясь в бумагах.
– Спасибо, не стоит, – ответил Рубашов, неожиданно для себя осипшим голосом.
– Как ты помнишь, в конце заявления – которое можно назвать и признанием – ты категорически осудил оппозицию и поклялся впредь безусловно поддерживать генеральную линию, намеченную Партией, и лично ее вождя, Первого.
– Хватит, – устало сказал Рубашов. – Ты же знаешь не хуже меня, как у нас стряпают такие заявления. Прошу тебя – хватит ломать комедию.
– Да мы уж кончаем, – сказал Иванов. – Только вот разберем два последних года. Тебя назначают Народным Комиссаром – в твоем ведении легкие металлы. Год назад, на Третьем процессе, который разгромил остатки оппозиции, руководитель группы разоблаченных уклонистов постоянно упоминал твою фамилию – но очень неясно и неопределенно. Ничего существенного доказано не было, однако в широких рядах Партии к тебе росло глухое недоверие. Ты снова сделал публичное заявление, провозгласив безусловную преданность Партии во главе с ее учителем Первым и еще резче осудил оппозицию. Это было шесть месяцев назад. А сегодня ты спокойно признаешься, что в течение нескольких последних лет считал генеральную линию неправильной, а вождя Партии – предателем Революции.
Иванов замолчал и сел поудобней.
– Таким образом, твои заявления о преданности Партии были уловкой. Ты не подумай, что я морализирую. Мы воспитаны в одних понятиях и смотрим на вещи совершенно одинаково. Ты был уверен, что наши убеждения пагубны и порочны, а твои – верны. Объявив об этом прямо и откровенно, ты бы сейчас же вылетел из Партии, а значит, тебе не удалось бы бороться за твои, по-твоему, верные идеи. И вот ты начинаешь сбрасывать балласт – чтобы уцелеть и продолжить борьбу. Мне очевидно, что на твоем месте я поступил бы в точности так же. Пока что все совершенно логично.
– И что же дальше? – спросил Рубашов.
– А вот дальше все абсолютно нелогично. Ты откровенно признаешь тот факт, что в течение нескольких последних лет считал нас могильщиками Революции, – верно? И тут же на одном дыхании утверждаешь, что никогда не поддерживал оппозиционные группировки. Ты, значит, пытаешься меня уверить, что сидел сложа руки и спокойно смотрел, как мы – по твоему глубокому убеждению – ведем страну и Партию к гибели?
Рубашов неопределенно пожал плечами.
– Может быть, я одряхлел и выдохся. А впрочем, верь во что тебе хочется.
Иванов закурил новую папиросу. Его голос сделался мягким и вкрадчивым.
– Неужели ты хочешь меня уверить, что предал Арлову и отрекся от этих – кивком головы он показал на стену, где когда-то висела групповая фотография, – только для того, чтобы спасти свою шкуру?
Рубашов не ответил. Пауза затянулась. Иванов еще ближе пригнулся к Рубашову.
– Нет, не понимаю я тебя, – сказал он. – То ты громишь генеральную линию – да такими словами, что любого из них больше чем достаточно для немедленного расстрела. И тут же, вопреки элементарной логике, утверждаешь, что никогда не участвовал в оппозиции… вопреки логике и неопровержимым доказательствам.
– Неопровержимым доказательствам? – переспросил Рубашов. – А тогда зачем вам мое признание? И о чем свидетельствуют ваши доказательства?
– В частности, о том, – сказал Иванов медленно, негромко и нарочито внятно, – что ты подготавливал убийство Первого.
Кабинет снова затопила тишина.
– Можно задать тебе один вопрос? – проговорил Рубашов, надев пенсне. – Ты и правда веришь этой чепухе или только притворяешься, что веришь?
Глаза Иванова искрились ухмылкой.
– Я же сказал: у нас есть доказательства. Могу сказать точнее: признание. Могу сказать даже еще точнее: признание человека, который готовился – по твоему наущению – убить Первого.
– Поздравляю, у вас действенные методы. И как его фамилия?
Иванов улыбнулся.
– А вот это уже некорректный вопрос.
– Могу я прочитать его признание? Или потребовать очной ставки?
Иванов улыбался. Он раскурил папиросу и выпустил дым в лицо Рубашову – с добродушной насмешкой, без желания оскорбить. Рубашов подавил неприязнь и не отстранился.
– Ты помнишь, – медленно сказал Иванов, – как я клянчил у тебя веронал? Ах да, я уже об этом спрашивал. Так вот – теперь мы поменялись ролями: ты просишь, чтобы я помог тебе угробиться. И я объявляю наперед: не допросишься. Ты убедил меня, что самоубийство является мелкобуржуазным пережитком. Вот я и присмотрю, чтоб ты не совершил его. Тогда мы будем с тобой квиты.
Рубашов молчал. Он старался понять, лжет Иванов или говорит искренне, – и одновременно подавлял в себе желание дотронуться до светлого прямоугольника на стене. «Навязчивые идеи… Ступать исключительно на черные плитки, бормотать ничего не значащие фразы, машинально потирать пенсне о рукав – возвращаются все тюремные привычки. Да, нервы», – подумал он.
– Интересно узнать, – сказал он вслух, – как ты думаешь меня спасти? Мне-то, должен признаться, кажется, что ты стараешься меня угробить.
Иванов открыто и весело улыбнулся.
– Старый ты дурень, – проговорил он и, перегнувшись через стол поближе к Рубашову, ухватил его за пуговицу пиджака. – Мне хотелось заставить тебя побушевать – чтоб ты не разбушевался в неподходящее время. Я вон даже и стенографистку не вызвал. – Он вынул из портсигара еще одну папиросу и насильно вставил ее Рубашову в рот, по-прежнему держа его за пиджачную пуговицу. – Ты же не юноша! Не какой-нибудь там романтик! Мы вот сейчас состряпаем признаньице – и все дела… на сегодня. Понял?
Рубашову наконец удалось вырваться. Он посмотрел сквозь пенсне на Иванова.
– И что же я должен признать? – спросил он. Иванов продолжал лучезарно улыбаться.
– Что ты – с такого-то и такого-то года – состоял в такой-то оппозиционной группе, но что ты категорически и решительно отвергаешь свое участие в организации покушения; мало того – ты порвал с оппозицией, узнав об ее преступных планах.
В первый раз с начала разговора Рубашов позволил себе усмехнуться.
– Если тебе больше нечего добавить, то давай кончать, – предложил он.
– Не торопись, – мирно сказал Иванов. – Я ведь понимаю, почему ты уперся. Вот и давай спокойно обсудим нравственную сторону этого дела. Тебе не придется никого предавать. Группа уклонистов была арестована гораздо раньше, чем взяли тебя; половину из них уже ликвидировали – ты и сам это прекрасно знаешь. От оставшихся мы можем получить признания поважнее твоей невинной писульки… да что там темнить – любые признания. Как видишь, я говорю откровенно – надеюсь, ты меня правильно понимаешь, – разве это тебя не убеждает?
– Иными словами, – уточнил Рубашов, – ты-то не веришь, что готовилось покушение. Почему ж ты не устроишь мне очную ставку с этим таинственным агентом оппозиции, которого я, по его признанию, якобы подбивал на убийство Первого?
– А подумай сам, – сказал Иванов. – Представь, что мы снова поменялись ролями – у нас, как ты знаешь, все может быть, – и постарайся ответить за меня. Идет?
Рубашов обдумал слова Иванова.
– Ты получил инструкции сверху, каким образом вести мое дело?
Иванов улыбнулся.
– Не совсем так. Фактически, сейчас решается вопрос о категории – П или Т – твоего дела. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Рубашов кивнул. Он знал, о чем речь.
– Ну вот, кажется, ты начал понимать. П означает Публичный процесс; Т – это Трибунал, то есть Тройка. Политические дела разбирает Тройка: считается, что они не принесут пользы, если их вынести на открытый процесс. У Трибунала особый штат следователей – твое дело у меня отнимут. Суд закрытый… и довольно скорый – никаких тебе очных ставок. Ты помнишь… – Иванов назвал несколько фамилий и мельком посмотрел на светлый прямоугольник. Когда он опять повернулся к Рубашову, у него было усталое, осунувшееся лицо и слепой, устремленный в себя взгляд.
Иванов повторил, почти неслышно, имена их старых товарищей по Партии.
– …Но пойми, – сказал он немного погромче, – мы убеждены, что ваши идеи приведут страну и Революцию к гибели – так же, как вы убеждены в обратном. Это – суть. А наше поведение диктуется логикой и здравым смыслом. Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях. Разве ты поступал иначе – в прежние времена?
Рубашов не ответил.
– Самое главное, – продолжал Иванов, – чтобы ты попал в категорию П, тогда твое дело поручат мне. Ты ведь знаешь, как подбирают дела для вынесения на открытые процессы? Я должен представить веские доказательства, что ты согласен с нами сотрудничать. Тебе необходимо написать заявление с частичным признанием своей вины. Если же ты будешь продолжать упираться и корчить из себя романтического героя, то тебя прикончат на основании показаний, которые дал предполагаемый убийца. С другой стороны, твое признание потребует более детального расследования. Мы проведем очную ставку, отвергнем главные пункты обвинения, потом признаем тебя виновным в наименее тяжких грехах оппозиции. Даже и тогда ты получишь лет двадцать – на мягкий приговор рассчитывать не приходится, но года через три объявят амнистию, и таким образом через пять лет ты уже снова будешь в седле. Советую тебе проявить благоразумие и тщательно обдумать окончательный ответ.
– Я уже обдумал, – сказал Рубашов, – мне не подходит твое предложение. Логически ты, вероятно, прав. Но с меня достаточно подобной логики. Я от нее смертельно устал – мне уже пора уходить со сцены. Отправь меня, пожалуйста, обратно в камеру.
– Что ж, пожалуйста, – сказал Иванов. – Я и не рассчитывал на быструю победу. Такие разговоры срабатывают не сразу. В твоем распоряжении две недели. Когда ты все как следует обдумаешь, заяви, чтоб тебя доставили ко мне – или пошли мне письменное признание. Я-то уверен, что ты его напишешь.
Рубашов поднялся, Иванов тоже; теперь опять было ясно видно, что он гораздо выше Рубашова. Он нажал на кнопку звонка. Пока они ждали прихода охранников, Иванов, стоя у стола, сказал;
– В одной из своих последних статей, напечатанной пару месяцев назад, ты писал, что грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества. Тебе не хочется в этом участвовать? – Он, сверху вниз, улыбнулся Рубашову.
Послышались шаги, дверь отворилась. В кабинет, по форме поприветствовав Иванова, вошли два вооруженных охранника. Рубашов молча встал между ними, они повели его обратно в камеру. Тюремные коридоры заполняла тишина, за дверьми приглушенно храпели заключенные, их храп походил на придушенный хрип. Мертво светили электрические лампы.