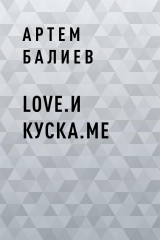
Текст книги "Love.и куска.me"
Автор книги: Артем Балиев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Тебе, без которой эта книга так бы и осталась кусками.
На серой, как дедушкин пиджак, стене бывшего горкома партии черным маркером была сделана огромная надпись:
«ЕШ БОГАТЫХ»,
и, возможно, из-за этой безграмотности, в надписи чувствовалась такая сила и злоба, что даже много лет спустя, когда здание было отремонтировано и отреставрировано, проходя мимо, я все еще видел ее, проступающую из глубин памяти через уродливый пластиковый сайдинг бледно-розового цвета, вылезающую наружу как напоминание о чей-то неимоверной ненависти, законсервированной во времени, презирающей время, решительно не принимающей попыток хоть как-то облагородить внешний вид города, которыми так гордились сотрудники местной администрации. Я вспоминал эту надпись почти каждое утро, когда шел на работу и почти каждый вечер, когда возвращался домой, останавливаясь у знакомой стены, глядя на тошнотворный бледно-розовый пластик сайдинга, удивляясь, как чья-то злоба и решительность – вот так, даже спустя двадцать пять лет, – поражает меня своей монументальностью, какой-то античностью, вечностью, состоящей всего из двух слов, крепко врезавшихся в память и никак не желающих оттуда уходить. Даже когда я уехал, избавившись от необходимости заставлять себя вставать по утрам на работу, я порой вспоминал эти длинные черные буквы, а сейчас, вернувшись, ничто не помешает мне в очередной раз пройтись по знакомому маршруту, навстречу собственным воспоминаниям.
1 декабря мне нужно будет забирать свидетельство о разводе, так что у меня достаточно времени на воспоминания. Я вернулся домой, открыл окно, впуская в квартиру утреннюю тишину этого города, включил музыку и сделал себе кофе. Да, этот город определенно подходит для разводов – он тих, уютен, не скандалит, и разводы в нем проходят также, притворно тихо и даже вежливо. Когда я подавал заявление, стараясь не пресекаться глазами со своей супругой, мне стало откровенно не по себе. Впрочем, это вполне объяснимо. До нашей встречи в ЗАГСе весь кавардак, непонимание и несовместимость были вещами настолько далекими и абстрактными, будто не имели ко мне никакого отношения. Теперь же, мысленно опустив голову, я признавался себе – да, было. Я мысленно присел, мысленно закурил, мысленно тер глаза, стараясь справиться со знакомой всем смесью обиды и бессилия. Но только – мысленно. Потому что я улыбался, всем своим видом стараясь не накалять обстановку; и все происходящее, на первый взгляд, не имело для меня никакого значения. Она разговаривала по телефону, я читал наспех купленную в ближайшем ларьке дешевую книгу, изредка поглядывая по сторонам, ожидая очереди. После мы мило покурили на крылечке ЗАГСа и разошлись в разные стороны, как актеры в конце провальной постановки расходятся по разным кулисам.
Последний акт. Я вспомню все закаты и прогулки, последний вздох на лестнице – и выдохну, губами в губы, языком по языку. Прощальный взгляд, разбитый, но надменный; последнее дрожанье твоих плеч, замерзших посреди морозной стужи таких несовершенных отношений. Кусая губы, разжимая руки, я отвернусь и вдоволь намолчусь. Я ухожу, не смея повернуться, не зная, смотришь ли мне вслед, иль так же, как и я уходишь тихо, боясь того, что я не обернусь. Занавес опустится мгновенно, потухнет свет и опустеет зал после того, как мы, не поклонившись, с тобою разойдемся в разные кулисы. За сценою пройдем мы незаметно, усталые глазами и душой, ногами, языками, каждой клеткой, стараясь, чтоб никто не подсмотрел. На выходе на миг сомкнуться плечи, чтобы разбежаться в разные углы, и больше никогда уж не встречаться. Я улыбнусь, остановив мгновение, ведь завтра будет новая премьера. А этот мы спектакль отыграли, и в новом у меня другой партнер.
Моя семейная жизнь, продлившаяся едва ли с месяц, тихонько перелилась в холостяцкий стакан с отбитыми краями и кучей грязных отпечатков. Оставалось только вдохнуть, задержать дыхание и выдохнуть, решая, как быть дальше с этим самым холостяцким существованием.
ПИШИ, СУКИН СЫН, ПИШИ! ПИШИ, ЧТО ТЕБЕ ЕЩЕ ДЕЛАТЬ? ПИШИ ТАК, КАК НИКОГДА НЕ ПИСАЛ РАНЬШЕ. РОМАН, ДАЙ МНЕ НАСТОЯЩИЙ, СУКА, РОМАН – ДАЙ МНЕ ХОТЬ ЧТО-ТО, ПОКА ТЫ НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ. ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ ЕЙ БОЛЬНО? ПИШИ, НАПИШИ ВСЕ ЭТО, БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ, ГРЯЗИ, ЧТОБЫ 21+ И СКАНДАЛ! ТЕБЕ ПЛОХО? ЭТО ЖЕ ПРЕКРАСНО, Я УЖЕ ВИЖУ ЭТИ ЗАГОЛОВКИ. «ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПОСЛЕ БОЛЕЗНЕННОГО РАЗВОДА РАБОТАЕТ НАД НОВОЙ КНИГОЙ. ПОДРОБНО НА СТР.6» ТЫ ХОТЬ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ, КАК СЕЙЧАС, У ТЕБЯ УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ. ПРИСЛАТЬ ТЕБЕ ТАБЛЕТОК? ОТ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ, ДЛЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ? НЕ МУЧАЙ НИ МЕНЯ, НИ СЕБЯ, ПИШИ!
И вот он я – сижу среди разбросанных черновиков, в компании с пепельницей и чашкой кофе. С молоком и двумя ложками сахара. Я смотрю по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что избавило бы меня от этой пустоты в голове. Пустоты неприятной, невнятной и вовсе не спасительной, как думают некоторые. Потому что иногда она начинает наполняться памятью. Знаете, как в красивом фильме, под красивую музыку – картины прожитого счастья, боли и обид. Мило и романтично. А на деле – угрюмо и чуть озлобленно. Обычное состояние не очень решительного мужчины, взявшегося разбираться в сложной систематической проблеме, имя которой – женщина.
Родной город встретил меня не особенно ласково – замерзшими листьями и укорительными взглядами со стороны друзей, когда-то яростно отговаривавших меня от идеи супружества. Некоторые полагали, что я вернусь обратно к жене (как было не один и не сотню раз за все время наших отношений), однако этого не случилось. Возможно потому что одной прекрасной ночью меня, по счастливой случайности, вытащили из ванной, когда я был уже готов совершить глупость куда большую, нежели женитьба. С тех самых пор я вернулся в свое обычное состояние «вещи в себе». Писать. Нужно писать, что угодно, просто, чтобы не спиться и не сойти с ума.
Именно тогда я и придумал ее. Придумал от отчаянья и невыносимого внутреннего одиночества. Придумал как спасение, как удар наотмашь, побольнее, для надоевшей мне действительности. Возможно, что придумал назло, а скорее всего – вопреки, подтверждая собственную способность мечтать. Я взял контуры снов, нарисовал образ, разлил по бокалам диалоги, раздал роли, определяя место действия, и поселил нас двоих на страницах собственных зарисовок. Я знал ее секунды, но, как автор, я мог представить всю ее историю от начала до конца, ее привычки, желания, мечты и все то, что я мог ей дать. А когда увидел ее вживую, в книжном магазине, принял ее за призрак, галлюцинацию, наваждение, нет, так не бывает, не может быть, но все-таки это была она.
Пожалуйста, молчи. Пожалуйста, не говори, что соскучилась. Ты прикуриваешь свою сигарету от моей. Поцелуй сигареты. Пожалуйста, не говори про наручники, иначе я в тебя влюблюсь. А мы так чудесны, когда оба, по сути, одиноки внутри. Улыбнись. Потерпи до следующей встречи. И мы снова выкинем этот мир за дверь. И всех людей. И все проблемы. Оставив себе лишь бушующую страсть такого краткосрочного рая, рая, небеса которого рдели как адское пламя, но, все-таки, рая.
Моя маленькая С., мы с тобой прожили почти одинаковые жизни. Мои ситуации повторяют твои. Может быть, поэтому мы оба такие пустые там, где обычные люди полны, где бурлят их чувства, где организм наполняется окситоцином. Нам достаточно было взгляда на одну и ту же книгу, чтобы разговориться. Чтобы позже пойти прогуляться. Пешком по улицам и так до самого моего дома. И только потом сообразить, что ты живешь на другом конце города. Пригласить тебя к себе, видя, что ты замерзла. Без всякой задней мысли. На чай. И осознание, что нужно будет проводить тебя до остановки, сказав: "Спасибо" за долгую прогулку, наполненную столь интересными разговорами, за такое приятное знакомство. А потом, на кухне, ты просто взяла меня за руку, стоя у подоконника. И любые слова в миг потеряли смысл. Да, признаюсь мне стало не по себе. Но. «Хочу быть твоей вещью». Что-то милое и звериное в двух таких бесчеловечных людях, и ты будешь об этом молчать, но, если я тебя обижу, – пожалуйся мужу. Наше случайное «Мы» такое недолгое и так ненадолго. Ты на коленях. Голова прижата к полу. Рот заклеен скотчем. Балконная дверь открыта, ты дрожишь. Кожей по коже, удар за ударом; удар за ударом, пока не устанет рука. Ты пытаешься повернуться на бок, но я просто наступаю тебе на спину. Стоп. Не шевелись. Я не закончил. Ты чувствуешь, сколько обиды в моих ударах. Сколько злости. И тебе нужна эта боль, принимая ее, мою, ты успокаиваешь то, что целые годы било тебя изнутри. «Я не люблю тебя», – и снова удар. На этот раз последний. Поднимаю тебя за волосы. Срываю скотч. Вскрик. И тишина. Нарушаемая только тяжелым дыханием, пропитанным слезами и тихим: «Еще». А потом. Много позже. Обнимать тебя сзади, такую уютную, ласково спящую, улыбающуюся во сне. Обнимать тебя и понимать, что утром ты исчезнешь, сбежишь от меня к своей полноценной жизни. Тихонько целовать тебя в шею, нашептывая: «Приятных снов, моя маленькая С.» Я знаю, скоро это закончится. Прекрасное, повторенное многократно, потеряет, в конечном итоге, свою пьянящую красоту, превращаясь в похмелье ненавистного «обычно». И если это я придумал тебя, этого я, как автор, допустить не могу.
Мы ненадолго. Но какое теперь это имеет значение, когда мы оба сделали первый шаг навстречу друг другу. Теперь, когда в прежней истории точки над «ё» почти расставлены, и моя С. – единственное, что не дает мне сойти с ума, наслаждаясь приятной ночью, – можно даже осмелиться помечтать про «И жили они долго и счастливо».
– Как скучно.
Смолкин отложил в сторону книгу, и зеркальный потолок отразил черный прямоугольник ее обложки с надписью: "Лучшие сказки всех времен и всех стран". Олег посмотрел за окно, потом перевел взгляд на сидящего напротив доктора.
– Сказки? Это же скука смертная. Зачем я должен был это читать?
Доктор в кресле только улыбнулся. Это был мужчина лет пятидесяти, с загорелым красивым лицом и густой черной шевелюрой без единого седого волоса. Если бы доктор мог видеть, он, наверное, делал бы сейчас какие-нибудь пометки в блокноте или выискивал нужную в этот момент информацию в телефоне. Но Олег Смолкин знал, что доктор Кровин слеп, поэтому он носит черные очки, ходит с тросточкой, а вместо блокнота использует цифровой диктофон.
Эльдар Кровин был давним другом его покойного отца. Он владел частной психиатрической клиникой, расположенной в исторической части города, среди красивых домов XIX века из выцветшего красного кирпича. Внешне его клиника мало чем отличалась от бывших зданий купеческой библиотеки и женской гимназии, в которых потом располагались, соответственно, Первая Городская Народная Библиотека и местное отделение НКВД. Сейчас эти здания пустовали, уставившись пустыми глазницами оконных проемов на узкие улочки, обрамленные кедрами и кипарисами, змейками убегающие сквозь новостройки к самому Черному морю.
Одной из таких новостроек была и частная клиника доктора Кровина. От аляповатой безвкусицы пластикового сайдинга новых домов ее выгодно отличало то, что видом своим она никак не нарушала архитектурный ансамбль этой части города, отстроенная в стиле конца XIX века. Конечно, каменный трехэтажный особняк, окруженный высоким забором, хоть и походил внешним видом на купеческие дома времен Империи, но, все же, выделялся своими внушительными размерами. Жители города, поначалу, удивленно взирали на этот, как они его называли, дворец, но потом привыкли. Привыкли настолько, что через двадцать лет, к тому моменту как Олег Смолкин оказался в кабинете владельца клиники, гиды уже придумали для этой клиники легенду. Мол, больница стояла здесь еще со времен градоначальника Сухова, потом ее отдали местному отделу НКВД (разумеется, как место содержания умалишенных врагов советской власти), а после добрый доктор Кровин выкупил этот участок, оплатил капитальный ремонт здания, и сделал его местом лечения душевнобольных. Вот как распорядилась историей частной клиники обычная человеческая память.
Если бы доктора Кровина спросили, как он относится к слухам и легендам, окружающих его заведение, он ничего бы не ответил, мудро пожав плечами. С точки зрения репутации это было безопасно, даже несколько выгодно, с расспросами никто не приставал, так что Эльдару было все равно, как его архитектурную прихоть воспримут жители маленького городка, затерянного где-то между лесами и морем на южном берегу Крыма.
Так же спокойно он отнесся и к просьбе сына своего старого друга, когда Олег зашел в его кабинет, расположенный на третьем этаже и попросил положить себя «под наблюдение». Он мотивировал это тем, что серьезно опасается за свой рассудок, в свете недавних обстоятельств, которые Смолкин озвучить так и не решился. Сам Олег попросился в клинику по двум, весьма веским для себя, причинам. Во-первых, он действительно опасался за свой рассудок, тут он ни слова не соврал. Во-вторых, ему хотелось выговориться, не утруждая себя возможным лечением, даже если доктор Кровин сочтет таковое необходимым. Конечно, для такой роли больше подойдет священник, а не психиатр, но ни один святой отец не даст разумных ответов на терзающие его вопросы.
– Я люблю, когда мои пациенты читают сказки перед началом беседы. Это позволяет им расслабиться. Помогло?
Доктор Кровин все так же улыбался, но Олегу от его улыбки становилось только хуже. Уж слишком она была похожа на улыбку отца, которого Смолкин девять лет назад оставил спать вечным сном на загородном кладбище. Говорят, со временем все плохое забывается, но в случае с его отцом дело обстояло как раз наоборот. От улыбки доктора в голове всплыли полузабытые картины отцовских экзекуций и наставлений, и где-то под левым легким неприятно закололо. От страха.
– Нет, не помогло. Только зря потратил десять минут нашего времени.
– Не беспокойся, – доктор многозначительно поправил очки, – сегодня никого, кроме тебя я принимать не собираюсь. Так что можем разговаривать сколько угодно.
– И во сколько мне обойдется пребывание в вашей клинике? – Олег уже начал прикидывать в мозгу, насколько полегчает его кошелек.
– Нисколько.
Смолкин удивленно посмотрел на доктора.
– Нисколько?
– Абсолютно, – Кровин извлек из кармана пачку сигарет, достал одну и закурил. – Я обещал твоему отцу заботиться о тебе, и вот теперь мне предоставляется случай исполнить свое обещание. Брать за это деньги мне не позволяет совесть. М-да, – он задумчиво выдохнул дым, – девять лет я тебя не слышал.
– Простите, – Олегу отчего-то стало стыдно, – было много работы.
– Да я понимаю, – Кровин махнул рукой, отчего пепел сигареты упал на персидский ковер его кабинета.
Но доктору, очевидно, было на это наплевать. Изучая взглядом его кабинет, Смолкин невольно ловил себя на мысли, что психиатрия весьма доходное дело. Мебель из маренного дуба, камин, отделанный мрамором, персидский ковер и коллекция оружия на стене – все это говорило, что слепой доктор сделал на чужом безумии неплохое состояние. Это вам не моя квартирка, подумал Олег, и тут же одернул себя. Неприлично рассуждать о чужом достатке, пусть даже и молча.
Хотя, глядя на убранство кабинета доктора Кровина, редкий человек не задумался бы о его доходах. Но, стоит признать, несмотря на всю роскошь, которой Эльдар окружал себя, вел он себя вполне скромно и держался на публике с достоинством слепого мудреца. Но местные все равно прозвали его Барин. Жители таких маленьких городков, в которых нет метро и ничего не взрывают, ненавидят три вещи: местную власть, местную медицину и местных же богачей, выставляющих напоказ свое состояние. И если доктор Кровин делал это неосознанно, большей частью из-за врожденной склонности ко всему аристократичному, то это не мешало горожанам недолюбливать состоятельного психиатра.
– На самом деле я не удивлен твоей просьбе, – доктор затушил сигарету о дно пепельницы, стоящей на левом подлокотнике его кресла. – В наше время многим кажется, что сумасшедший дом – самое спокойное место, что-то вроде санатория, – он усмехнулся. – Но так считают обычно неудачники, либо писатели, которые замучались слышать отказы издательств.
Смолкин чуть улыбнулся, услышав это.
– Никогда не ставил целью плодить психов для вашего заведения.
Олег получил в наследство от отца трехкомнатную квартиру и небольшое издательство «СмолПресс». Оно располагалось в трех кварталах отсюда, в небольшом двухэтажном доме, построенным еще во времена товарища Сталина.
– Ну разумеется, не плодишь. Вместо этого сам решил стать моим подопечным.
– Я не просто так решил упечь себя в психушку.
Доктор понимающе кивнул.
– Мне кажется, со мной не все в порядке, – Смолкин поежился, хотя в кабинете было тепло и совершенно не сквозило. – Я имею в виду – с головой.
– Ну, – доктор достал диктофон, и нажал кнопку "Rec.", – рассказывай все по порядку.
При виде маленького черного прямоугольника Олега охватило легкое волнение. Будто бы он собирается заняться сексом в туалете, где установлена камера видеонаблюдения. Хотя доктор Кровин не мог видеть его взволнованного лица, Смолкин знал, что он догадывается. «О чем? Да о том, что я чувствую себя не в своей тарелке от этого чертового диктофона!».
– Может быть, не надо записывать?
Он хотел добавить, что пришел к доктору как к старому знакомому, а вовсе не за тем, чтобы его история легла аудиофайлом в одну из многочисленных папок рабочего компьютера.
– Если ты попросишь, – ответил Кровин, – то после нашей беседы я сотру запись. А пока пусть записывается.
Смолкин кивнул, хотя слепой доктор этого не увидел. Секунду Олег молчал, думая, с чего же начать. Начинать с рассказа о себе было бы глупо. Олег Смолкин, молодой директор издательства "Смол-Пресс", ему 25 лет и у него куча долгов. Это все не имело к его проблеме никакого отношения. О детстве своем тоже рассказывать не имело смысла, потому что доктор Кровин знал о нем даже больше, чем сам Смолкин.
– Наверное, это началось после развода, – произнес Олег и облегченно вздохнул.
Первые слова рассказа всегда самые трудные. Дальше становится проще.
– Да, определенно, после развода. Я уже тогда начал подозревать, что со мною что-то не так. Все мои желания куда-то улетучились. Мне не хотелось есть, не хотелось пить, не хотелось работать, хотелось только двух вещей – сидеть дома и курить. Мне было плевать, что «СмолПресс» будет делать без своего директора, было плевать на заключенные контракты, мне было плевать на все, что произойдет или может произойти в будущем. Целыми днями я не выходил из дома, благо блоков сигарет было запасено на полгода вперед. Все телефоны я выключил, на вопросы в интернете не отвечал. Я похудел, оброс, не мылся несколько недель, не впускал в квартиру никого, кто приходил меня проведать. Наверное, я даже не хотел жить, но у меня не хватало смелости наложить на себя руки.
– Что ж, депрессия после развода вполне закономерное явление. Ты сильно любил жену?
– Тут дело не в любви. Я просто так привык быть с кем-то, что квартира, ванная, кровать, все, что у меня было, казалось слишком большим для меня одного. И эта величина давила на меня, только, как бы изнутри, будто из меня вот-вот что-то вылезет. Я грешным делом даже подумал, а не сидит ли во мне пришелец, которому стало тесно в грудной клетке. Вы понимаете, о чем я?
– Сильные чувства, плохие или хорошие, часто сопровождаются физическими проявлениями. Это может быть все, что угодно: от диареи до скоропостижной смерти. Так что тут дело точно не в пришельцах.
– Это я понимаю. Просто, наверное, именно из-за этого мне стали сниться эти сны.
– Сны?
– Да. Очень странные сны. Они были очень реальны, больше походили на бодрствование, чем на сновидение. И каждый сон был продолжением предыдущего.
– Осознанные сновидения?
Олег покачал головой, забыв, что доктор не может этого видеть.
– Нет, в том-то и дело. У меня не было осознания, что я сплю. У меня было ощущение, что я живу. Картинка во сне не отличалась от той, какую я вижу сейчас. Во сне я ничего не знал об Олеге Смолкине, я знал и помнил совершенно иные вещи.
– Знал и помнил? – с сомнением переспросил доктор.
– Именно, – ответил Олег, немного обрадованный тем, что Кровин заинтересовался его рассказом.
– Странно, – доктор задумчиво теребил дужки угольно-черных очков. – Очень странно. Очень нетипично для снов.
– Почему?
Олег был уверен в том, что его сны необычны, но он хотел выяснить, почему.
– Ну, – доктор достал еще одну сигарету, – попробуй ответить на такой вопрос. Что заставляет нас чувствовать себя живыми? Что означает для нас жить?
Смолкин хотел было ответить, но не смог подобрать нужные слова. Ответ на вопрос крутился у него в голове тысячью слов, мыслей и образов, но он не мог найти для них физической, словесной оболочки. "Ну…это…как…вот…". Ну, это же все знают, мысленно вскрикнул Смолкин, и тут же осадил сам себя. «Да, знают, но связно ответить зачастую не могут. И ты не можешь».
– Жить – это помнить о дне прошедшем, думая о дне грядущем, – сказал Кровин. – Именно это дает нам ощущение собственного "сейчас", позволяет идентифицировать себя как личность во времени и пространстве. Если ты знал и помнил вещи, никак не связанные с самим собой, то это, можно сказать, удивительно. Для снов такая схема не характерна. Во сне мы перерабатываем прожитую, полученную информацию, наше сознание, пусть и путанно, но, все-таки, связывает сон с реальностью, потому что реальность есть первопричина. Обычно человек не понимает, что он спит, но, тем не менее, он не разделяет себя во сне и себя в реальности. Ты можешь быть во сне кем угодно, но остаешься собой. Понимаешь?
– Понимаю. Вот именно поэтому я и пришел к вам. Потому что во сне я жил совершенно другой жизнью, как сказать, будто попадал каждый раз в другое измерение, в котором меня как Олега Смолкина просто не существовало.
– Что первое тебе приснилось?
– Люди.
– И что они делали?
– Они кричали.
Крик разбудил меня, крик на улице, далекий, сдавленный, вспыхнул и смолк. Моя маленькая С. не спала, стояла у окна в моей рубашке на голое тело, курила мои сигареты, такая родная и такая не.моя. Кто кричал, почему кричал, было уже не важно. Одного ее вида была достаточно, чтобы забыть и свои кошмары, и ее мужа, работающего в ночную смену, и разбудившего меня своим криком таинственного неизвестного. Сейчас были мы. Неспящие по ночам. Говорящие с ветром. Целующие небеса. Играющие в прятки с солнцем. Танцующие под полной луной. Поющие сомкнутыми губами в полном молчании засыпающих улиц, спящих переулков. Все это мы. Можешь не верить, но мне так сказали. Может быть, это только никотиновый сон, бред, таблетки, фантазия, вышедшая из-под контроля, может быть тебя нет сейчас рядом, и я обнимаю пустоту, но тепло твоей кожи под моей рубашкой доказывает обратное. Ночь. Можно снять привычные, человеческие тела, оставшись обнаженными. Без плоти можно так легко сливаться друг с другом. Темно, а темноте не нужна ложь, мораль, память или сомнения, только фантазии, одни на двоих.
Так что, снимай мою рубашку. Давай будем стоять ночью голые у открытого окна и курить в темноте. Наше время уходит, но мы все-таки остаемся собой, дети полной луны, украдкой забирая с неба самые спелые звезды под стихи, слетающие с искусанных губ. Давай смешаем сигаретный дым и мыльную пену и запустим на небо пару сотен новых хрустальных созвездий. Я буду стоять сзади, вдыхая наши запахи, смешавшиеся, сумрачные, эластичные и такие уютные. А утром мы вспомним слова забытого поэта. И улыбнемся. Потому что здесь такие теплые метели, а постели такие уютные.
И мы, такие юные с тобой.
Эротика, спаленная землей.
Но все это пройдет, возможно, очень скоро, растает, исчезнет. Может быть, мы – это навсегда. Может быть, мы – это надолго. Может быть, мы – это просто секунды. Стоя обнаженными в темноте глупо загадывать. Нужно наслаждаться секундами этого пьянящего «сейчас», когда все, что хочешь сказать, умещается в просторах одного только слова – «Мы». Можно разбивать хрустальные шарики наших воспоминаний, таких недолгих, и оттого еще более сладких, пьянящих.
Мы только знакомы, как странно. Волны мыслей разбиваются о силуэт твоего отражения в окне и вылетают за окно, снежинками оседая на ноябрьский асфальт. А внутри тепло. И все это – твое, лови.
Я касаюсь губами твоей шеи. «Помнишь, как все начиналось?» Я улыбаюсь в ответ, стараясь ничем не показать, насколько хорошо я это помню.
Молчание.
Ты так случайно появилась в моей жизни, будто и правда сошла с написанных строк, порою до мелочей повторяя придуманные мною сюжеты. Зарываюсь носом поглубже в твои растрепанные волосы, вдыхая кофейно-сигаретный запах с легким привкусом нашей постели. Сейчас для меня это кислород. Сжимаю твое запястье и наблюдаю за дрожанием сигареты в тонких, изящных пальцах. «Еще». Сжимаю сильнее, молчу, слегка касаясь губами обнаженной шеи.
– Боже, спасибо твоей жене, что познакомила нас.
Согласен. Все это, между нами, в секунде от поцелуя: дрожащее, витиеватое, капельку мистическое и, отчего-то, змеиное. Змеиный язык не знает слов и звуков, он молчалив, бесшумен, но оттого слаще вдыхать его аромат. Аромат цвета твоих глаз, серо-зеленых, с желтым ободком вокруг зрачка. Змеиное наречие для тел, сердец и того, что все прочие называют душой, а я – обнаженностью. Скинув плоть, отбросив в сторону движение, мы станем заложниками собственного выбора, такого несвоевременного. Мы родились не в тот день, не в тот час, слишком слабыми, чтобы выжить, но выжили. Нас убивали, травили, загоняли, осуждали и судили, делая вид, что знают нас больше и лучше; мы же молчали и жили, жилистыми руками цепляясь за единственное, что могло нам дать существование в границах наших, таких никчемных, бесполезных тел. Наслаждение. Наслаждение, доведенное до гротеска, возведенное в ранг фантасмагории. И нам ничего более не остается, как извиваться змеями в объятиях друг друга. Не думая о добре и зле. И все, что мы делаем, на самом деле, ни хорошо, ни плохо. Это наше, все наше: и поступок, и оценка, и последствие. Может быть, однажды я пойму, что совершаю ошибку, что ты совершаешь ошибку, что ошибка это единственное, что я смогу назвать по-настоящему «Нашим». Но где-то внутри зреет чувство, будто все будет не так. Поэтому давай беречь наши сокровища. «От твоих глаз проще убежать, чем забыть их». «От твоих глаз нужно делать прививки». Легким шепотом в воцарившемся безмолвии мы разговариваем одними глазами на проклятом змеином наречии.
Сделай вид, будто это действительно так. Притворись на секунду, что я ничего не придумываю, что мы, действительно нечто нечеловеческое. Среди всей будничности настоящего, среди людей, потерявших вектор, упустивших нити из рук; среди политики, религии, психиатрии; среди всех понятий глупой социологии. Среди всего этого – мы. Единственно важное. Единственно ценное. Когда все уйдет, все эти игры, карьеры, деньги и безденежье, когда потускнеют сокровища, а тронный зал станет для короля хуже тюрьмы, когда победы и поражения не будут тревожить умиротворенное сердце, – тогда останется только одно. Это что-то такое нежное, теплое, уютное. Как чашка кофе в постель. Как ласковый плед, заботливо накинутый на плечи. Как ужин, который будет ждать тебя на столе зимним вечером, когда ты, замерзший насмерть, придешь домой. Как тихое "Все хорошо" в ответ на "Как они меня заебали". Только это останется, когда не будет больше ничего важного, ценного, кроме нас и наших уютных вечеров. Как любовь. Мужа к своей жене, отца – к своей маленькой дочери. Так дай же мне на секунду представить, что все это будет у нас. Пусть это неправда, соври мне. Разве сейчас, здесь, у приоткрытого окна, правда имеет значение? Вселенная замерла, нет никого и ничего, кроме мужчины и женщины в объятиях друг друга, которые с наслаждением обманывают самых дорогих на свете людей. Самих себя.
Ты будешь гореть, я обещаю. Зачем тебе доживать до старости? Зачем нам доживать до старости? Чтобы потом всасывать сладости беззубыми ртами, не в силах вылезти из-под пледа? Лишившись радости наших молодых тел, дышащих и своенравных, лишенных радости без искажения видеть то, что осталось от столь любимых пейзажей. Пойми, такие как мы никогда не спасут миллионы, не придумают лекарство от рака, не станут президентами и премьер-министрами, не встанут во главе трансконтинентальных корпораций. Такие как мы обречены гореть, пока еще есть чему. Так иди и танцуй, на битом стекле, на углях, на душах и сердцах, влюбленных в тебя, если все равно, что будет утром. Утро будет потом. Потом будет боль и разочарование, потом будет предательство и обман, потом будет симуляция душевных страданий и моральных недугов. Все это будет потом, когда солнце взойдет. Ночь не имеет ценности, потому что, чем тише свет, тем правдивее и откровеннее мы. Так гори, гори вместе со мной. Мы так хорошо этому научились. Я напишу стихи на твоем изможденном теле, влажном от сока, напишу острой бритвой своего языка, разрывая твою душу от удовольствия и нетерпения услышать концовку. Зачем тебе доживать до старости? Зачем нам доживать до старости? Сейчас, когда у нас нет ничего, кроме грубых обрывков взаимной нехватки друг друга не стоит себя утруждать. У нас будет дом, очаг, дети, совместные планы и семейный отдых на янтарном побережье Балтики? Нет. А поэтому сейчас нам не нужно думать о старости и строить планы, не нужно включать друг друга в распорядок дня, не нужно притворяться и хвастаться. Нам достаточно гореть в объятиях друг друга доли секунд, а затем разбегаться по делам, не делая друг из друга смысла и повода к существованию, не обвиняя никого в том, что так вышло. Просто так вышло. Так зачем беречь наши тела и души, если мы вряд ли доживем до старости. Если мы не доживем до старости. Запах твоих волос разбегается по квартире тысячью нитей такого обидного «недолго». Стой, помолчи, не дыши, не спеши. Задержи дыхание и посмотри за окно. Что ты там видишь? Нас? Будущее? Небо? Янтарь? Улицы наших любимых городов? Нет. Там только ночь. Которая есть сейчас. И которой завтра уже не будет. Посмотри за окно. Что ты видишь? Ничего. Так отбрось в сторону ненужные теперь книги и формулы. Ты меня так хорошо не.знаешь. Я тебя так хорошо не.понимаю. Мы так хорошо не.подходим друг другу. Мы так хорошо не.слышим друг друга. Возможно, если бы мы прошлись, отдельно друг от друга, по уголкам наших душ, по самым тайным и непредсказуемым, мы бы отпрыгнули. Поэтому наше не.долго такое хорошее. И так ненадолго. Так давай же просто гореть, согревая друг друга. Мы так замерзли, так продрогли, нам просто так хочется запахнуться в другого, укрыться друг другом, как одеялом. И не вылезать. Потому что, там, где кончается кровать, там заканчивается и смысл. Там начинаются день и будни, мысли и опасения, расстройства и нежелание. Зачем нам доживать до старости? Этот мир лишь небрежный набросок. Поэтому я просто протягиваю тебе руки. Иди ко мне, согрейся, подлечись. Я дам тебе самое лучшее лекарство от опасений. Себя. А ты дай мне самое веселое лекарство от скуки. Себя. Сколько же в тебе этого нерастраченного, неоцененного и неоценимого, всего того, чего не понимали, не принимали, укорачивали или вытягивали на прокрустовых ложах своего миропонимания. Я возьму тебя всю, целиком, с грехами и добродетелью, тихо сжимая зубы, кусая губы, разбивая кулаки о бетонные плиты грубого «Не моя», но при этом не сходя с ума от мысли, что ты никогда не будешь моей. Ты поняла меня? Хорошо, а теперь – танцуй!








