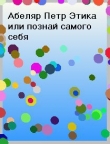Текст книги "Гадир, или Познай самого себя"
Автор книги: Арно Шмидт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Шмидт Арно
Гадир, или Познай самого себя
Арно Шмидт
ГАДИР
или
Познай самого себя
От переводчика
Произведения Арно Шмидта (1914-1979), человека огромной культуры и вместе с тем экспериментатора, который попытался заглянуть за порог двадцатого столетия, никогда не переводились на русский язык. Немецкий критик Крис Хирте, автор послесловия к "Избранным сочинениям" Шмидта, пишет о его последних романах ("Сон Цеттеля", 1970; "Школа атеистов", 1972; "Вечер с Гольдрандом", 1975; "Юлия, или Картины", 1983, опубликован посмертно в сокращенном варианте), что "их время еще не пришло", что они представляют собой "литературные монументы, превосходящие способности современного читателя к пониманию, терпению и расчетам" и все же являющие собой "позитивный вызов".
Арно Шмидт родился в бедной мещанской семье гамбургского полицейского, не смог из-за недостатка средств получить высшее образование, в период второй мировой войны был призван в армию, потом попал в плен, потом долго скитался по разоренной войной Германии, зарабатывал на жизнь переводами, даже добившись признания как писатель, всегда жил очень замкнуто и скромно в крестьянском доме, который купил в 1958 г. Он был широко образован в области истории, литературоведения, математики; был переводчиком столь высокого класса, что черновики так и не завершенного им перевода джойсовских "Поминок по Финнегану" после смерти Шмидта были изданы факсимильным изданием.
Творчество Шмидта притягательно прежде всего своей парадоксальностью. В его книгах страстность, исповедальный тон, особая яркость метафор, незаметные перетекания прозы в поэзию спонтанны, но одновременно виртуозно точны, продуманны до мельчайших деталей. Свою программу экспериментирования с формой Шмидт изложил в двух небольших эссе 1955 и 1956 гг.: "Прикидки I" и "Прикидки II". Он искал возможности зафиксировать на бумаге сон, "длинную мысленную игру", параллельное существование человека в мире собственных фантазий и мире реальности: традиционные литературные жанры и приемы казались ему не приспособленными для решения подобных задач. Примерно с конца 50-х годов (с момента начала работы над романом "Море Кризисов – тоже захолустье") Шмидт стал экспериментировать с языком, подражая Джойсу. В результате слова оказались окруженными ореолами дополнительных смыслов, вызывающими неожиданные ассоциации, что и сделало его позднюю прозу столь трудной для восприятия (и, кажется, не поддающейся переводу).
Новелла "Гадир" (1948) вошла в первый сборник рассказов Арно Шмидта, опубликованный в 1949 г., однако в ней уже присутствуют почти все характерные признаки шмидтовского текста. Действие новеллы разворачивается в некоей карфагенской крепости, в эпоху Пунических войн. Этот исторический фон воссоздан с превосходным знанием материала. Но образ старика грека, от имени которого ведется рассказ, по сути, есть "автопортрет" тридцатичетырехлетнего Арно Шмидта: не только биография старика во многом перекликается с биографией автора (вплоть до такой детали, как служба в фирме, производящей рабочую одежду); рассуждения героя новеллы о Боге и творчестве, о варварском подходе к культуре, о внутренней свободе и гнете внешних обстоятельств – это мысли, выстраданные самим Шмидтом; даже любовь к математике, даже предпочтение лунного света солнечному – черты натуры Арно Шмидта. И весь этот обширный, волнующий автора материал спрессован в лаконичную форму, построенную по принципам, которые будут объяснены через семь лет, в "Прикидках", построенную так, чтобы можно было передать не только смысл рассуждений или воспоминаний, но и их ритм, – построенную как партитура музыкального произведения.
52 года, 118 дней
Сначала насвистывал один. Когда в следующий раз они протопали мимо меня, ту же песню гнусавили уже вдвоем: "О Мирьям, моя крошка, я с тобой потанцую немножко – та-та, та-та:", дальше шли какие-то невнятные звуки, прищелкиванья и "фта-фта"; второй, по-видимому старший, невесело рассмеялся... Луна сегодня здорово светит; что ни возьмешь в руку, серебрится.
Смена караула прямо под моим зарешеченным окном; вопрос: "Что на фронте?" (значит, где-то идет война); равнодушное бормотание в ответ.
Позже: Карфаген и Рим. Рим, ах да: с этим средних размеров государством Массилия время от времени заключала торговые соглашения; оно, помнится, предусмотрительно отправило посольство к юнцу Александру, открывателю новых земель. (Еще бы! Даже интеллектуалы до сих пор восхищаются его настойчивым стремлением продвинуться дальше на Восток, за Ганг – в Бесконечность, как они говорят, выставляя его этаким образцом чистого научного влечения к непознанному! А на самом деле он получил от Аристотеля точные сведения, что Ойкумена кончается сразу же за Гангом, и вполне расчетливо, с героическим хладнокровием нацелился на Конечное, точнее, на подчинение этого Конечного собственной воле. Он был решителен и жесток, по-плебейски несдержан: мастер управлять толпой, полководец и храбрец, как-никак сын Зевса; но все это достоинства третьей категории. Поклоняться Александру простительно только двадцатилетним; человек, который, взрослея, не избавляется от подобных глупостей, дает повод усомниться в его умственных способностях и силе характера. Будь он даже сыном Аристона.) Кажется, говорят в основном о Сицилии; эти стены сильно искажают звук, к тому же когда долго стоишь на столе и тянешься вверх, к окну, ужасно устаешь. Немедленно сделать несколько упражнений: пока что сил у меня хватает (хотя живу одним хлебом и водой да профильтрованным сквозь решетку воздухом); до острова, думаю, доплыву.
Ближе к утру
Опять о Сицилии; плевать, пусть себе болтают.
52, 119
Нездоровая погода, испарения с моря и лагуны. В камере сыро, и меня знобит, сижу весь закутанный. В это время года одного одеяла мало.
Позже
Казначей Магон, с лязгом отодвинув засов, гаркнул: "Перепиши, старик!" и бросил на пол связку счетов и писем: на это я гожусь, умею красиво писать по-финикийски. Впрочем, и мои тетрадки с математическими и геометрическими записями они регулярно забирают, а потом отсылают в Карфаген, проверить, "нет ли там чего полезного". Зато я узнаю названия всех поселков в округе, имена крестьян, даже количество их скота; когда-нибудь при побеге все это очень пригодится (прутья на окнах из мягкого железа; если не торопиться, их можно перепилить простым гвоздем. А я должен еще раз вырваться на волю!) Собаки! Пятьдесят два года держат меня здесь взаперти, и все потому, что мне удалось тогда прошмыгнуть под видом матроса на их корабль и сделать два рейса на север; Туле, Басилиа, Абалус, Ментономон. Здешним торгашам-негодяям на шарообразность Земли, естественно, наплевать, на сбыт их товаров она не влияет – все-таки надо будет с таинственным видом намекнуть этим свиньям, что в Южном море они могут найти новые ойкумены, а если будут все время держать курс на запад, то доберутся до восточной оконечности нашей собственной – до Индии! Кто же не мечтает о пряностях, золоте, доходах? Они хорошие мореплаватели, блистательные техники, им сопутствует удача; но технократы когда-нибудь угробят этот мир!
Итак,
начнем переписывать (как когда-то, в месяц таргелион, когда я служил в заведении у Грифия – Массилия, "Рабочая и спортивная одежда"). Живы ли еще старый Софрон и Бык Николаус? И директор Ойкандрос: жесткий, холодный, неплохо образованный, но при всем том – гад без души и характера, не стеснявшийся нацепить на себя значок любой партии, стоило ей прийти к власти. Когда мне предстояла встреча с ним, почему-то всегда мерещились пустые круглые комнаты, безжизненно поникшие птичьи головки и склянки с рыбьим клеем; в жизни я никого так не презирал.
Полдень
Только что закончил; для маскировки оставил на столе перед собой два документа.
Стало жарко; море сверкает синевой и белизной. Какое же ревущее чудище должно быть там, наверху, на небе, если оно способно до такой степени раскалить гигантскую Землю; и все же Евдокс Книдский мечтал жить рядом с ним, чтобы изучать его природу. Если когда-нибудь вас спросят, чем греческий дух отличался от варварского, расскажите спросившему вот об этом. И о том, что я, Пифей из Массилии, уже полвека торчу здесь, в крепости Хебар близ Гадира, хотя должен был увидеть север Земли! И даю вам слово: я его еще увижу! Увижу, проскриплю еще хоть пять тысяч лет, лишь бы пережить вас, свиней; и ни одного мало-мальски подходящего для побега случая я не упущу; ни одного!!! (Два ломтя хлеба все еще лежат в тайнике – я только что встал и проверил, – а из разорванного на десяток полос одеяла получится канат; не хватает только напильника или же – ах, да просто любого кусочка стали – проклятие.)
Холодно (мне, по крайней мере; меня знобит).
Сразу же после этого
я задремал (хотя вообще-то такой привычки не имею); естественно, видел себя в конторе у Грифия; Агатон, деревенщина, болтал что-то о сотне синих шалей на продажу и о "задолженностях по поставкам", а я механически вычеркивал заказ из своей карточки (работал тогда счетоводом на складе). Прекрасней всего в этом сне был ясный прохладный воздух летнего утра; все предметы виделись отчетливо и отбрасывали такие тени, какие отбрасывает на белую скатерть просвечиваемый солнцем бокал с вином, – на подобные вещи обращаешь внимание только в молодости.
После полудня
Завтра выдадут новую одежду (то есть меня вызовут к начальству); значит, впервые за последние три года я перешагну порог камеры, пройду знакомым путем до кладовой, потом – десятиминутный врачебный осмотр и снова назад. Какое-никакое, а событие; возможно, на этот раз я что-нибудь найду. Хотя бы новые впечатления.
Небо слепяще-синее и омерзительно безоблачное (лучше уж небо без богов, чем без облаков!).
Ночью
Долго лежал без сна (может быть, разволновался из-за предстоящего дня). Из продолжительности затмений можно было бы, не привлекая никаких иных данных, вывести соотношение величин в Солнечной системе: самые долгие лунные затмения длятся около трех с половиной часов; поскольку же Луна ежедневно смещается приблизительно на двенадцать градусов, для упомянутых трех с половиной часов ее смещение составит, грубо говоря, полтора градуса, а это означает, что тень Земли в момент такого затмения имеет диаметр, равный трем диаметрам полной Луны. Учитывая несоизмеримо большую удаленность Солнца, мы можем считать, что тень Земли приблизительно равна земному диаметру (на самом деле – немного меньше!), а из этого далее следует, что диаметр Луны равен приблизительно трети земного диаметра, то есть, округленно, двум мириадам стадий. Поскольку же мы видим Луну под углом в полградуса мнимой величины, ее удаленность от Земли исчисляется двумястами пятьюдесятью мириадами стадий и т.д. и т.д. Таким образом, мы можем прийти к удивительным выводам относительно нашего расположения в пространстве; удаленность Солнца от Земли превышает эту величину по меньшей мере в сто раз, многие планеты отстоят от нас еще дальше; расстояние до неподвижных звезд вообще превосходит все мыслимые предположения. Некоторые из них горят гневно-красным светом, другие – голубым, как белужья чешуя; Алголь в созвездии Персея периодически меняет свою яркость и всегда пульсирует в одном и том же ритме. Мы еще слишком мало знаем; однако наверняка в неизмеримых глубинах пространства таятся ужасные огненные драконы, шевелящие пламенными, похожими на коробочки кунжута (точнее не скажешь!) языками и неистово бьющие себя в раскаленную грудь огненными кулачищами, – не надо об этом думать, не надо; мы обречены.
Все еще ночь
Банальный обрывок сна: низкорослый кеглеобразный человек в светло-коричневом балахоне – у него пронзительные глаза, правая половина лица изуродована рубцом – угрюмо протягивает мне пару деревянных сандалий. Естественно, все это навеяно известием о предстоящей выдаче одежды; но часто именно в таких эпизодах снов содержится больше всего смысла; раньше мне уже доводилось убедиться в том, что как раз подобного рода чепуха в точности сбывается. Потому что во сне мы действительно прозреваем будущее, из чего следует, что будущее точно предопределено, во всех своих деталях; а это, в свою очередь, означает, что никакой свободной воли нет, то есть в конечном счете получается так: ограниченное (хотя и очень большое) число элементов комбинируется в соответствии с твердыми правилами, а нам (одной из частичек, задействованных в этом процессе) остается лишь констатировать и описывать происходящее.
Ближе к утру меня слегка лихорадило; плохо!
52, 120
Утро проходит; почти полдень; чувствую беспокойство (это понятно, если покидаешь свои стены не чаще чем раз в тысячу дней, так ведь?). В полдень через решетку с шумом влетел кричаще размалеванный желто-коричневый шмель и стал описывать дикие и бессмысленные круги: это чудовище было длиной с мизинец! (Я тут же его умертвил; настиг, с холодным расчетом подкараулив удобный момент, как сама Судьба.) Я ненавижу насекомых первобытной ненавистью; в детстве меня не раз трясло от ярости, когда июньским днем в роще я тихо стоял и слушал, как вверху, в многострадальных древесных кронах, шелестяще чавкают своими челюстями несметные полчища этих мелких тварей – ползают, пробуравливают дырки в листьях, перепиливают веточки, высасывают соки; осы вонзали свои гибкие клинки в тела вздымающихся на дыбы гусениц: и тогда одна пожирала другую. Детьми мы однажды вытащили из глубины – у рифов, что перед бухтой Лакидона, – черную рыбину, которая вся была одной плавучей хищной пастью, сплошь утыканной зубами. С тех пор я знаю: добро есть нечто противоестественное, противное природе богов (и, может быть, даже человека: один лигурийский наемник как-то рассказывал мне, что наверху, на Севере, живут народы, у которых принято перерубать пленным ребра с обеих сторон позвоночника и потом, у еще живых людей, вытягивать наружу легкие – сделав из них как бы крылья; они называют это "вырезать кровавого орла"! И не думайте, что такое бывает только на Севере. Люди и боги могли бы обменяться рукопожатием; они стоят друг друга.)
Охранник
Одежду поменяют только завтра – проклятие!
После полудня потянулись облака; с северо-запада.
Пример Геродота наилучшим образом показывает, что даже великие, образованные, многогранные умы порой впадают в нелепые заблуждения, если им не хватает естественнонаучных – и прежде всего математических – знаний. Он слышал кое-что об округлости Земли, теории, которую за несколько столетий до него разработали и доказали Пифагор, Фалес, Анаксимандр, – и понимал ее только в приложении к нашей Ойкумене! По его мнению, это означало, что Земля в виде круглого диска плавает по поверхности Океана, и он, естественно опираясь на свои глубокие и обширные топологические познания, ополчился против подобных взглядов, торжествуя, доказывал их несостоятельность – и попал впросак! Он ничего в них не понял; прискорбный фарс, и, главное, нам придется сталкиваться с подобным еще не раз. А жаль! Жаркий сухой лоб; руки лениво-вялые и горячие. Собираюсь рано лечь спать.
Ветер разбудил меня среди ночи
Над башней луна золотая пылает; по сказочным пажитям буря гуляет колдует, недоброе замышляет. Я все кувшины с вином таскаю, а оно плещет – не долито до краю. Приблизился Всадник-Луна с Оруженосцем-Звездой: солдаты быстро попрятались за облачной горной грядой. Вот Облачный остров с проливами, для нас, людей, недоступными, утесами серебристыми, что кажутся неприступными. Там, где растет можжевельник, причалила лодка Луны; над бухтою маленький город видит светлые сны; его покой охраняют горы небесной страны. Но я без усилий, как ветер, лечу сквозь воздушный простор, чрез Облачные ворота вступаю в Облачный бор; и все следы моих странствий теряются с этих пор. Я буду бродяжничать вместе с облаками.
Как же, размечтался!
52, 121
Серый рассвет, звезды меркнут. Глотнул воды; чувствую себя плохо (от чрезмерного возбуждения?)
Вдруг
Лязг засовов!!! Быстро спрятать тетрадь!
После возвращения
Дрожу всем телом; я...
Пожалуй, мне нужно прилечь (потрогал лоб: все еще горячий! Очень плохо.)
Безумный восторг захлестывает меня, словно танцора на дионисийском празднике; теперь осталось ждать всего неделю, какое там: четыре дня, а может и всего три!!!
После полудня
Главное – сохранять видимость обычной повседневной рутины; никаких перемен. Работать я смогу только в темноте; днем, значит, буду отсыпаться.
Так вот, нынче утром Шаммай (еще более растолстевший) отворил дверь, лениво проворчал: "Коптишь небо, старая падаль? Ты нам недешево обходишься!.." Указал кивком головы и рукой на выход и для убедительности присвистнул. Я вяло поплелся (глупо представляться не в меру крепким и бодрым); преодолел длинный темный коридор (семнадцать шагов); холодную прихожую; свернул под прямым углом влево (восемь шагов); там была нужная дверь. Он втолкнул меня внутрь: три человека враждебно меня разглядывали; я знал из них только Магона, казначея, того, что развалился за столом перед приходно-расходной книгой. Высокий и тощий (наверное, врач) презрительно нащупал кончиками пальцев мой пульс, сдвинул кустистые брови, послушал, коротко спросил: "Возраст?" и, когда я ответил "девяносто восемь", удивленно посмотрел на Магона, который незаметно кивнул. Пощупав рукой мой лоб (ну как, сынок, горячий?), он обошел вокруг меня, приставил толстое ухо к ложбинке между лопаток, и я механически сделал глубокий вдох. Он еще о чем-то пошептался с Магоном; потом недовольно скривил рот и изрек: "Ему ничего не надо. Через восемь дней сдохнет". "Мм – пару сандалий", – пробормотал М. как-то неуверенно и посмотрел назад: там стоял лицом ко мне низкорослый человек, на вид пройдоха, в светло-коричневом балахоне; человек повернул лисью физиономию – и на тебе: широкий блестящий рубец пересекал ее от уха до пасти. Он почтительно, как подобает вышколенному чиновнику, поклонился – и тогда я увидел это! Прямо передо мной на каменных плитах пола лежал маленький стальной полумесяц, из тех, что носят солдаты на своих кожаных сандалиях, стершийся от времени, но сохранивший светлый и резкий блеск. Человек бросил мне деревянные сандалии, я нагнулся с нарочитой неловкостью, поймал на лету одну, повернувшись, ухватил вторую, уже ощущая в руке прохладу металлической подковки, и, спотыкаясь, вышел (на обратном пути я шагов не считал. Впрочем, говорить об этом излишне).
Час спустя
Подковка превосходная: крепкая, как лезвие ножа, длиной с большой палец и отлично закалена. Я перепилю оба прута внизу, а потом попытаюсь отогнуть их вверх. Если не получится, перепилю и сверху. У меня самая настоящая лихорадка, да и сердце стучит как барабан: сначала придется плыть к острову, примерно пятнадцать-двадцать стадий, то есть два-три часа – но я пока чувствую себя достаточно сильным, приседал же я сегодня. Там, на острове, две усадьбы, значит, должны быть и лодки; возьму одну и доберусь до материка, и так далее, и так далее.
Лучше всего, если бы удалось сейчас заснуть.
Вечером
Не могу спать, не могу. Эти сумерки бесконечны!
Перед глазами проходят целые картины, все слева направо и очень быстро: колышущиеся хлебные колосья, тяжелые и пронзительно-золотые; движущиеся вереницы телег; невнятные выкрики из зияющих солдатских глоток; стремительный пенный след на воде; по левому борту скользит, нескончаемо-зеленый, берег Британики, и разве не мы сами, молокососы, орали "Смерть тимухам", освещаемые полной луной?
Руки кажутся нечувствительными и неприятно-теплыми – раньше я ощущал их такими, только когда бывал сильно пьян. В сумеречных далях все еще не видно ни одной звезды. Ну что же: придется еще какое-то время поиграть с легкомысленными перистыми облаками.
Ночь
и в неутомимых пальцах кусок металла: дело движется! Медленно, конечно, но движется (собственно, пилить можно будет лишь через несколько минут, когда ночной патруль отойдет подальше; как только слышится двойной перебор неторопливых шагов, я вынужден прекращать работу. Кожа на большом и указательном пальцах уже стерлась и покрылась волдырями, но я продолжаю!).
Спустился вниз (пауза)
Когда я был молод, луна представлялась мне плодом с пенно-шелковистой мякотью и зазубренной серебряной косточкой в середине – плодом, висящим в переплетении усиков и извилистых стеблей. Сейчас посреди моей камеры застыла куском стекла световая лужа: была бы она круглой, я бы уплыл на ней, как на глыбе льда, в черную бесконечность, подгоняемый молниеносно-быстрым течением, словно последний человек на Земле (или первый: интересно, что хуже?). Пора взбираться на стол и приниматься за работу!
Над вершиной горы Матос появилась Утренняя звезда
Один
прут
уже
перепилен.
52, 122
Два часа провалялся, закутанный в одеяло; потом, чтобы не привлекать внимания, все-таки сел за стол. Голова лежит на ладони (тяжелая, как метательное ядро). Попытаюсь сэкономить еще кусок хлеба; надеюсь, до вечера рука более-менее подживет, и я смогу ею работать (или придется перепиливать прут слева направо; собственно, а почему бы и нет?).
Быстро накорябал в "официальной" тетради несколько формул, о навигации на большом круге и т. д. (им всегда требуются "прикладные" науки: тоже очень характерно для варварского духа). Хотя, если быть справедливым, не только для варварского: в этой связи можно вспомнить о судьбе моей книги про периоды. Одному издателю она показалась слишком длинной; другому – излишне смелой в своих философских выводах (я там кое-что ввернул против государственной религии); у третьего подошли к концу запасы папируса; четвертый хотел напечатать, для любителей сенсаций, только рассуждения о крайнем Севере – в виде своего рода милетских новелл (был, кстати, в восторге: как же, влияние Луны на движения Мирового океана! Подобные темы всегда его привлекали!) – в конце концов я позволил Диагору сделать копию книги для себя лично, "первое и единственное издание в двух экземплярах", после чего опять, на свою беду, отправился в Гадир. Думаю, немногое из "Периодов" сохранится для потомков; плевать: и без того в мире больше книг, чем глаз, способных их прочесть.
Стук отворяемого оконца
Ах да, вода и ячменный хлеб. Плюс к этому всегда свежий воздух и днем, без ограничения, свет. Ладно, теперь уж ждать недолго! – между прочим, многие бы еще спасибо сказали (мой папаша, к примеру, когда служил в Массилии, постоянно твердил: другим живется гораздо хуже! Глядя, с какой жадностью я, подросток, глотаю пищу, он всегда недовольно ворчал: "Погоди, когда-нибудь у тебя не будет чем набить брюхо!" Правда, сам спускал две трети жалования в портовых кабаках – с гетерами самого низкого пошиба. Да уж, мои родители, вообще родители... Это особый разговор!)
Ощущение, будто спина восковая и по ней струится ледяная вода; я болезненно возбужден (что неудивительно). Сегодня даже болтовня дозорных кажется раздражающе громкой; проклятые скоты. Надеюсь, веревка из одеяла выдержит, если разрезать его на десять полос; восемь полос, конечно, было бы надежнее, принимая во внимание ветхость этой дерюги, но высота внешней, обращенной к морю стены не менее тридцати стоп; в случае чего можно будет подвязать плащ.
Поем немного; мне нужны силы для предстоящего побега (и, главное, для теперешнего ожидания – с каким комфортом это свинорылое солнце развалилось в студенистой облачной луже!!! Хоть бы вспомнилось какое ругательство покрепче, чтоб тебя притушить: в Туле один северный варвар употреблял словечко "скрамасакс" – выговаривается трудно, как все языческие слова, но зато слух режет потрясающе; попробую? Ну да! Хоть руками отгоняй его прочь – подальше в туманное марево! Уф!)
Ненавижу
Аппий Клавдий Каудекс. Квэкс, квэкс. Консул Аппий Клавдий. Чушью занимаюсь; нервы расшалились, как у новиция в Элевсине: хватит, пора к окну; все услышанное может пригодиться!!!
Факты таковы
Карфагенская пехота под водительством (некоего) Ганнона при Регии – или при Мессане: упоминались оба названия – была наголову разбита римлянами. "Консул" значит что-то вроде "суфета" (а "каудекс" что значит – "высунь хвостик"?! Хорошая кличка для здоровенного негра; правда, я латынь знаю плохо; мне больше нравится переводить "каудекс" как "готовый сгореть" . Все шутишь, Пифей!)
Жду у окна
(вместо того чтобы отдохнуть!) И сердце стучит, как копыта рысака; но солнце наконец закатилось за ограду.
Тело ощущает себя каким-то грибом: будто я могу осторожно зажать его в кулаке и раз – (все что угодно, начинающееся с "раз..."); правая рука вроде опухла в суставе (может, я потому так копаюсь в своих ощущениях, что слишком долго не было никаких других объектов для наблюдения – только я сам да еще пара звезд. Надеюсь, что дело в этом; потому что болезнь – о ней лучше не думать. А сейчас еще ветер ворвался в окно, издевается надо мной).
Комната постепенно погружается в темноту; еще полчаса.
Размытые силуэты барок на море: их шесть (в том месте, где бьют холодные ключи!), вместительные грузовые посудины с серебряными парусами. Мне бы увидеть кого из капитанов, уговорить отправиться на север, и в путь, нахлобучу на голову ветер, как войлочную шляпу.
Еще пятнадцать минут.
В плену я с самого детства: неотесанные родители, чьи мечты никогда не подымались выше приличной обстановки для гостиной и одежды "как у всех"; вусмерть изработавшиеся, известково-серые учителя; бедность окружала меня, как неструганый дощатый забор; потом полурабская служба в Грифиевой костедробилке; потом много лет принудительная солдатская лямка и безумие массилийской войны; потом побег с переодеванием к финикийцам, вечная угроза, что примут за шпиона и убьют, каторжный матросский труд: день-деньской гнешь спину и все-таки (ты ведь ученый!) украдкой бросаешь ненасытные взгляды на проплывающий мимо берег Британики – а пустотелая деревяшка выгибает бока. Как мыслитель неизвестен или презираем; хор греческих философов обозвал меня "Филопсевдесом"; жизнь стесненного в средствах частного лица; а потом в довершение всего эти последние пятьдесят два года: "Попробуйте сами жить ради Истины! Вы обязательно будете вознаграждены!" Все, пора: давай, сталь, вгрызайся в железный брус!
Как молоток
стукнулся подбородок о тощую грудь: прут наконец прогрызен. Я тут же рухнул на стол бесчувственной грудой костей, замотанных в грубую холстину; только голова, сама по себе, все еще парила, коварная и неутомимая, над столешницей (я видел, так покачиваются головы гадюк – малейший шорох, и старые змеи просыпаются); потом опустилась и она, покрытый снегом спящий вулкан: с быстротой молнии полетел Пифей, юноша, в горячечный сон!
Опередить преследователей. Через высокие гулкие залы устремились они в погоню. Стены красного мрамора с матово-желтыми прожилками, без видимых зазоров между плит; часто расставленные группами по нескольку штук вазы в рост человека, тулова которых оплетены спускающимися из горловин вьюнками; статуи обращали ко мне свои высокомерные обезьяньи морды; крылатые быки с подстриженными клинописными бородами и ассирийскими ликами; на круглых лбах, мнилось, начертаны тайные письмена, но знак мне дарован не был. Только задев треножник и услышав звон, я заметил, что сжимаю в руке стальной ключ в форме иероглифа "анх"; выхватил из-за пазухи потемневший ломкий папирус и на бегу прочел осыпающиеся, ветхие золотые буквы: впереди, через одну залу, меня уже караулило охочее до крови карфагенское отродье. Я откинул раздувшиеся занавеси (они прикрывали пилястр), повернул четырехгранный стержень ключа в восьмой розетке лотосового фриза и проскользнул сквозь стену, которая милосердно расступилась: порфир снова беззвучно сомкнулся за моей спиной. Я задвинул железный засов и остановился перевести дух в узком, как трещина, проходе; круто вниз уходила мраморная лестница, шелковисто-серый тусклый свет беззвучно наполнял шахту. Я нашел в свитке новое указание и стал осторожно спускаться; после восьмидесяти трех ступеней "анх" опять отворил стену. С трудом я протиснулся в узкую дыру у самого пола, тщательно закрыл отверстие каменной пробкой и, заложив ее поперечным брусом, поднялся на ноги в залитом золотистым светом квадратном помещении. В стены были вделаны высокие плиты из камня мягких тонов, покрытые письменами на арамейском, халдейском, персидском... Иероглифы обращали ко мне соколиные свои головки, и, пораженный, я прочитал рядом с ними две светло-коричневые греческие строки:
... Вечер. Распахнуты окна. Плывут облака неустанно.
Дева кувшин наклонила над мраморной чашей фонтана...
Потом папирус повлек меня дальше; снова я пробирался по освещенным пустым комнатам, проникал за каменные квадры, бесшумно и мгновенно сдвигавшиеся в сторону; все глубже вниз ввинчивались лестницы, как бы приглашая меня следовать за их изгибами; все больше становилось боковых помещений, наполненных всякими диковинами, которые я видел только сквозь дверные проемы: картинами, свитками, сосудами, другими творениями человеческих рук и ума (чтобы рассмотреть их, не хватило бы целой жизни). Но я не отклонялся от своего пути; я уже давно сбежал по винтовой лестнице, долго и упорно вглядывался в немой узор каменной кладки, пока наконец не обнаружил слева на высоте своей головы косой четырехугольник с загнутой внутрь вершиной, вновь вставил ключ, шесть раз повернул его, вновь прошел под мраморными сводами и очутился на крошечной каменной площадке, прилепившейся к стене, вдоль которой тянулся узкий канал – бесконечный и мрачный, он уходил куда-то вдаль. На совершенно неподвижной и темной, но шелковисто-блестящей воде слегка покачивался челн из черного дерева, в который я незамедлительно прыгнул; надежно и легко легло в мою руку весло. Возбужденный и подавленный благоговейным чувством, я заскользил по каналу меж черными гладкими яшмовыми стенами (на которые изредка падал откуда-то сверху светлый луч), непропорционально высокими; их перекрывал неумолимо ровный потолок. Проходили часы; меня все больше угнетали тишина и замкнутость этого геометрически правильного пространства; влево под прямым углом торжественной нескончаемой чередой отходили одинаковые каналы; в любом месте я мог нащупать веслом, на глубине не более человеческого роста, плоское дно. Один раз я отворил в нише левой боковой стены длинную узкую дверь и, пригнувшись, протиснулся в проход; каменная плита встала на место, и я оказался в полной темноте; затем я до изнеможения долго спускался на бурлящей водяной подушке вниз, во второй лабиринт, похожий на первый; углубился в него, лавировал, молчал; безысходность сомкнулась вокруг Пифея, Пифея, Пифея...