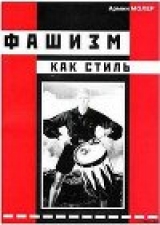
Текст книги "Фашизм как стиль"
Автор книги: Армин Молер
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Армин Меллер
Фашизм как стиль
Языковая неразбериха
Фашизм традиционно относят если не к консерватизму, то к правым силам вообще. Сами консерваторы, теснимые со всех сторон, не раз пытались «сдвинуть» влево такие понятия, как фашизм и национал-социализм. Как после 1936 так и после 1945 гг., они пытались «посадить» на левые корни и поселить на политическом ландшафте левых то, что другие называют правым тоталитаризмом. Это подкреплялось логическими аргументами и тем обстоятельством, что особенно после первой Мировой войны политические крайности подковообразно сгибались навстречу друг другу. В силовом поле между обоими краями подковы, т. е. между крайне правыми и крайне левыми, действительно наблюдается кое-какое движение туда – сюда, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно охватывает лишь одиночек и разрозненные группы, а также сферу идеологии. Граница между правым и левым массовыми движениями всегда обозначалась потоками крови. Очень многие консерваторы самим фактом своей гибели или многолетнего заточения как бы дистанцировались от правого тоталитаризма. Однако эта граница не имеет такого значения, как другая, более очевидная. Этим и следует руководствоваться в летописании.
Это служит объяснением тому, почему в данной книге специально рассматривается такое явление, как фашизм. Впрочем, и данное объяснение не лишено множества «если» и «но». В современной истории нет другого феномена, контуры которого были бы столь же расплывчатыми, как контуры фашизма. Само это слово уже не таит в себе нечто определенное. Всякий употребляет его каждый раз для обозначения чего-нибудь другого, и оно уже не действует. Ярлыки типа «фашизм», «фашист», «фашистский» пытаются прилепить к различным лицам, организациям, ситуациям, в результате чего сами эти слова утрачивают свое конкретное значение. В современном обществе, где любого, занимающегося политикой, могут обозвать фашистом, это слово уже почти ничего не значит. Это относится и к таким определениям, как «постфашистский» и «профашистский», а также к особо почитаемому в Западной Германии термину «клерикальный фашизм». Все они ни в коем случае не ограничивают само явление, имеют обобщенную и потому «размытую» тенденцию, как и ключевые понятия.
К этому следует добавить, что сегодня уже никто сам себя фашистом не называет. Исключение составляют разве что отдельные статисты-фанатики. Само это слово используется для выражения недовольства, причем почти по любому поводу. Именно таким образом содержание политических понятий выветривается, и они отмирают. Совсем не случайно само занятие довольно широким сектором теорий фашизма, их классификация и исторический анализ стали самостоятельной областью современных идеологических исследований.
Взгляд с позиций физиогномики
Кто хочет вернуть понятию «фашизм» его осязаемое содержание, может пойти простым путем и отнести это понятие к итальянскому движению, которое его, собственно, и создало, и возникшему в результате этого государству. Но всякий, кто не лишен некоторого чутья в области физиогномики, не будет чувствовать себя вольготно в рамках такого ограничения. Он скоро заметит, что само собой напрашивается распространение этого понятия за пределы Италии. Сначала он примет к сведению родственные фашизму явления в районе Средиземноморья (к примеру, испанскую Фалангу). Затем ему на ум придут попадающие под это понятие имена: Хосе Антонио Примо де Ривера в Испании, Леон Дегрелль в Бельгии, Освальд Мосли в Англии. Содержательны будут и некоторые колебания. Причислить ли сюда еще и Жака Дорио во Франции, который заметно сохранил стиль массового коммунистического движения, из которого он пришел? Считать ли фашистом румына Корнелиуса Кодряну, «Железная Гвардия» которого уходит своими корнями в крестьянство и сильно привержена христианству? За этими политиками просматривается целая плеяда писателей, которые создают соответствующую литературу. Очевидно существует такой эпохальный феномен, как фашизм, который между 1919 и 1945 гг. встречается в различных странах и сильно отличается от того, что подразумевается под этим понятием после 1945 г.
Такое пристегивание понятия «фашизм» к определенной эпохе в истории пересекается со своеобразной теорией фашизма Эрнста Нольте, хотя все еще не оставляют попыток (больше в ходе полемики, а не научных трудах) доказать существование фашизма после 1945 г. Результаты физиогномики, напротив, значительно удалены от попыток Нольте называть то, что он считает фашизмом, общим стилем эпохи между двумя мировыми войнами. Фашизм нам представляется образом действия, стилем, которые пересекает с другими образами действия на данном этапе и только вкупе с ними составляет стиль времени. В отличие от Нольте (и особенно от левых фашистских теорий) мы не распространяем понятие «фашизм» на те государства и политические движения, которые в свое время насильственно отмежевались как от либерального общества, так и от левого радикализма. Фашизм является там лишь частью от целого и представлен сильнее или слабее в зависимости от страны и ситуации.
В любом случае на провал обречены все попытки понять суть фашизма, основываясь на теоретических высказываниях его глашатаев, или, что не одно и то же, свести его к голой теории, так же, впрочем, как и попытки, ограничить его определенными социальными слоями. В этой сфере политики отношение к понятию является инструментальным, косвенным, задним числом изменяющимся. Предшествует решение о жесте, ритме, короче: «стиле». Этот стиль может выражаться и в словах. Фашизм не безмолвен. Скорее, наоборот. Он любит слова, но они у него служат не для того, чтобы обеспечить логическую взаимосвязь. Их функция скорее заключается в том, чтобы задать определенный тон, создать нужный климат, вызвать соответствующие ассоциации. По сравнению с левыми и либералами путь к пониманию здесь ищется с оглядкой и находится с трудом. По этому и результаты могут быть какими угодно. Мы покажем это на примере цитат из фашистских текстов. Это кажется парадоксальным, но бьет в десятку.
Обобщая, можно сказать, что фашисты, похоже, легко смиряются с теоретическими несоответствиями, ибо восприятия они добиваются за счет самого стиля. Нольте попытался выявить на основании стиля логическую последовательность для таких разных явлений, как «Французское действие» Шарля Море и Леона Доде, фашизм Муссолини и национал-социализм Гитлера. Подобное может случиться лишь с ученым-философом. Исторический такт предполагает рассмотрение тему с позиций физиогномики, что приносит менее наглядные результаты.
Бенн и Маринетти
Наш анализ с позиций физиогномики не охватывает сразу несколько политических явлений. Для этого необходимо более объемное исследование. Наши усилия в рамках ограниченных возможностей данной публикации направлены на выявление особенностей фашистского чувства стиля, выраженного в словах. Ведь речь здесь идет о том, что представлялось парадигмой уже для современников. Теоретик футуризма Филиппо Томмазо Маринетти уже в ранге высокого государственного сановника весной 1934 г. посещает гитлеровскую Германию. Он является рупором не только модного направления в искусстве, но и итальянского фашизма. Поэтому его принимают в Берлине со всеми почестями. Однако при этом бросается в глаза некоторая отчужденность и неуверенность по отношению к гостю с юга. Немецкий Райх еще не совсем вырос из одежды младшего партнера Муссолини. Похоже, лишь один человек принимает итальянского писателя и оратора на равных: Готфрид Бенн, который приветствует гостя на организованном в его честь «Союзом национальных писателей» банкете в качестве его вице-президента. Бенн замещает находящегося за границей президента Ганса Йоста, который, как и Бенн, «родом» из экспрессионизма, но лучше вписывается в культуру национал-социализма, благодаря своей нарочитости и фольклорной основе творчества. (В том же году Бенн вернется к исполнению обязанностей военного врача). По речи Бенна видно, что он говорит, как дышит. Это не стоит ему никаких усилий.
Любопытно, что Бенн апеллирует при этом не к объединяющему их мировоззрению или общности идей. Задачей Германии и Италии, по Бенну, скорее является «работа над холодным и лишенным театральности стилем, в который врастает Европа». Бенну нравится в футуризме то, что тот переступил через «ограниченную психологию натурализма, прорвал прогнивший массив буржуазного романа и благодаря сверкающей и стремительной строфике своих гимнов вернулся к основному закону искусства: творчеству и стилю». Положительных оценок удостаивается значительная часть фашистского восприятия: холодный стиль, стремительность, блеск, великолепие.
Обращаясь к своему гостю, Бенн стремится к определенной динамике, ритму. «В эпоху притупившихся, трусливых и перегруженных инстинктов вы основали искусство, которое отражает пламя битв и порыв героя… Вы призываете «полюбить опасность» и «привыкнуть к отваге», требуете «мужества», «бесстрашия», «бунта», «точки атаки», «стремительного шага», «смертельного прыжка». Все это вы называете «прекрасными идеями, за которые умирают». С помощью этих ключевых слов, взятых их творений Маринетти, Бенн озвучивает то общее, что «родом» из войны. Война здесь, однако, не истолковывается в национал-социалистическом духе как освободительная война окруженного народа. Имеется в виду борьба как таковая. Не имеет значения, что гость стоял тогда по ту сторону баррикад. Даже наоборот, такая война создает своего рода братство среди противоборствующих сторон, для каждой из которых противник даже ближе, чем бюргеры и обыватели в собственном лагере.
Бенн говорит также и о «трех основополагающих ценностях фашизма». Сюда не относятся какие-либо общие идеи или этические императивы. Бенн удивляет, но верен себе, говоря о трех формах: «черной рубашке, символизирующей ужас и смерть, боевом кличе «a noi» и боевой песни «Giovinezza». То, что он имеет в виду не только итальянскую специфику, самоочевидно, поскольку уже в следующем предложении он переходит на «мы». «Мы здесь… несем в себе европейские настроения и европейские формы…» Бенн делает акцент на футуризме, на том, что устремлено в будущее, когда он, отметая «ничего не значащие общие фразы эпигонов», указывает на «суровость творческой жизни», на «строгость, решительность, вооруженность духа, творящего свои миры, для которого искусство являет собой окончательное моральное решение, нацеленное против природы, хаоса, откатывания назад и т. п.»
Против современности
Словам Бенна о «вооруженности духа, творящего свои миры», в посвященной Маринетти речи отводится особо место. Отождествление искусства (а в широком смысле и стиля) с «моральным решением» подчиняет мораль стилю. Стиль господствует над убеждениями, форма над идеей. Это нечто такое, что должно восприниматься как вызов, даже как провокация всяким, кто «родом» из просвещения. Речь здесь идет о чем-то более обостренном, чем конфликт между этикой убеждений и этикой ответственности, в который обычно втягиваются левые в своей полемике с правыми. Причины такого конфликта, по крайней мере, самоочевидны. Сталкиваясь же с фашистами, левые вступают в конфронтацию с чем-то совершенно непонятным, полагают, что наталкиваются «лишь на эстетические категории и более ни на что». Не следует забывать, что слово «эстетика» образовано от греческого глагола «aisthanestai», что соответствует глаголам «воспринимать», «рассматривать». Эстетическое поведение изначально предполагает отказ от подхода к действительности, руководствуясь абстракциями, некой «системой».
Неправильное толкование понятия «эстетический» – не единственное недоразумение. Описанная выше позиция возвращает к декаденсу конца прошлого-начала нынешнего века (и еще дальше к несентиментальным направлениям Первой романтики). Но к этому декаденсу не следует относиться упрощенно. Он означает не только распад, нервозность, тихое загнивание, но одновременно и переход, даже поворот к более жесткому, более грубому. Известный критик декаданса Ницше еще в начале «Ecce homo» говорил о его «двойственном происхождении: от самой низшей и от самой высшей ступени на лестнице жизни – одновременно, и декаденс, и начало». Кто прослеживает духовные корни фашизма, рано или поздно натолкнется на одну из самых заметных фигур этого «декаданса» – Мориса Барреса, писателя и депутата, который начинал свою жизнь как денди, а закончил – в ипостаси некоего политического символа. В его трудах и его поведении уже присутствуют образцы фашизма. На его могучем фоне его ученики Ла Рошель и Бразилак кажутся лишь слабыми копиями.
«Эстетизм» и «декаданс» являются лишь отдельными симптомами охватившего два последних столетия весь западный мир процесса. Продолжая средневековый спор между универсалистами и номиналистами, его можно было бы назвать номиналистическим поворотом нового времени. Это означает, что универсальные ключи из прошлого утеряны. Распались старые системы объяснения мира, которые давали ответ на любой вопрос. Чем больше отказываются от попыток объяснить мир, тем отчетливее на передний план выдвигается то особенное и частное, что приобретает черты формы на фоне бесформенного. В этом суть «решения Бенна, нацеленного против природы, хаоса, откатывания назад, бесформенного и т. п.» Оно всегда тесно связано с отказом от универсальной и ко всему подходящей морали. Категория «моральный» является единственной категорией, вырванной из хаоса. Проще говоря, можно сказать, что речь здесь идет о преодолении идеализма с помощь экзистенциализма. Последний не просто представляет некоторые философские школы, а является процессом, который получил свое развитие в период между Мировыми войнами, охватывает все сферы жизни и еще не завершился. Мы упомянули об этом для того, чтобы показать на каком духовно-историческом фоне нам видится все вышесказанное.
Третий Райх – подозрение в фашизме
На обозначенном фоне четко выступают лейтмотивы речи Бенна, посвященной Маринетти. «Строгий стиль» – это форма, вырванная из хаоса бесформенного. Это стиль, который живет напряжением футуристической юности и черной смерти, по необходимости включает в себя антибуржуазный аффект, делает акцент на энергии и инстинкте. Типичным является и то, что в нем почти полностью отсутствует все то, что особо выделялось тогда, в 1934 г.: традиция, простодушие, народность, морализаторство, культ здорового образа жизни, национальное и социальное, родная почва и раса. (Когда Бенн в те годы говорит об отборе и воспитании, это «лежит» по ту сторону расовой гигиены). Граница очерчена довольно строго.
Однако это не граница, что отделяет законопослушного гражданина от оппозиционера. В то время Готтфрид Бенн еще отождествляет себя с Третьим Райхом, от имени которого он и говорит гостю из Италии: «Форма… во имя и ради нее было завоевано все то, что вы видите в новой Германии; форма и отбор – два символа нового Райха… отбор и стиль в государстве и искусстве как основа императивного мировоззрения, которое утверждается. Будущее, которое нас ожидает – это государство и искусство…» (То, что вместо «народа» названо «государство», отнюдь не случайно.) «Политическое как эстетическая мощь» этой теме посвящен сборник работ учеников Бенна, вышедший спустя год после адресованной Маринетти речи в издательстве творческого союза.
Однако отождествление Бенна с Третьим Райхом не было должным образом воспринято. Вскоре после этого он уходит (точнее, его уходят) во внутреннюю эмиграцию. Его выбор 1933/34 гг. будет позже истолкован как его приверженцами, так и большинством критиков как несчастный случай, мимолетная слабость характера. Так как в германских пределах затягивающаяся петля четко обозначилась лишь позднее (после 1934 г.), не все осознали внутреннюю последовательность развития Бенна (от ранних новелл и стихотворений «Место казни» и «Четвертый период» до посвященной Маринетти речи). Способствовала этому и аргументация при помощи которой Бенн после 1934 г. вытеснялся на периферию. Она была взята из «словаря выродившегося искусства». Она была направлена против экспрессионистских истоков Бенна, как будто экспрессионизм сам по себе уже является «левым» или «либеральным! течением в искусстве. Ругательные слова известны: «извращенная свинья», «дерьмовая мазня» и т. п. Однако тогда было непозволительно называть его тексты 1933/34 гг. фашистской ересью. Нельзя было сбросить со счетов итальянского союзника, с помощью которого стремились достичь свободы во внешней политике.
Что касается внутреннего потребления, следует отметить, что слово «фашист» пользовалось особой любовью у критиков в Райхе. Именно так величали отступников ортодоксальные национал-социалисты. Для них слово имеет конкретный смысл. Существовало две формулы критики неудобных лиц, которых относили к левым, либералам или дремучим консерваторам. Более жестокая и граничащая с доносом в полицию называлась «черный фронт» (происходит от одноименного движения Отто Штрассера) и предназначалась для обозначения собственно национал-большевизма, а также вообще национал-революционеров и их разрозненных групп, действовавших на политическом ландшафте где-то между Эрнстом фон Заломоном, крестьянским вождем Клаусом Хаймом и бывшим молодежным лидером Артуром Марауном. Слово «фашизм (и только для внутреннего потребления) использовалось более дифференцированно. Оно предназначалось для духовной дискриминации, а не для объявления кого-либо вне закона.
Во время войны автор часто сталкивался с тем, что ссылки на Эрнста Юнгера со стороны партийцев сопровождались навешиванием ярлыка «фашист», что имело негативное звучание. Впрочем, четыре книги Юнгера, вышедшие в период между 1920–1925 гг. и посвященные Первой мировой войне, причислялись в Райхе к национальной литературе. А все последующие произведения, в которых автор отошел от наивных фронтовиков-националистов, или вообще не замечались критиками и историками Третьего Райха, или находили весьма сдержанный прием. Это особенно относится к первому изданию «Авантюрного сердца» (1929), книге «Рабочий» (1932), эссе «Тотальная мобилизация» (1931) и «О боли» (1934). В немецкой истории духа им предназначалась такая же функция, как и упомянутым произведением Бенна 1933/34 гг. Они настолько точно и четко озвучивают определенную духовную позицию, определенный стиль, что национал-социализм, несмотря на внешнее сходство, инстинктивно ощущает в них нечто чуждое и упрекает автора в фашизме.
Эта отрицательная позиция в отношении и Бенна, и Юнгера нацелена против «холодности» и «выпячивания собственного «я»». У писателей такого типа совершенство формы важнее, чем служение народу, наслаждение доминирует над долгом. Жест им кажется существеннее приверженности, решительный противник ближе, чем рядовой соотечественник. За всем этим национал-социалистам видится новый аристократизм. Юнгер, который однажды сказал, что «в приличном обществе сегодня неловко печься о судьбе Германии» (его подозревают в том, что высказанное в 1929 г. мнение он не изменил и после 1933 г.), этот Юнгер слывет денди, как, например, Габриель Д’Аннунцио или Баррес. (Национал-социалисты упрекают во всем том, что не относится к германскому).
Магический нулевой пункт
Готтфрид Бенн и Эрнст Юнгер принадлежат к одной и той же «духовной семье», но к разным ее ветвям. У Юнгера встречается кое-что такое, чего не найдешь у Бенна, который родился почти на десять лет позже. Бывают ситуации, при которых (за исключением индивидуального) разница в десять лет означает чуть ли не другое поколение. Исхоженный «авантюрным сердцем» мир напоминает ночную сторону залитого солнцем дорического мира Бенна.
В первой редакции «Авантюрного сердца», которой и днем с огнем не сыщешь, Эрнст Юнг написал слова, которые навсегда запечатлелись в памяти у определенного и сравнительно малочисленного слоя людей: «В мире о нас ходит молва, что мы в состоянии разрушить храмы. И это уже кое-что значит во время, когда осознание бесплодности приводит к возникновению одного музея за другим… Мы славно потрудились на ниве нигилизма. Отказавшись от фигового листа сомнений, мы сравняли с землей 19-й век (и нас самих!). Лишь в самом конце смутно обозначились лица и вещи 20-го… Мы, немцы, не дали Европе шанса проиграть». В этих часто цитируемых и зачастую поверхностно трактуемых словах проявляется «номиналистический» аффект: защита опустевших общих мест (фиговый листок сомнений), направленность против универсализма («Европа»).
То, что такое толкование не притянуто за уши, подтверждает и другое место в той же книге (стр. 189), где Юнгер говорит о «последовательных попытках гуманности скорее увидеть человека в любом бушмене, чем в нас; отсюда наш страх (поскольку и насколько мы европейцы) перед самими собою, который нет-нет да и проявится. Прекрасно! И не надо нас жалеть. Ведь это превосходная позиция для работы. Снятие мерки с тайного, хранящегося в Париже эталона метра (читай: цивилизации) означает для нас до конца проиграть проигранную войну, означает последовательное доведение нигилистического действия до необходимого пункта. Мы уже давно маршируем по направлению к магическому нулевому пункту, переступить через который сможет лишь тот, кто обладает другими, невидимыми источниками силы». Было бы нелепо истолковывать эти слова в немецком национальном контексте. Немецкое здесь не являет собой противоположность «французскому» или, скажем, «английскому» (такой враждебности у Юнгера нигде не встретишь). Немецкое означает здесь просто отказ от признания этого эталона.
Желание сделать выводы из крушения западных ценностей можно было бы назвать экзистенциализмом. Но это довольно широкое понятие. То, как здесь описывается «фашизм», является своеобразной попыткой выбраться из краха общих мест и систем и вернуться к вопросам существования. Прежде всего, здесь не следует упускать из виду своеобразное взаимодействие разрушения и анархии с одной стороны и формы и стиля – с другой. В упомянутой книге (стр. 222) Юнгер все время по-новому описывает эту полярность: «Мы возлагаем наши надежды на молодых, которые страдают от жара потому, что в их душах – зеленый гной отвращения. Мы видим, что носители этих душ, как больные, плетутся вдоль рядов кормушек. Мы возлагаем свои надежды на бунт против господства уюта, для чего требуется оружие разрушения, направленное против мира форм, чтобы жизненное пространство для новой иерархии было выметено подчистую». (В предложениях такого рода нет смысла придираться к отдельным словам, так как слово здесь не имеет того устойчивого значения, как при системном мышлении. Бенн, например, никогда бы не сказал об оружии разрушения, направленном против мира форм. Однако Юнгер, говоря о бунте и новой иерархии, пересекается с Бенном.)
Эрнст Юнгер ушел добровольцем на Первую Мировую, и феномен, который мы здесь пытаемся описать, немыслим без тех молодых людей, которые по всей Европе тогда добровольно взялись за оружие, оставив школьные парты, сдав в спешке экзамены и скрыв свой истинный возраст. Если беспристрастно взглянуть на свидетельства того похода, едва ли можно натолкнуться на испытываемую к врагу ненависть. Она была заметна в тылу. За выдвинутой на передний план необходимостью защиты отечества ощущается и нечто более неотложное: тоска по другой, неограниченной форме жизни. Конечно, она вскоре заглушается монотонностью окопной войны, вездесущей смертью. Но те, кто выжили, принесли с собой в оставшийся либеральным мир напряжение юности и смерти и уже не смогли этого забыть.
И в этой связи у Эрнста Юнгера можно встретить запечатлевающиеся в памяти формулировки. Данную проблему он четко высветил в конце первой редакции «Авантюрного сердца». С одной стороны он заклинает «пылкие мечты, которые являются привилегией юности, гордую таинственную дичь, что перед восходом солнца выходит на просеки души». И он продолжает: «К самым опасным сомнениям человека в стадии становления, особенно в то время, когда подлость скрывается под маской высокой гуманности, относятся сомнения в реальности грез, в существовании той области, где действуют ценности более смелой жизни…» С другой стороны, «безвестные и без вести пропавшие напоминают» ему «о тайном братстве, о более высоком круге жизни, который сохраняется благодаря духовному хлебу жертвы». И Юнгер говорит о «воздухе огня, что необходим душе для дыхания». В часы, когда шевелятся внутренние крылья юности, пока ее взгляд скользит по крышам домов лавочников, юность должна смутно осознавать, что где-то в дальней дали, на границе неизведанного, на ничьей земле охраняется каждый сторожевой пост».
Текст, подобный этому, сегодня, почти полвека спустя, кажется чуждым не только из-за выбранных образов. Кое-кого он может и шокировать. Мы процитировали его, как и речь Бенна на банкете в честь Маринетти потому, что это облегчает восприятие политических лозунгов того времени… Хотелось бы остановится на двух ошибках, которые то и дело наблюдаются при толковании ранних политических трудов Эрнста Юнгера. Говорят, во-первых, о том, что это рассуждения одиночки высокого полета, что он пишет только для себя и нескольких других. Конечно, тогда мал кто мог так формулировать свои мысли. Нечто подобное можно встретить разве что у Ла Рошеля, Рене Квинтона, немного цветистее у Габриеля д’Аннунцио и некоторых других. Но эти авторы формулируют то, что инстинктивно чувствуют многие. Это касается и скрытого напряжения юности и смерти во всех упомянутых текстах. Например, во время гражданской войны в Испании 1936-39 гг., которая одновременно стала апогеем европейского фашизма (в нашем понимании), на одной из противоборствующих сторон был слышен клич: «Да здравствует смерть!». По своей парадоксальности это, сведенное к формуле, одно и то же.







