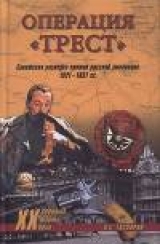
Текст книги "Операция "Трест". Советская разведка против русской эмиграции. 1921-1937 гг."
Автор книги: Армен Гаспарян
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
кий расчет? Склонен думать, что логичным завершением «Син-диката-2» был именно продемонстрированный всей русской эмиграции гуманизм советской власти. Не стоит забывать, что большая часть членов «Союза защиты Родины и свободы» оставалась на свободе. Им-то и давался этот сигнал: штыки в землю, господа. Даже таких лютых ненавистников советской власти, как Савинкова, рабоче-крестьянское правительство милует. Что уж о вас-то говорить? И надо сказать, что соратники все поняли правильно. Больше боевики главного террориста начала XX века акции на территории СССР не проводили.
Глава 8. Элитный узник Лубянки
После оглашения приговора Савинков продолжал находиться во внутренней тюрьме ГПУ. Ему были созданы невиданные для этой организации условия. В камеру постелили ковер. Поставили мебель. Разрешили писать воспоминания и вести дневник. Кое-что даже напечатали, заплатив автору гонорар и разрешив ему свободно распоряжаться этими средствами.
Крайне интересен его дневник. О чем же думал бывший эсеровский террорист? Переосмыслял ли он свою жизнь? Можно и так сказать. Но в целом его мысли как-то не очень походят на раздумья опытного политика. Вот, положим, 9 апреля 1925 года, он больше напоминает, как сказали бы тогда, «студентика»: «Япривык ко всему. Кроме того, мне кажется, что люди устроены так: когда им выгодно, они бывают честными, когда им невыгодно, они лгут, воруют, клевещут. Может быть, бескорыстен Дзержинский и еще некоторые большевики. Под бескорыстием я не понимаю только простейшее– бессребре-ность, но очень трудное – отказ от самого себя, то есть от всех своих всяческих выгод. Этот отказ возможен лишь при условии веры, то есть глубочайшего убеждения, если говорить современным языком, хотя это не одно и то же. Из своего опыта я знаю также и то, что цена клеветы, как и похвал, маленькая. Молва быстротечна. Когда я был молод, я тоже искал похвалы и возмущался клеветой...»
Разумеется, чекисты знали, что Савинков ведет дневник. И он делал все, чтобы своими записями доставить им удовольствие: «Я не мог дольше жить за границей, не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в правоте борьбы. Не мог, потому что не было покоя. Не мог, потому что хотелось писать, а за границей что же напишешь ? Словом, надо было ехать в Россию. Если бы, наверное, знал, что меня ждет, я бы все равно поехал...»Удивительно: он продолжает настаивать на версии, что пал не жертвой блестяще проведенной операции чекистов, а собственного литературного дара. Он постоянно напоминает, что это не иностранный отдел ГПУ переиграл аса подпольной работы, а он сам добровольно приехал в Россию, чтобы капитулировать перед большевиками. Я нахожу этому только одно объяснение: он продолжал начатую на суде игру, надеясь что когда-нибудь его дневники будут опубликованы и благодарные потомки по достоинству оценят всю мощь любви Савинкова к родине. Хотя вполне допускаю и то, что он, жертва собственного мистического мессианства, свято уверовал, что он действительно по собственному желанию нелегально перешел границу СССР.
Он не только ведет дневник. Пишет еще и рассказы. Читает их вслух сотрудникам иностранного отдела ГПУ Но то ли он плохо это делает, то ли рассказы никчемные. Чекисты скучают. Под любым благовидным предлогом стараются избежать вечера художественного чтения. Савинков негодует. Вот что он записывает в свой дневник: «Яработаю, потому что меня грызет, именно грызет желание сделать лучше, а я не могу. Когда я читал свой рассказ, один ушел, другой заснул, третий громко разговаривал. Какой бы ни был мой рассказ – это настоящая дикость, полное неуважение к труду. А надзиратели, видя, как я пишу по восемь часов в сутки, ценят мой труд. Так называемые простые люди тоньше, добрее и честнее, чем мы, интеллигенты. Сколько раз я замечал это в жизни! От Милюкова и Мережковского у меня остался скверный осадок не только в политическом отношении. В политике– просто дураки, но в житейском – чванство, бессердечие, трусость. Я даже в балаховцах, рядовых конечно, рядом с буйством, грабительством видел скромность, сердечность, смекалку...»
Иной раз Савинков все-таки вспоминает, что он политик. И берется осмысливать опыт последних лет. Но делает это в свойственной себе манере: не признавая собственных ошибок. Больше того, оставаясь в плену мира собственных самодельных иллюзий. Когда-то, в самом начале операции «Синдикат-2», Савинков написал статью с этим прекрасным названием. Но ему и в голову не пришло, что его иллюзии гораздо страшнее тех, что он находил в умах русской эмиграции: «Яне то чтобы поверил Павловскому, я не верил, что его смогут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. А в том, что его не расстреляли,– гениальность ГПУ. В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 23-го года с глазу на глаз в маленьком кабаке на рю де Мартин. У меня было как бы предчувствие будущего, я спросил его: «А могут быть такие обстоятельства', при которых вы предадите лично меня?» Он опустил глаза и ответил: «Поживем– увидим». Я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать. Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский! Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете. Вероятно, страх смерти ? Очень жестокие лица иногда бывают трусливы, но ведь не трусил же он сотни раз. Но если не страх смерти, то что ? Он говорил чекистам, что я не поеду, что я такой же эмигрантский генерал, как другие. Но ведь он же знал, что это неправда, он-то знал, что я не генерал и поеду. Зачем же он еще лгал ? Чтобы, предав, утешить себя ?Это еще большее малодушие. Я не имею на него злобы. Так вышло; лучше, честнее сидеть здесь в тюрьме, чем околачиваться за границей, и коммунисты лучше, чем все остальные. Но как напишешь его, где ключ к нему? Ключ к Андрею Павловичу (Федорову– А. Г.) – вера, преданность своей идее, солдатская честность. Ключ к Фомичеву – подлость. А к нему ?А если бы меня расстреляли ? В свое скорое освобождение я не верю. Если не освободили в октябре– ноябре, то долго будут держать в тюрьме. Это ошибка. Во-первых, я бы служил Советам верой и правдой, и это ясно; во-вторых, мое освобождение примирило бы с Советами многих, так – ни то ни се. Нельзя даже понять, почему же не расстреляли, зачем гноить в тюрьме ? Ни я этого не хотел, ни они этого не хотели. Думаю, что дело здесь не в больших, а в малых винтиках. Жалует царь, да не жалует писарь...»
Это была одна из последних записей в дневнике. Но интересна она не только этим. Обратите внимание, как Савинков верит, что, выпустив его из тюрьмы, большевики с восторгбм будут наблюдать, как к ним в объятия будут бросаться сотни его сторонников. Как говорил герой Булгакова: «Обнял и прослезился». Бывший эсеровский террорист настолько надоел чекистам, что те посоветовали ему написать письмо Дзержинскому. Мы люди маленькие. Как начальство решит – так и будет. И Савинков пишет. 7 мая 1925 года председатель ГПУ с интересом читал: «Я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все-таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.
Когда меня арестовали, я был уверен, что могут быть только два исхода. Первый, почти несомненный,– меня поставят к стенке; второй– мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т.е. тюремное заключение, казался мне исключенным: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, «исправлять» же меня не нужно – меня исправила жизнь.
Так и был поставлен вопрос в беседах с гр. Менжинским, Арту-зовым и Пиляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать; я был против вас, теперь я с вами; быть серединка-на-половинку, ни «за», ни «против», т.е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем не могу.
Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован и что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле.
Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятию третий исход оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме – сидеть, когда в искренности моей едва ли остается сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.
Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза. Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и, мне не стыдно сказать, многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь. Ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию. Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, прямо и ясно, чтобы я в точности знал свое положение».
Председатель ГПУ даже не счел нужным отвечать на это письмо. Он лишь попросил чекистов доходчивее объяснить гражданину Савинкову, что не только у большевиков существует непреложность наказания за преступление, так что о свободе он заговорил явно рано.
Надо сказать, что в тот день у Савинкова было прекрасное настроение. Даже отказ Дзержинского выпустить его на свободу не омрачил бывшего лидера «Союза защиты Родины и свободы». Он попросил чекистов отвезти его на прогулку в Царицынский парк. Подышал свежим весенним воздухом, развлекая охранников рассказами о своей героической борьбе с царским режимом. Даже выпил немного коньяку.
Поздним вечером его привели в кабинет Пиляра. Тут он должен был дождаться конвоя, который отвел бы его в тюремную камеру. Было душно, поэтому открыли окно. Подоконник был низким – всего 30 сантиметров от пола. Савинков расхаживал по кабинету, поворачивая всегда у этого окна. Согласно официальной версии, он даже посмотрел вниз один раз. Еще раз приблизился к окну. И вдруг резко прыгнул. Никто из чекистов даже не успел подбежать...
Медицинская экспертиза установила, что он умер мгновенно. На следующий день в советских газетах появилось официальное сообщение о смерти бывшего эсеровского боевика: «Седьмого мая Борис Савинков покончил с собой самоубийством. В этот же день утром Савинков обратился к товарищу Дзержинскому с письмом относительно своего освобождения.
Получив от администрации тюрьмы предварительный ответ о малой вероятности пересмотра приговора Верховного суда, Б. Савинков, воспользовавшись отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, выбросился из окна пятого этажа во двор и разбился насмерть.
Вызванные врачи в присутствии помощника прокурора республики констатировали моментальную смерть».
Не остались в стороне и эмигрантские газеты. Знаменитый фельетонист Яблоновский, известный всем своим острым языком, писал: «Драма Савинкова рисуется мне в самом простом, даже простеньком виде: обещали свободу. Несомненно, обещали. Надули. Нагло, жульнически надули. Человек не стерпел и выбросился в окно. Туда ему и дорога».
Глава 9. Самоубийство или убийство?
В Советском Союзе никогда не подвергалось сомнению: Савинков покончил с собой. Всем желающим были доступны слова Дзержинского: «Он остался верен себе. Мутно жил и так же мутно умер». Эмиграция сильно сомневалась, что легендарный боевик сам, добровольно распрощался с жизнью. Дескать, времена Каляева и Сазонова канули в Лету. Хотя со временем все согласились, что самоубийство – логичный итог всей деятельности Савинкова, в которой театральности всегда хватало с избытком.
Шли годы. Александр Исаевич Солженицын выпустил свой легендарный «Архипелаг ГУЛАГ», где и появились новые подтверждения версии убийства Савинкова: «Ульрих в «Правде» даже объяснялся и извинялся, почему Савинкова помиловали. Ну, да ведь за семь лет какая ж и крепкая стала Советская власть!– неужели она боится какого-то Савинкова/(Вот на двадцатом году послабеет, уж там не взыщите, будем сотнями тысяч стрелять.)
Так после первой загадки возвращения был бы второю загадкою несмертный этот приговор, если бы в мае 1925 года не покрыт был третьею загадкой: Савинков в мрачном настроении выбросился из неогражденного окна во внутренний двор Лубянки, и гэпэушники, ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его крупное тяжелое тело. Однако оправдательный документ на всякий случай (чтобы не было неприятностей по службе) Савинков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой,– и так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что даже сын умершего Лев Борисович вполне верил и всем подтверждал в Париже, что никто не мог написать этого письма, кроме отца, что кончил с собою отец в сознании политического банкротства.
И мы-то, мы, дурачье, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки надлубянскими лестничными пролетами натянуты с тех пор, как бросился тут Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем: ведь опыт же тюремщиков международен!Ведь сетки также в американских тюрьмах были уже в начале века – а как же советской технике отставать ?
В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Прюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросил Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор!»
Давайте еще раз вернемся в тот день.
Итак: утром 7 мая 1925 года Савинков пишет письмо Дзержинскому с требованием: или расстреляйте, или дайте работать. Примерно в 20.00 три не последних сотрудника ОГПУ, Сперанский, Пузицкий и Сыроежкин, поехали с Савинковым в царицынский парк. Нд прогулку. Вернулись на Лубянку спустя три часа. Зашли в кабинет № 192, который находился на пятом этаже. Занимал его заместитель руководителя контрразведки Пи-ляр. Стали ждать конвойных, которые должны были доставить Савинкова в камеру Бывший террорист расхаживал по кабинету, рассказывал о вологодской ссылке. Чекисты сидели: Сперанский – на диванчике, Сыроежкин – за столом. Пузицкий в тот момент вышел из комнаты. Окно было распахнуто. Душно было в тот вечер, в воздухе пахло грозой. И тут Савинков ни с того ни с сего одним прыжком достиг окна и прыгнул головой вниз...
В конце 90-х годов внезапно нашелся еще один очевидец. Борис Гудзь, близкий друг Григория Сыроежкина. Он был в тот вечер в соседней комнате. Ветеран службы внешней разведки достаточно подробно описал все внеслужебные разговоры на Лубянке по поводу поступка Савинкова. И убежден: это было роковое стечение обстоятельств: «Савинкова как раз привезли из ресторана. Конечно, был он выпивши. Черт его знает, почему вдруг взыграли алкогольные градусы ?Думаю, именно они обострили давнюю обиду. После того как ему заменили расстрел на десять лет тюрьмы, Борис Савинков затосковал. Он-то надеялся на полную реабилитацию. Более того, в письме Дзержинскому добивался, чтобы его выпустили и дали особо важную работу.
Не сочтите за анекдот, но однажды на допросе у Артузова (было это уже после приговора суда) Борис Викторович сказал: «Если предложите мне выполнять какую-то работу, я готов. Однако поймите меня правильно, Артур Христианович, пойти на вашу должность начальника контрразведки будет для меня маловато, нужно что-то другое».
Савинков был незаурядным человеком и очень высоко ценил себя. А тут неволя. Конечно, тяжело. И это, несмотря на комфортные условия содержания. А жил Савинков во внутренней тюрьме Лубянки в камере, больше похожей на гостиничный номер. Там были ковры, .мягкая мебель. К нему некоторое время даже допускали жену на ночь. Зачастую обедать и ужинать возили в лучшие московские рестораны, а порой и за город – подышать свежим воздухом. ЧКон был нужен.
Савинков возбужден: «Когда же в конце концов решат со мной ? Любо пускай расстреляют, либо дадут мне работу». Черт его знает, может, действительно взыграли какие-то алкогольные градусы ? Ходит, ходит, и вдруг раз —резко из окна вниз головой. Недаром же был террористом. Навыки-то еще те. Григорий, хоть и произошло все внезапно, успел схватить его за ноги. Сильный был человек. Ноу Сыроежкина одна рука чуть слабее: в молодости был неплохим борцом и в схватке на ковре сломал руку. Удерживал, и тут его потянуло вниз, вместе с Савинковым. Тот килограммов 80 весил. Как можно удержать человека, который уже наклонился туда ? Сыроежкину кричат: отпускай, полетишь за ним. Не удержал. И Савенков полетел с пятого этажа... Разбился сразу и насмерть. Остальные рассказы будто чекисты его сбросили сами или сначала убили, а потом выбросили из окна – ложны. Гриша сделал все, что только мог. Очень все получилось неожиданно. Он, Савинков, был все-таки личностью. Но на следующий день вся эта оперативная группа шестого отделения – в шоковом состоянии. Упустили Савинкова! Мы же понимали, какой это удар. Заподозрят, будто его сбросили. Ну зачем было его сбрасывать, когда могли приговорить к расстрелу ?Не расстреляли, дали десять лет, так зачем его уничтожать таким путем? И мы, конечно, получили нагоняй от начальства».
Действительно, роковая череда случайных ошибок, от которых никто не застрахован. Дело в том, что через пятый этаж было гораздо удобнее увести именитого пленника во внутреннюю тюрьму. Именно поэтому Савинкова и привели. Интересна и история с кабинетом № 192. В нем был очень низкий подоконник. До вселения в этот дом ВЧК его вообще не было. Был балкончик, который кому-то потребовалось снять.
Однако верится во все это с трудом. Савинков был, если можно так сказать, верным паладином культа смерти. Но собственную смерть никогда не торопил и жизнь свою берег. Дьявол всегда кроется в деталях. А именно их почему-то упорно не хотят принимать во внимание. Начать хотя бы с сущего пустяка: проверить метеосводки. Действительно ли в тот день в Москве была такая страшная духота, что была необходимость держать окно распахнутым? Напомню, что была уже почти полночь, а в мае в столице не всегда так уж и жарко.
Было бы неплохо также узнать высоту подоконника в том самом кабинете. Савинков никогда физкультурой не занимался, в последние годы и вовсе вел диванный образ жизни. Вот и остается вопрос: как мог уже немолодой и невысокий Савинков без разбега и подготовки перепрыгнуть подоконник одним прыжком. Больше того, каким это образом Сыроежкину, который сидел за столом, удалось в доли секунды выскочить из-за него и успеть схватить Савинкова за ноги?
И потом, с каких это пор царицынский парк стал рестораном?
После гибели Савинкова было немедленно проведено служебное расследование. Оно еще больше запутало дело. Показания свидетелей разнятся по принципиальным вопросам. К примеру: кто и где сидел? Где находился Савинков? В документах ОГПУ написано: ходил по комнате, подходил к окну А вот у следователя почему-то отмечено: сидел за круглым столом напротив одного из чекистов. Сыроежкин якобы успел схватить его за ноги. Замечательно. Остался только один вопрос: а почему он сам не упоминает о таком немаловажном факте в своих показаниях? Да и вообще вся палитра красок в этом деле страдает исключительной несовместимостью. Человек предается сладостным воспоминаниям о юности, а потом, словно заправский олимпиец, «берет высоту» и падает с пятого этажа...
Я склоняюсь к мысли, что Савинкова убили. Давайте рассуждать логично. Он был враг. Его раскаяние на суде никого и ни в чем не убеждало по определению. Больше того, оно предназначалось только русской эмиграции. Ей требовалось внушить, что даже такие лютые ненавистники большевизма могут осознать свои ошибки. Савинкова пора выводить из игры. Можно было бы поступить по сценарию с Рейли, но повторяться профессионалы считают ниже своего достоинства. Долго искали выход из создавшегося положения и все-таки нашли...
Его нельзя было взять и расстрелять, как рядового боевика. Ведь суд помиловал Савинкова в обмен на его признание советской власти. Это очевидный момент. Даже продолжение следствия по «вновь открывшимся обстоятельствам» подрывало бы репутацию суда, и без того тогда крайне низкую, в глазах мирового сообщества. Не говоря уже про попытку поставить Савинкова к стенке. Еще более очевидный момент, что Савинкова нельзя было пристрелить, как Сиднея Рейли (о нем я подробно расскажу во второй части этой книги). Он был нужен, чтобы демонстрировать все тому же мировому сообществу, что вакханалия красного террора сменилась цивилизованным судопроизводством. Его не случайно водили по ресторанам и театрам. Все должны были видеть: советская власть умеет не только безжалостно карать, но и великодушно миловать. Ему ведь разрешали даже писать письма за границу. «5 мая 1925 года. Внутренняя тюрьма. Москва.
Милая моя Танечка и милый мой Алешенька, вы меня очень порадовали своими карточками. Я так и знал, что у меня очень красивая дочка и очень умный внук. Последнее я заключаю по «как искры» глазенкам и по серьезному и достойному выражению лица... Через три месяца Алешенька будет ходить, а через шесть – говорить. Тогда, Танечка, и настанет самое очаровательное время. Когда ты была такая, как Алешенька, я сидел в тюрьме. И теперь то же самое. Кому что. Но Алешеньке про тюрьму ничего не говори, а поцелуй его в глазки и скажи на ушко, что старый хрен дедушка его очень любит и хочет, чтобы он вырос большой-пребольшой, умный-преумный и сильный-пресильный... Ваш отец и дед Б. Савинков».
Но это не отменяло необходимости ликвидировать Савинкова. Выход мог бы только один: самоубийство. Эмиграция, равно как и мировое сообщество, зная импульсивность бывшего террориста, охотно в это бы поверила. Что, собственно, и произошло.
Да и Григорий Сыроежкин, собственноручно добивший Сиднея Рейли, как-то не очень смахивает на человека, готового спасти лютого врага большевизма. Вот убить его – другой разговор. Поэтому склонен думать, что он не вытаскивал Савинкова за ноги из окна, а, наоборот, выталкивал его...
Когда принесут мой гроб, Пес домашний залает, Жена поцелует в лоб,
А потом меня закопают. Глухо стукнет земля, Сомкнётся желтая глина, И не станет того господина, Который называл себя Я...
Такой еще в начале века виделась Савинкову собственная смерть. Эти стихи очень понравились его соратникам по Боевой организации. Вот только жизнь внесла свои коррективы...







