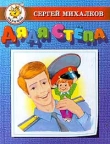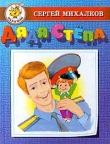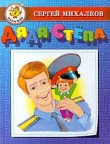Текст книги "О маленьких – для больших"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Мой первый дебют
Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.
Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни – и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.
Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники – люди с более хрупкими организмами – заболевают прочно и навсегда.
Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.
* * *
Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.
Встречаю в ресторане одну знакомую даму – очень недурную драматическую артистку.
– Что это, – спрашиваю, – у вас такое лицо расстроенное?
– Ах, не поверите! – уныло вздохнула она. – Никак второго любовника не могу найти…
«Мессалина!» – подумал я с отвращением. Вслух резко спросил:
– А разве вам одного мало?
– Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте… может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?
– Мое сердце занято! – угрюмо пробормотал я.
– При чем тут ваше сердце?
– При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность…
Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.
– Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством… над девушкой, которой вы даже, не знаете, то… то…
– Да позвольте, – сказала она, утирая выступившие слезы. – Вы когда-нибудь играли на сцене?
Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:
– Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена – моя жизнь».
– Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?
– Еще бы! Это такие… которые… Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите…
Она встала с видом разгневанной королевы:
– Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!.
Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и четыре человека.
– В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев, – вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?
Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:
– Сколько раз!
– Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.
Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!
* * *
Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.
Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.
А в роли эти необходимые элементы отсутствовали. Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора:
Явление 6
Ард. В экипажах и пешком. А княжна Мэри.
Ард. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
Ард. Его нужно пить.
Это вы так о ней выражаетесь…
Ард. Капризам.
В таком случае я способен переступить все границы.
Гриб. Две чечетки. Надо быть во фраке.
Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..
Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.
– Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?
– Знаю.
– Что же? Скажи, голубчик!
– Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.
– По ком? – боязливо спросил я.
– До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.
Ушел я успокоенный.
На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:
– Ах, как подает! Чудо!
Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя:
– Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали – так с ума сойти можно.
Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.
Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:
– Ах, я ни за что не выйду замуж!
– Это не ваши слова, – сонно заметил суфлер. – Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».
Дочка рабски повторила это тяжелое решение. В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.
* * *
– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.
– Видите ли… Я вам сейчас объясню… Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины…
– Понимаю-с, – сказал парикмахер, тряхнув волосами, – блондинистый городской паричок.
– А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.
– Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.
– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.
Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска – я совершенно не постигал.
Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки – задумался.
Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.
«Эх! Приклеить бы седую бороду – вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды – ограничимся усами».
Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.
* * *
В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.
– А вот и я! – весело вскричал я, выскочив на чтото ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.
– А, здравствуйте, – пропищала инженю. – Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку – я ее убью!..
Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.
Она, видимо, растерялась.
– Позвольте… А где же ракетка?
– Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну, как поживаете?
– Сошло! – пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы. – До седьмого явления можно и закурить.
* * *
– Вам выходить! – прошипел помощник режиссера.
– Знаю, не учите, – солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.
И вдруг… сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.
– Вам выходить!!!
Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.
Первые мои слова должны быть такие:
– Граф отказал, мамаша.
Я решил видоизменить эту фразу:
– А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?
Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:
– Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.
– Он осмелился?! – охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол. – Где же совесть после этого?
Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.
* * *
В третьем акте мои первые слова были:
– Он сейчас идет сюда.
После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось. Граф не шел.
Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.
– Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь, – сказал я, покойно усаживаясь в кресло.
Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.
– Он, уверяю вас, придет сейчас! – заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке. Граф не шел.
– Что это, мамаша, вы взволнованы? – спросил я заботливо. – Я вам принесу сейчас воды.
Вылетел за кулисы и зашипел:
– Где граф, черт его дери?!!
– Ради Бога, – подскочил помощник, – протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.
Я пожал плечами и вернулся.
– Нет воды, – грубо сказал я. – Ну и водопроводец наш!
Мы еще посидели…
– Мамаша! – нерешительно сказал я. – Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное…
Она удивленно и растерянно поглядела на меня.
– Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами… Кончается!
Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.
Мы помолчали.
– Да… – неопределенно, протянул я. – Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи… Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная… так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель – Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая – еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который…
– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.
– А, граф, – вскочил я. – Ну, как ваше здоровье? Как голова?
– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – строго повторил граф, игнорируя меня.
– Я рад, что вы дешево отделались, – с удовольствием заметил я.
Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:
– Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.
Он вытащил меня за кулисы и сказал:
– Вы что?!. Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?
– Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.
– Выходите! – прорычал режиссер.
* * *
Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью.
В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и… не нашла револьвера.
Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:
– Нет револьвера: что делать?
– Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу.
Я отошел от нее, схватился за голову и простонал:
– Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.
– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.
* * *
Нас вызывали.
Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над беззащитной публикой.
Индейка с каштанами
Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:
– Василь Николаич, там твой племянник, Степа, пришел…
– А зачем?
– Да так, говорит, поздравить хочу.
– А ну его к черту.
– Ну, все-таки неловко – твой же родственник. Ты выйди, поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.
– А ты сама не можешь его принять?
– Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за индейкой присматривай, я и твоих племянников принимай?..
– Да, кстати, что же будет с индейкой?
– Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку позвал, и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не разорваться же ей… Распорядился – нечего сказать!!
– А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?
– Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к столу пол-индейки подает?
– Гм… да… Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий Степа – давай его сюда!
– Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит. Позвать?
– Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.
В кабинет вошел племянник, Степа, – существо, совсем не напоминающее распространенный тип легкомысленных, расточительных, элегантных племянников, пользующихся родственной слабостью богатого дяди.
Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глазами и такой впалой грудью, что, ходи Степа голым, – в этой впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.
Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка на три больше, чем это допустил бы легкомысленный племянник из великосветского романа, а карманы пиджака так оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на коленях тоже были чудовищно вздуты, как сочленения на индусском бамбуке.
Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко, что являлось подозрение: не всползли ли брови в один из периодов изумленности Степы кверху и не смешались ли там раз навсегда с головными волосами? В ущельи, между щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, будто конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы и широких мощных ноздрей…
Таков был этот бедный родственник Степа.
– Ну, здравствуй, Степа, – приветствовал его дядя. – Как поживаешь?
– Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю всего, всего… этого самого.
– Ага, ну-ну. А ты, Степа, тово… Гм! Как это говорится… Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?
– Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать. Ведь первый день Рождества. Все закрыто.
– Ага… Закрыто… Вот, брат Степан, история у меня случилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?
– Да, положение ваше ужасное, – покорно согласился Степа. – А вы сегодня скажите, что больны…
– Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.
– А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.
– А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть, что тогда?.. Нет, надо так, чтобы индейку они видели, но только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она опять, как живая.
– Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже сыты и что индейку резать не надо…
Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на племянника и вдруг весь засветился радостью…
– Степа, голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь родственник, ты – свой, тебя стесняться нечего – поддержи, Степа, а? Подними ты свой голос против индейки.
– Да удобно ли мне, дядюшка… Вид-то у меня такой… не фельтикультяпный.
– Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухаживать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут индейку – ты и рявкни, этак посолиднее: «Ну зачем ее резать зря, все равно никто есть не будет, все сыты – уберите ее».
– Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.
– Ну, большая важность. Не вслух же. А может быть, и просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя, настаивать, а ты упрись, да еще поторопи, чтобы унесли индейку, а то, неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это, действительно, номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь. Садись, Степанеско!
– Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, – сказал Степа, критически и с явным презрением оглядывая свои заскорузлые сапоги. – А вы мне лучше ботинки свои какие-нибудь дайте. А то я совсем тово…
– Ну, конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры… Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-хе… А ты, брат, не дура, Степанадзе… И как это я раньше не замечал?.. Решительно – не дурак.
* * *
Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу:
– А вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодорович! Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или наливочки?
Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну о другую и хлопнул большую рюмку водки.
– У меня есть знакомый генерал, – заявил он довольно громко, – так этот генерал водку закусывает яблоком!
– Это какой генерал, – заискивающе спросил дядя, – у которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?
– Нет, то – другой. То мелюзга, простой генералмайор… А вот в Европе, знаете, – совсем нет генералов! Ей-бо право.
– А вы там были? – покосился на него сосед.
– Конечно, был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь. В опере бываю часто. Вообще не понимаю, как можно жить без развлечений.
Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил, – дядя не оборвет его – все это приятно возбуждало Степу.
– Да-с, господа, – сказал он, с дикой энергией прожевывая бутерброд с паюсной икрой. – Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать! Беречь нужно Митюкова.
– Стефан Феодорович, – ласково сказал дядя, – возьмите еще пирожок к супу.
– Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, супу не едят… А возьмите, например, мадам, они вас по уху съездят – дверей не найдете. Честное слово.
Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.
Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил очень уверенно:
– Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут говорить, и еще много кому испортит крови Митюков! Да что толковать – у Митюкова, конечно, есть свои завистники, но… Митюков умственно топчет их ногами.
– Позвольте… да этот Митюков… – начала одна дама.
– Ну?
– Кто он такой, этот замечательный Митюков?
– Митюков? Я.
– А-а… А я думала – кто.
– Митюкова трудно раскусить, но если уж вы раскусили…
В это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и сказал самым великосветским образом:
– Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно! Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа?! Не стоит ее и начинать, индейку. Не правда ли?
Все пробормотали что-то очень невнятное.
– Ну да! – вскричал Степа. – То же самое я и говорю. Не стоит ее и начинать! Унесите ее, ей-богу.
– А, может быть, скушаете по кусочку, – нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом. – Индеечка будто хорошая… С каштанами.
Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке.
– Вы говорите, с каштанами?! – странно прохрипел он.
Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал:
– Ну, если все отказываются – придется унести.
– С каштанами?! – простонал Степа, полузакрыв глаза. – Ну, раз с каштанами, тогда я… не откажусь съесть кусочек.
Нож дрогнул в руке хозяина… Повис над индейкой… Была слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил – унесите!
Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае… Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, он скомандовал:
– Вот мне, пожалуйста… От грудки отрежьте и эту ножку…
– Пожалуйста, пожалуйста – сделайте одолжение, – дрогнувшим голосом сказал хозяин.
– Тогда уж, раз вы начинаете – и мне кусочек, – подхватила соседка Степы, не знавшая, что такое Митюков.
– И мне! И мне!..
А когда (через две минуты) на блюде лежал унылый индейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе:
– Ах, да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон… Извините, господа.
Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюшачью ногу…
Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном, но едва дверь кабинета за ними закрылась – тон его переменился.
Вышло, приблизительно, так:
– Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может… Да оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий своеобразный ум, что… Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом и котлетами не кормил? Думал, до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья? Уже все гости, было, отказались, а ты тут, каналья, вот так и выскочил, а?
Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди, и говорил плачущим голосом:
– Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел… Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу: каштаны! каштаны!
– Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай.
Дядя выхватил из Степиной руки обгрызанную ногу и злобно шлепнул ею Степу по щеке:
– Чтоб духом твоим у меня не пахло!!
– Дядя, вы насчет же ботинок говорили…
– Что-о-о-о??! Марина, проводи барина! Пальто ему!
* * *
Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим, коротким воротничком осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как юркий бес, вертеться вокруг печального Степы… Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла…
Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на прохожих, и молчал, а о чем думал – неизвестно.