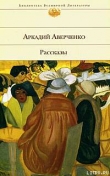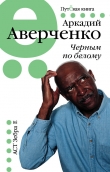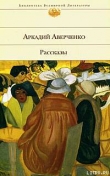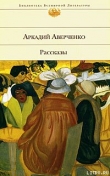Текст книги "Хлопотливая нация (сборник рассказов)"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Замечательный человек
I
Однажды я зашел в маленькую, полутемную типографию с целью заказать себе визитные карточки. В конторе типографии находилось двое людей: конторщик и полный, рыжий господин с серьезным, озабоченным лицом.
– Меньше ста штук нельзя, – монотонно говорил конторщик. – Меньше ста штук нельзя. Нельзя меньше ста штук.
– Разве не все равно: сто или шесть штук? Куда мне сто? Мне и шести штук много.
– Шесть штук будут стоить то же, что и сто. Что же за расчет вам? Что же за расчет?.. Вам-то – какой расчет? – спрашивал печально и лениво конторщик.
– Ну ладно! Печатайте сто, только так: пятьдесят штук одного сорта и пятьдесят штук – другого.
– На разной бумаге?
– Нет – я говорю, разного сорта. На одних напечатайте так: «Светлейший князь Иван Иванович Голенищев-Кутузов», а на других просто: «граф Петр Петрович Шувалов». Ну там коронки разные поставьте, вензеля – как полагается.
Я с любопытством смотрел на этого представителя знаменитейшей дворянской русской фамилии и только немного недоумевал в душе: какая же из двух фамилий принадлежала озабоченному господину?
– Будьте добры напечатать мне сотню визитных карточек, – сказал я, приближаясь к конторщику, – моя фамилия – Александр Семенович Пустынский.
Незнакомый господин издал легкий звук, похожий на радостное икание.
– Пустынский?! Вы и есть знаменитый писатель Пустынский?
– Ну уж и знаменитый!.. – сконфузился я. – Так просто… пишу себе.
– Нет, нет! – захлопотал озабоченный господин. – Не оправдывайтесь! Вы – знаменитый писатель. Очень рад познакомиться!
– Вы меня смущаете, – улыбнулся я, пожимая его руку. – А как ваша фамилия: князь Голенищев-Кутузов или граф Шувалов?
– Перетыкин Иван моя фамилия – вот как! Не слышали? У меня еще деда повесили за участие в великой французской революции.
– Вы – Перетыкин?! А зачем же вы такие карточки заказывали?
Мне показалось, что он немного смутился.
– А?.. Это так… Маленькое пари… Шутка… Можно вас проводить? Нам, кажется, по пути?..
Мы вышли из типографии и зашагали по безлюдной улице.
– Пойдем налево, – сказал Перетыкин. – Там народу больше.
Мы свернули на шумный проспект. Навстречу нам шли два господина. Мой новый знакомый схватил меня под руку и почти прокричал на ухо:
– От Леонида Андреева писем давно не получали?
– Я? Почему бы мне получать от него письма? Мы даже не знакомы.
Мы молча зашагали дальше. Навстречу нам показались две дамы.
– Отчего не видел вас во вторник у Лины Кавальери? Она ждала, ждала вас!..
Проходившие дамы, заинтересованные, замедлили шаги и даже повернули в нашу сторону головы. Одна что-то шепнула другой.
– Зачем вы это спрашиваете? – удивился я. – Никогда моя нога не была в ее доме. Может быть, она ждала когонибудь другого?..
– Может быть, может быть, – устало, равнодушно пробормотал Перетыкин, но, завидев впереди какого-то знакомого, оживился и громким голосом дружелюбно закричал: – Заходите ко мне когда угодно, Пустынский! Для знаменитого писателя Пустынского у его приятеля Перетыкина всегда найдется место и прибор за столом!
Я стал понимать вздорную, суетную натуру Перетыкина. Перетыкин начинал действовать мне на нервы.
Я промолчал, но он не унимался. Когда мимо нас проходил какой-то генерал с седыми подусниками и красными отворотами пальто, мой новый знакомый приветственно махнул ему рукой и крикнул:
– Здравствуй, Володя! Как поживаешь? Совсем забыл меня, лукавый царедворец!..
Генерал изумленно посмотрел на нас и медленно скрылся за углом.
– Знакомый! – объяснил Перетыкин. – Зайдем ко мне. У меня есть к вам большая просьба, которую я могу сказать только дома.
– Хорошо. Пожалуй, зайдем. Только – ненадолго, – согласился я с большой неохотой.
II
Он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами.
– Вот мой музей, – сказал Перетыкин, подмигнув на стену. – Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием!..
Действительно, большинство портретов, с наиболее лестными автографами, принадлежало известным, популярным именам.
На портрете Чехова было в углу приписано:
«Человеку, который для меня дороже всех на свете – Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память».
Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно:
«Моему amico Джиованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Браво, Ваня!»
Немного удивили меня теплые, задушевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу, со сложенными на груди руками.
– Садитесь, – сказал Перетыкин.
Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знакомые имена: Ф. И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев…
Даже, откуда-то снизу, выглянула скромная карточка с таким текстом:
«Густав Флобер – французский литератор».
Я улыбнулся про себя, вспомнив о «графе Шувалове» и «Светлейшем князе Голенищеве-Кутузове», и спросил:
– Какое же у вас ко мне есть дело?
Он взял с этажерки одну из моих книг и подсунул ее мне:
– Напишите что-нибудь. Такое, знаете: потрогательнее.
– Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы – что же я могу написать? Ну, написать вам: «На добрую память»?
Он задумчиво поджал губы.
– Суховато… Вы такое что-нибудь… потеплее.
Я пожал плечами, взял перо и написал на книге:
«Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей, с гениальным проникновением открывших меня, – милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Сашу!»
Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с бриллиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно.
Я упорно не замечал кольца.
Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем:
– Плохие времена мы переживаем… Вера в народе стала падать…
– Да, ужасное безобразие!
– Народ не ценит своих святынь… Церкви подвергаются разграблениям… Драгоценные иконы ломаются и расхищаются…
– Да, ужасное безобразие!
– Недавно, например, обокрали икону… Унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание: размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце…
– Школы нужны, – перебил я его на совершенно неподходящем для него месте.
Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой.
– Это верно. Нужны школы, а говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо… Вы знаете, сколько я за него заплат…
– Нет, что там налоги! Главное – режим, – опять перебил я его.
Я насквозь видел все его штуки: он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим.
– Вы говорите – режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха! Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босяка вот такое кольцо, а ведь это кольцо, батенька, стоит…
– Босяки здесь ни при чем. Они сами бы…
Он схватил меня за руки и скороговоркой докончил:
– …Стоит две с половиной тысячи! Да-с! Небольшая вещица, а заплочено две с половиной тысячи!! Хе-ха!..
Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости.
Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.
Он упорно хотел, чтобы я заинтересовался этими часами, а я упорно не хотел интересоваться ими. Встал и сказал:
– Пойду. Кстати, каким это образом у вас на фотографическом портрете Пушкина его автограф?..
– Этот? Это я получил от него давно. Когда еще был мальчиком…
– Изумительно! – удивился я. – Да ведь Пушкин уже умер лет семьдесят тому назад.
Призадумавшись, он ответил:
– Да, действительно что-то странное. Впрочем, это, кажется, его сын подарил. Не помню. Давно было. Ну, ничего!
Я еще хотел спросить: как это покойник в гробу, со сложенными руками, мог дарить свои автографы на портретах, изображающих его в этой скорбной, печальной позе, – но не спросил и ушел.
Перетыкин проводил меня до ворот и, увидев проходившую мимо даму с господином, крикнул мне вдогонку:
– Когда будете проезжать Бельгию – привет и поцелуй от меня Метерлинку! До свидания, Пустынский! Напишите что-нибудь замечательное!!
Прохожие оглянулись.
III
Недавно я встретил на улице погребальную процессию. Сзади катафалка шли человек двадцать родственников, а за ними, немного поодаль, брел Перетыкин. Он часто подносил к красным глазам платок, заливался обильными слезами, чем растрогал меня до глубины души. Очевидно, у этого человека, кроме смешных, нелепых слабостей, было большое сердце.
Я подошел к нему и деликатно взял его под руку.
– Успокойтесь! Вы кого-нибудь потеряли? Это ужасно, но – что ж делать!
Он печально покачал головой.
– Не утешайте меня! Я все равно не успокоюсь!! Эта потеря незаменима.
– Кто же это умер?
– Кто? Мой лучший друг! Я все ночи напролет просиживал у его изголовья, но – увы! – ни дружба, ни медицина ничего не могли поделать… Он угас на моих руках. Последние его слова были: «Ничего! Все-таки я кое-что сделал для родной литературы!»
– А! Он был литератор? Как же его звали? Он укоризненно посмотрел на меня:
– Боже мой! И вы не знаете?! Вы не знаете, кого мы потеряли?! Кто умер? Достоевский умер! Наша гордость и близкая мне душа.
– Что за вздор! Достоевский умер лет двадцать тому назад! Я это знаю наверное!..
Он смущенно посмотрел на меня.
– Не… может… быть… Эй, как вас? Родственник! Как фамилия покойника?
– Достоевский! – ответил плачущий родственник.
– Ага! Вот видите!
– А кем он был при жизни? – спросил я.
– Он? Письмоводителем у мирового судьи! Совсем молодым человеком и помер.
Перетыкин вынул из кармана платок, тщательно утер глаза и равнодушно сказал мне:
– Пойдем куда-нибудь в ресторанчик. Дотащутся и без нас!..
Мимо нас прошли два офицера. Перетыкин проревел им вслед:
– Пустынский, плутишка! Не забудьте же воспользоваться той темой для рассказа, что я вам дал.
Я рассмеялся. Дал ему слово воспользоваться, и сделать это теперь же, не откладывая дела в долгий ящик.
Американец
В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.
Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.
Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.
Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.
– Драсти.
– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
– А вы откуда будете?
– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
– Верстов восемь будет отселева…
Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:
– Ничего вам не потребуется?
– А что?
– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
– Да ты кто такой?
– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.
– Эту землю арендуешь?
– Так точно.
– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло – ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.
– Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?
– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.
– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?
– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должон хлеб свой соблюдать.
Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один бурелом да сухостой.
– Так с чего ж ты живешь?
– Дачниками кормлюсь.
– Работаешь на них, что ли?
Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.
– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.
– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.
– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят! Баб обожаете?
– Что?
– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.
– Ну?
– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.
– Кого?!!
– А это мы вам сейчас скажем – кого… Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость. Долго что-то соображал.
– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам, кроме губернанки, профиту никакого, потому сама худа как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все – да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?
– Черт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.
– Действительно, – согласился мужичонка – Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.
– У кого?
– А у дачников.
– Вот у тех, что за рекой?
– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.
– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?! Мужичонка почесал затылок.
– Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина… Мало ли…
– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?
– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.
– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?
– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить, гляжу: что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.
– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?
– Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы… – живи не хочу!
Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил:
– А хорошо видно?
– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?
– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?
– Никак это не возможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на рупь шестьдесят!
– Это еще что за расчет?!
– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было…
– А ну-ка… ты… тово…
– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли молодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.
…………………………………………………………………
Смеркалось…
Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:
– Сколько с меня?
– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.
– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.
– Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да…
– Ну ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!
– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!.. И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:
– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!
Спиртная посуда
I
крушение надежд
– Знаете, Илья Ильич, гляжу я на вас – и удивляюсь. Как вы это, доживши до сорока лет…
– Что вы! Мне пятьдесят восемь.
– Пятьдесят восемь?!! Это неслыханно! Никогда бы я не мог поверить – такой молоденький!.. Так вот я и говорю: как это вы, доживши до… сорока восьми лет, сумели сохранить такую красоту души, такую юность порывов и широту взглядов? В вас есть что-то такое рыцарское, такое благородное и мощное…
– Вы меня смущаете, право…
– О, какое это красивое смущение – признак скромной девичьей души! И потом, вы знаете, ваше уменье говорить образными, надолго западающими в сердце фразами – как оно редко в наше время!
– Ну что вы, право!
– Ну вот, например, эта краткая, но отчеканенная, отшлифованная, как бриллиант, фразочка: «Ну, что вы, право». Сколько здесь рыцарской застенчивости, игривого глубокомыслия, детской скромности и умаления себя! А ведь фразочка – короче воробьиного носа. «В немногом многое», как говорил еще Герострат. Неудивительно, что беседа с вами освежает. Потом, что мне нравится – так это ваши детки, умные, скромные и такие способные-преспособные. Например, старшенький – Володя. Помилуйте! Ведь это образец! Кстати, что это его не видно…
– В тюрьме сидит, за растрату.
– Ага… Так, так… Ну, дай Бог, как говорится. Младшенький тоже достоин всякого удивления. Вся гимназия, как говорят, не могла на него надышаться…
– Теперь уже она может надышаться. Вчера его только выгнали из гимназии, за дебош.
– Ага… Ну, так о чем я бишь говорил? Да! Какая черта вашего характера кажется мне преобладающей? А такая: что вы готовы последним поделиться с ближним. Например: на прошлой неделе вы как-то вскользь сказали мне, что у вас есть бутылка водки. И что же! Приди я к вам сейчас и скажи вам: «Илья Ильич! У меня завтра обручение дочери и именины жены – уступите мне свою бутылочку» – да ведь вы и слова не возразите. Молча пойдете в свое заветное местечко…
– Нет, простите, водки я вам дать не могу.
– Это еще почему?
– Не такой это теперь продукт. Отец родной если будет умирать – и тому не дам. Так что уж вы того… Извините… Жену могу отдать, детей, а с бутылочкой этой самой не расстанусь.
– Очень мне нужен этот хлам – ваша жена и дети! А ято, дурак, перед ним, перед сквалыгой, скалдырником, разливаюсь. Только время даром потерял. И что это за преподлый народишко пошел!! Что? Руку на прощанье? Ногу не хочешь ли? Отойди, пока я тебя не треснул!..
II
великосветский роман
– Баронесса! Вы знаете, что мое сердце…
– Довольно, князь! Ни слова об этом. Я люблю своего мужа и останусь ему верна.
– Ваш муж вам изменяет.
– Все равно! А я его люблю.
– Но если вы откажетесь быть моею, я застрелюсь!
– Стреляйтесь.
– А перед этим убью вас!
– От смерти не уйдешь.
– Имейте в виду, что вашим детям грозит опасность.
– Именно?
– Если вы не поедете сейчас ко мне, я принесу когданибудь вашим детям отравленных конфет – и малютки, покушав их, протянут ноги.
– О, как этот изверг меня мучает!.. Но…. будь что будет. Лучше лишиться горячо любимых детей, чем преступить супружеский долг.
– Ты поедешь ко мне, гадина!
– Никогда!
– А если я тебе скажу, что у меня в роскошной шифоньерке с инкрустациями стоит полбутылки водки с белой головкой?!!
– Князь! Замолчите! Я не имею права вас слушать…
– Настоящая, казенная водка! Подумайте: мы нальем ее в стаканчики толстого зеленого стекла и… С куском огурца на черном хлебе…
– Князь, поддержите меня, я слабею… О, я несчастная, горе мне! Едем!!
Через две недели весь большой свет был изумлен и взбудоражен слухом о связи баронессы с распутным князем…
………………………………………….
О проклятое зелье!
III
за столом богатого хлебосола в – будущем
– Рюмочку политуры!
– Что вы, я уже три выпил.
– Ну, еще одну. У меня ведь Козихинская, высший сорт… Некоторые, впрочем, предпочитают Синюхина и K°.
– К рыбе хорошо подавать темный столярный лак Кноля.
– Простите, не согласен. Рыба любит что-нибудь легонькое.
– Вы говорите о денатурате? Позвольте, я вам налью стаканчик.
– Не откажусь. А это что у вас в пузатой бутылочке?
– Младенцовка. Это я купил у одного доктора, который держал в банках разных младенцев – двухголовых и прочего фасона. Вот это вот – двухголовка, это – близнецовка. Это – сердценьянцевка. Хотите?
– Нет, я специальных не уважаю. Если позволите, простого выпью.
– Вам какого? Цветочного, тройного? Я, признаться, своими одеколонами славлюсь.
Гость задумчиво:
– А ведь было время, когда одеколоном вытирали тело и душили платки.
– Дикари! Мало ли что раньше было… Вон говорят, что раньше политуру и лак не пили, а каким-то образом натирали ими деревянные вещи…
– Господи помилуй! Для чего ж это?
– Для блеску. Чтобы блестели вещи.
– Черт знает, что такое. И при этом, вероятно, носили в ноздре рыбью кость?
– Хуже! Вы знаете, что они делали с вежеталем, который мы пьем с кофе?
– Ну, ну?
– Им мазали голову.
– Тьфу!